Текст книги "Гетера"
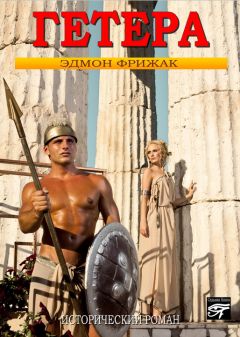
Автор книги: Эдмонд Фрижак
Жанр: Зарубежные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
Глава 6
В первые шесть дней празднования мистерий не произошло ничего особенного. Занималась заря седьмого дня, когда действие должно было быть перенесено в Элевзис, расположенный в семидесяти стадиях от Афин на спокойном берегу моря. В течение почти двух веков ни разу не было случая, даже во время смутного периода мидийских войн, чтобы священная процессия не отправлялась в знаменитый город, выстроенный на земле, на которой некогда созрели первые колосья хлеба, посеянного богами для людей. Но с тех пор, как в самом сердце Аттики королем Лакедемонии Агием была занята Децелия, священная процессия не развертывалась уже с прежней пышностью во всю широту дороги. Танцы, игры, церемония благословения хлебных полей не развлекали уже паломников в пути. Только одни избранные и жрецы добирались морем, и священные гимны в честь Бахуса распевались только на галерах.
Некогда эти празднества привлекали большое число иностранцев, потому что под предлогом съезда для участия в религиозных церемониях, устраивались большие торжества в течение шести дней в Афинах, а в последний седьмой день в Элевзисе. Пилигримы и торговцы съезжались и сходились со всех сторон, где жили греки: со всей Эллады, из Фессалии, из Египта, с отдаленных берегов Сицилии и Италии и с тихих берегов Ионического моря. Иногда, во время празднеств, в трех гаванях Афин собиралось от тысячи до полутора тысяч судов, не считая тех, которые, не находя для себя тут места, бросали якорь в Мегаре, в Коринфе или даже в безымянных заливчиках у берегов Саламина. Торговля, и без того уже находившаяся в упадке, благодаря войне, сильно страдала вследствие отмены празднеств. Затем, каждый год, когда наступало время празднеств, население роптало на своих военачальников. «Они не только не могут победить врагов, но не могут даже у себя дома, на своей земле, оградить от опасности народ, желающий воздать почести древним богам». В этих сетованиях слышалось не одно только сожаление о счастливых днях минувших времен. Подрывавшие веру в богов учения философов, несмотря на весьма доступное изложение их Сократом, совсем не проникли в душу народа: афинский народ все еще любил своих богов. Он любил их за их милосердие, за их могущество, за то, что в честь их устраивались такие великолепные торжества. Он любил их особенно за их очаровательные прегрешения, увеличенное подобие его собственных грехов. Он проявлял под их могущественным покровительством свою самобытность, свое мужество, свою веру в будущее, свое непостоянство, свои тревоги, свою врожденную страсть к развлечениям. Он знал, что эти боги предков смотрели, как на свои собственные, на его добродетели, на его пороки. Никогда еще народ не воздавал божеству почестей более торжественно, более благоговейно, чем в это время под влиянием порыва пробудившейся в нем искренней веры. Конону казалось, что он заслужит милость богов и похвалу людей, если сможет придать церемонии ее обычную торжественность. Переговорив предварительно с главными жрецами, он представил свой проект на одобрение великому иерофанту, а затем архонту Тесмотету оставалось только обнародовать эдикт, явившийся для всех полной неожиданностью.
Народ с восторгом принял известие о восстановлении древних обычаев; в течение этих шести дней ему была предоставлена полная свобода, и стражи пританов выходили из своих казарм только тогда, когда проливалась кровь. Народ овладел улицей; рабы покидали дома своих господ, и в городе царила полная разнузданность. В течение этих шести дней ни один гражданин, принадлежащий к знатной или даже только зажиточной семье, не осмеливался выходить из дома. Но на этот раз в криках ликующего народа слышалось еще и нечто другое, кроме необузданной жажды веселья. Процессия, которая должна была пройти по недавно еще пустынным, а теперь полным жизни местам, свидетельствовала бы в то же время о возрождающейся славе Афин и о могуществе покровительствующих им богов. Это служило бы подтверждением важного значения одержанной победы, это сулило бы близкое возвращение мира, – это были бы дубовые и масличные ветви для украшения статуй героев, признание первенства и удовлетворение чувства гордости – безумное ликование с песнями, плясками при ярком свете солнца. На восток, над синевшей на горизонте, резко очерченной линией холмов, протянулась длинная багряная полоса, соприкасаясь верхним своим краем с висевшим над ней облаком.
Над Афинами дым поднимался к небу; стаи ворон покидали свои ночные убежища в карнизах храмов и улетали на поиски пищи. Большинство из тех, которые не могли принять участие в процессии, еще с вечера накануне собрались у Священных ворот и провели ночь под открытым небом, разбившись на живописные группы, устроившиеся, как попало. Отряды гоплитов еще задолго до восхода солнца заняли все соседние высоты. Сильные отряды всадников уже в течение нескольких дней разъезжали по всей стране и защищали доступ в нее с севера.
Древний обычай требовал, чтобы те старцы, которых преклонный возраст или недуги лишали возможности совершить утомительное путешествие, присутствовали, по крайней мере, при отправлении процессии и, простирая руки, благословляли уходящих в путь. Утренняя заря застала их собравшимися на Дипилоне распростертыми в пыли перед статуей Бахуса. Когда последние ряды священной процессии исчезли за поворотом дороги, они поднялись и медленно направились к Акрополю, где они должны были докончить свою молитву. На всех были надеты белые гиматионы, складки которых, откинутые на плечо, обнажали правую руку.
Многие из этих старцев принимали участие в великой войне. Они видели Афины все в огне, видели разрушенные памятники, опустошенные дома, видели своих богов, покровителей их домашних очагов, попираемых ногами варваров. Покинув разрушенные стены своего города, они с мольбой устремили свои взоры на море и доверили ему судьбы своей униженной и побежденной родины. А там, на этих волнах, которые пылали в красном золоте востока, афинские галеры решали судьбу мира. Явился Кимон; затем Перикл – Афины воскресли из развалин – новый Парфенон увенчал Акрополь. И они, торжествуя на склоне своих дней, снова поднимались к изукрашенной статуе воинственной богини Афины с бархатными глазами, которую они считали бессмертной.
Священная процессия тянулась прямой и белой линией среди облаков пыли по дороге, окаймленной с каждой стороны двойным рядом памятников на могилах: одни, настоящие монументы, воздвигнутые благодарной памятью народа тем, которые прославили отчество афинян; другие, не менее великолепные, сооруженные частными лицами над прахом своих гордых предков.
Окруженная закованными в железо гоплитами, которые шли, опустив копья, огромная процессия медленно подвигалась вперед во всем своем великолепии. Впереди шли глашатаи с медными трубами; затем многочисленные ряды жрецов в блестящих шелковых одеждах, которые распевали монотонным голосом гимны в честь богини Деметры; затем длинная вереница гордо выступавших эфебов, которые поочередно несли на носилках, украшенных виноградными ветвями, тяжелую статую Бахуса; и, наконец, толпа молодых девушек во всем белом, окружавших калатос, в глубине которого покоилась статуя богини, невидимая под своим оранжевым покрывалом. Новая группа глашатаев замыкала процессию и отделяла ее от бесчисленного множества народа; потому что все те, которые не могли отправиться в Элевзис накануне, следовали теперь с религиозной процессией под охраной воинов.
Паломников собралось несколько тысяч, и они, распевая гимны, шли беспорядочной толпой вперемежку с ослами, лошадьми, носилками и четырехколесными повозками, в которых ехали целые семьи. В то время, как процессия двигалась по выжженной солнцем равнине, над ней поднимались облака пыли, которая затем медленно осаждалась. Вереск по краям дороги уже покрылся этой пылью; редкие кустарники исчезали под этим однообразно серым слоем. Когда пение гимнов прекращалось, топоту ног идущей толпы вторило пение стрекоз.
Не меньше, как на расстоянии стадии от хвоста процессии, следовал отборный отряд афинских всадников под предводительством Конона, который с горделивым видом вождя внимательно следил за всем происходившим.
Но когда после двухдневного перехода показались контуры Коридалля, природа внезапно изменила свой характер. Храм Афродиты высился белой колоннадой при входе в широкое ущелье, которое тянется до Элевзиса между лесистыми склонами Коридалля и Пециля. Вся равнина, по которой протекал, отливая серебром Кефис, представляла собой волнующееся море поспевающей жатвы: пожелтевшая рожь, усатый низкорослый ячмень и высокие стебли кукурузы со склонившимися метелками обещали щедро вознаградить земледельца за его труды. Между колосьями виднелись головки мака и васильки, те самые, которые собирала Кора, когда Гадес, набросившись на нее, унес ее бесчувственную в ад. А по краям, обозначавшим границы хлебных полей, тысячами расцветали запоздалые анемоны затем, чтобы прожить всего только один день под палящими лучами солнца. С высоты небес лилась звонкая песнь жаворонка; там и тут взлетали перепела и пугали лошадей.
Когда подошли к храму Аполлона, главный жрец остановился. Окружавшие его младшие жрецы пропели торжественный гимн, начинавшийся словами: «Ио, ио, Деметра». Все присутствовавшие опустились на колени. Глашатаи, повернувшись лицом к солнцу, затрубили в трубы. Затем принесли в жертву белую козу. Жрец обмакнул в свежей крови, обагрявшей жертвенник, зеленую масличную ветвь и, обведя широким жестом горизонт, окропил священной росой безмолвно дрожавшие колосья. Природа, соединившись с людьми, пела славу богине Деметре.
Тогда рабы, взятые в качестве погонщиков, подали повозки, и жрецы, девушки, старейшие из народа и все, кто чувствовал усталость, сели в повозки. Знамена и различные эмблемы сложили на длинные колесницы, специально для этого сооруженные.
Часов около пяти над кипарисами показались крыши соседних храмов Коры и Деметры. Затем, спустя немного времени, когда все могли уже считать себя в безопасности, Конон, последний из всадников, спрыгнул с лошади и снял с себя вооружение.
Рариа представляла собой открытый холм между двумя храмами, с которого видно было через широкий просвет убегающую к горизонту гладкую лазурь моря. В то время, когда это место было еще пустынно, Деметра останавливалась здесь некогда; принося в складках своей одежды ячмень и рожь, которые она хотела подарить своим афинским детям. И добрая богиня, находя место удобным, бросила тут на землю принесенные с собой зерна, которые в одну ночь взошли и покрыли своими близко сидевшими один к другому стеблями выбранную ею плодородную почву.
Теперь не только холм, но и все свободное пространство кругом него было покрыто шумной и пестрой толпой, волновавшейся, как морские волны. Мегаряне, коринфяне и даже пелопонессцы смешались здесь с жителями соседних селений, явившихся целыми семьями с женами, с детьми, с собаками и с рабами. На всех этих поселянах были одежды из материи темных цветов, прочные и грубые. Большая часть женщин, уступая непреодолимому желанию прикрасить себя, прикрывались плоскими зонтиками, сделанными из дубленой и разноцветной кожи, которой торговали в то время одни, только еврейские купцы; но некоторые из них, беднейшие, довольствовались простой соломенной шляпой. Все мужчины были с обнаженной головой и короткими волосами. На шее у них висело нечто вроде сумки, двойной открытый карман которой, приходившийся на груди, выдавался под плащом. Они наполняли эти сумки всем без разбора; прежде всего, конечно, кошелек, затем ножи, кремни и туда же опускали они пирожки с кашей, колбасы и фиги. Бродячие торговцы раскинули там и тут полотняные палатки, или же просто соорудили подобие шалашей из ветвей. Доска на двух бочках служила им прилавком; они продавали вино в глиняных амфорах и хмельные напитки из перебродившего меда. Иногда от жары выскакивала деревянная пробка из амфоры. Пенистая влага обливала окружающих. Мужчины смеялись, женщины убегали с криком, отряхивались, как мокрые пудели, и толпа, расступаясь и двигаясь, натыкалась на тела пьяниц, отсыпавшихся на солнце.
У самого храма толпа, все такая же плотная, была уже гораздо элегантнее, потому что она состояла большей частью из родственников и друзей участников мистерий. Из-за стен и через открытые отверстия в крышах слышалось пение. Иногда отворялась одна из боковых дверей и выпускала людей, молча выносивших наружу кого-нибудь из участников мистерий, потерявшего сознание или заболевшего. Это были почти всегда женщины, изнемогавшие от жары, или же пилигримы, лишившиеся сознания в то время, когда они лежали в состоянии экстаза у подножья алтарей. Служители жрецов клали их у стен храмов на стороне, – противоположной солнцу, или же под защитой тени, которую отбрасывал от себя какой-нибудь памятник.
С другой стороны храмов, за священной оградой, на пустыре, где росло несколько сосен и кипарисов, дававших тень, но не прохладу, расположились колесницы и носилки. Лошади и ослы дремали стоя. Волы, лежавшие с поджатыми ногами, молча жевали жвачку. Между ними, растянувшись друг возле друга, спали рабы. Женщины редко осмеливались заглядывать в эту сторону, потому что все одеяние рабов состояло из одной рубашки, которой они прикрывали себе голову. Они лежали на спине, совсем голые, на солнце, равнодушные к его лучам, а также и к укусам мух, которые тучами носились над ними.
В этом году собралось много народу из окрестностей, но зато чужестранцев было относительно мало. Одни только метеки, жившие в Афинах, в Коринфе или в Аргосе, разгуливали среди эллинов в своих ярких одеждах. Больше всего было мидян, которые торговали благовониями и выставляли на своих складных столиках, защищенных от солнца большими зонтиками, разные помады, притирания, средства для уничтожения волос, одежды всех цветов, желтые покрывала из тонкого виссона, вместе с пирожками из пшеничной муки, посыпанными сахаром и пылью.
Но самым шумным и самым оживленным местом была, конечно, широкая улица, которая шла между храмами и соединяла набережные новой гавани с узкими переулками древнего города. Все это длинное пространство было окаймлено лавками, и громкие голоса продавцов постоянно выкрикивали название, цену и способ употребления самых разнообразных товаров. Толпе поминутно преграждал дорогу то один экипаж, то другой; те, которые направлялись к гавани, сталкивались с теми, которые направлялись к городу. И от этой массы, такой плотной, что она казалась почти неподвижной, поднимались тяжелые испарения.
Немногие любопытные прогуливались по городу. Он был похож на все греческие города с низкими домами, выбеленными известью, в беспорядке теснившимися вдоль неровно и неправильно вымощенных улиц. В гавани, наоборот, число гуляющих все прибывало. Тут корабли всех размеров и всех видов стояли или на якоре, или привязанные за кольца к набережным. Одни, большие, но легкие с высокой наклоненной мачтой, с палубой только спереди, пришли с Кикладских островов или из Архипелага. Другие, более массивные, с широкими боками, тяжело сидели в воде. Эти знали все внутреннее море, начиная с заливов Сидра и Габеса, до изменчивых лагун заливов Иллирии. Один из них только что прибыл, выйдя накануне из Милоса. Толпа молодых и хорошеньких островитянок робко, с испуганными лицами сходила с корабля по колеблющейся доске, которая заменяла сходню. У некоторых из них лица были бледные, потому что море, такое спокойное в гавани, сильно волновалось на просторе, и большие волны окружали поясом пены скалистые берега Саламина. Все эти молодые женщины, запоздавшие вследствие дурной погоды, спешили сойти на твердую землю и сейчас же устремились в лавки сквозь толпу, все более и более оживлявшуюся и шумную. Так как насыпь была вымощена широкими, довольно хорошо пригнанными плитами, то пешеходы поднимали там меньше пыли, чем в другом месте, а довольно сильный ветер, появившийся к вечеру, освежал душный воздух. Благодаря этому, тут толпилось больше народу, чем где бы то ни было. Пришедшие сюда первыми сидели на парапетах и, свесив ноги, смотрели, как проходили мимо них прибывшие позднее. Тут были местные жрецы, хвастливо выставлявшие напоказ вышитое у них на груди изображение своего бога. Но было тут немало и таких, которые прибыли из менее знаменитых священных мест и теперь с завистью вычисляли, во сколько золотых талантов превратят их коллеги из Элевзиса народный энтузиазм. Крестьяне в кожаных сандалиях задевали локтями прекрасных куртизанок.
Молодые люди, завитые и надушенные, в туниках, развевавшихся, точно у женщин, дерзко присоединялись к философам, которых можно было узнать по их длинным бородам и небрежному костюму. Щеголи из Коринфа очень громко смеялись, держась за руки и заставляя любоваться своими пурпуровыми крепидами и волочившимися по земле плащами. Высокие носилки качались над головами. В них возлежали знаменитые гетеры или же жены богатых коммерсантов, благородных и важных сановников. Непочтительная толпа нехотя давала дорогу носильщикам, которые спокойно расталкивали ее на ходу.
Наконец, так как солнце склонялось уже к горизонту, резкий звон колокольчиков заставил всю эту суетящуюся и задыхающуюся от жары толпу поспешить к храмам.
В то же время Конон и афинские всадники выстроились на Рарии, насколько это позволяло нетерпение их лошадей. Все эти всадники были молодые люди из самых знатных семей, великолепно экипированные. На них были серебряные шлемы с красными султанами и яркими перьями. Стальная кованая кираса плотно облегала тело; набедренники из того же металла, привязанные к поясу, защищали их бедра. Тяжелый меч с блестящей рукояткой висел через плечо на широкой кожаной перевязи синего цвета. Все они сидели на горячих эпирских конях, держа поводья в руке, затянутой в железную перчатку. Следуя обычаю египетских всадников, ноги, обутые в бронзовые котурны, были вдеты в кольца из двойного ремня, перекинутого через спину лошади позади загривка. И у всех седлами были цельные шкуры диких зверей, красных ливийских пантер или серебристых волков с гор Фракии.
Конон держался немного впереди них. Он привесил шлем к поясу, и ни одна тень не омрачала гордой складки его губ. Смелый всадник, презиравший египетские моды, он, действуя одними шенкелями, мастерски управлял горячей лошадью, черной, как Эреб, с белой звездочкой на лбу. Видно было, как вздувались бока животного и как продолжительная дрожь пробегала у него по шее. И всадник, и лошадь, казалось, неразрывно были соединены друг с другом и были похожи на тех античных кентавров, которых художники того времени любили изображать на фризах священных монументов.
Вооруженные деревянными пиками глашатаи, с громкими криками и щедро раздавая направо и налево удары, прочищали дорогу. Низшие жрецы выстроились на ступенях храма. Они в такт звонили в колокольчики из кованого железа, которые с незапамятных времен возвещали непосвященным и об окончании мистерий, и о. выступлении процессии.
Массивные бронзовые двери, за которыми в глубине храма блестели, как золотые точки, красные огни восковых свечей, растворились настежь; и священная процессия тронулась в путь. Во главе шли участвовавшие в мистериях дочери чужестранцев, отцы которых имели право гражданства. Все они шли в самых нарядных костюмах своей родной страны. Нумидийки, закрытые до самого рта, позволяли видеть на своем бронзовом лице только голубоватый блеск своих глаз; ливийки из Киренаики, такие же темнолицые, как негритянки, но с более тонкими чертами и, как и те, в таких же ярких одеждах; каппадокийки с золотыми украшениями на головных уборах; фригийки, у которых красные гиматионы были наброшены на вышитые прозрачные одежды; этрусски, обвешанные великолепной работы драгоценностями из меди или из чеканного олова, и смуглые девушки из Тира и Сидона, которым связанные тонкими цепочками ноги позволяли двигаться медленно, мелкими шажками. Наконец, среди них, народ с любопытством рассматривал девушку странной и дикой красоты. В первый год минувшей олимпиады в Пирей прибыла безвесельная барка, скользившая по волнам, как морская змея, и высадила на берег целую семью варваров. Они прибыли из неведомой страны, лежавшей далеко за Геркулесовыми Столбами, о скалистые берега которой, усеянные рифами, с шумом разбивались клокочущие волны глубокого моря. Эти чужестранцы усвоили себе обычаи и веру эллинов, и дочь их поклонялась эллинским богам. Она не носила покрывала: у нее были такие же светлые волосы, как лучи Феба; ее белое платье, стянутое в талии шелковым шнурком, было сделано из очень тонкой ткани, такой же прозрачной, как драгоценный камень гиацинт.
Спереди, на груди, висел на невидимой цепочке золотой серп. Все эти молодые девушки шли медленным и мерным шагом. Они спускались по ступеням, останавливаясь на каждой из них, а когда они, наконец, собрались все на дороге, которая вела к гавани, их чистые голоса запели торжественные гимны.
Далеко за ними шли в три ряда восемнадцать глашатаев. Темно-синие одежды их были украшены вышитыми серебром атрибутами богини. Глашатаи предшествовали следовавшей за ними длинной процессии жрецов Деметры. Все эти жрецы принадлежали к древнему роду Цериксов. Поэтому число их бывало различно, но никогда не меньше ста. Длинные бороды, окрашенные у всех в одинаковый темный цвет, ниспадали им на грудь. Все они были одеты в белое. Поверх наброшенного на голову покрывала был возложен венок из маков и васильков. Каждый из них держал в руках сноп спелых колосьев со стеблями одинаковой длины, из середины которого выходил зажженный факел.
Иероцерикс, старейший из них, шел посредине. У него у одного была некрашеная, очень длинная и совсем белая борода. У него не было ни снопа, ни венка, но зато он величественно опирался на косу с коротким и блестящим лезвием, рукоятка которой из слоновой кости при каждом его шаге громко стучала о плиты.
Он протяжно пел мелонею, слова гимна Ивика:
«Женщины, девушки, дети, день траура кончился. Калатос возвращается с первым лучом, который посылает нам Гесперос».
Все остальные жрецы подхватили припев.
«Калатос возвращается: падите ниц! Непосвященные, падите ниц!
Всемирная кормилица, чудная матерь Кора, мы приходили к тебе, всемогущая, с верой прежних дней. Пошли нам жить всю нашу жизнь в согласии и в богатстве.
Калатос возвращается: падите ниц! Непосвященные, падите ниц!
Дай созреть хлебам в полях, дай корм нашим стадам, пошли нам урожай плодов, пошли нам урожай фиг, маслин и винограда.
Калатос возвращается: падите ниц! Непосвященные, падите ниц!
Великая богиня, будь нашей покровительницей. Прими наши жертвы и прости нам наши грехи.
Пусть всюду царит счастливый мир, пусть рука сеятеля будет также и рукой жнеца, собирающего жатву.
Калатос возвращается: падите ниц! Непосвященные, падите ниц!
Склоните ваши головы, закройте глаза. Падите ниц, непосвященные, падите ниц!»
В ту минуту, когда к небесам возносился последний стих гимна, вверху пронаоса появилась группа девушек, которые несли священную корзину. Весь народ, повинуясь повелительному голосу и жесту жрецов, пал ниц. Конон и всадники склонились к шее своих лошадей.
Двенадцать с детства посвященных девушек лучших фамилий сгибали свои нежные плечи под тяжестью трижды священного ковчега. На них были длинные бледно-голубые одежды, усеянные золотыми колосьями. Они шли очень медленным шагом, который должны были замедлить еще более, спускаясь по ступеням. Под их покрывалами шафранного цвета нельзя было различить черт их лица, и распростершийся народ не знал их. Ковчег был ящиком черного дерева, обитым серебром, и содержал в себе несомненные святыни, самой почитаемой из которых была маленькая статуэтка из грубой глины, изображающая богиню.
Сам Триптолем нашел ее однажды на пыльной земле Рарии; легенда повествует, что найденная им статуэтка приказала ему соорудить храм на том самом месте, где она упала с неба. Тяжелый ковчег этот помещался в ивовой корзине, украшенной цветущими полевыми травами и свисавшими по краям длинными белыми шелковыми лентами. Другие молодые девушки поддерживали обеими руками обшитые золотой бахромой концы лент. А вокруг них шли, приплясывая, маленькие девочки, все одеяние которых ограничивалось наброшенной на худенькие плечи шкуркой белой козы. У них были тонкие корзиночки, висевшие на шее на голубых и красных лентах.
Эти корзиночки доверху были наполнены распустившимися розами, и девочки в такт танца и пения осыпали душистыми лепестками роз распростертую на земле толпу. В том месте, где дорога из Афин скрещивалась с большой, пересекающей ее улицей, стояла огромная повозка, запряженная белыми телицами. Молодые девушки поставили на нее калатос, затем взобрались на нее сами, и в то время, как иероцерикс давал благословение и девочки ощипывали последние розы, зажглись яркие огни смоляных факелов.
Присутствовавшие, держались за руки, причем, под влиянием охватившего толпу восторга, все классы слились вместе, образовав возле этих огней оживленный и веселый круг. В воздухе потускнело от густого дыма, сверкавшего искрами; вся эта оживленная толпа казалась еще более оживленной, благодаря колеблющемуся свету факелов; лица, попадая в освещенное пространство, пылали, а затем через минуту тонули в тени. Из этой толпы, упоение которой переходило в неистовство, поднимался неясный гул от возгласов и топота ног. Через правильные промежутки времени пронзительные голоса жрецов покрывали весь этот шум. Наконец, свет факелов потускнел, а потом и совсем погас. Бесчисленное множество столбиков дыма поднималось к небу, где уже начинали мерцать звезды. За большим облаком, окрашенным пурпуром и золотом, быстро опускался к морю потускневший диск солнца. С восточной стороны горизонта, над холмами, надвигалась ночь.
Конон, сидя на своей неподвижно стоявшей лошади, наблюдал за выступлением пилигримов и ждал, пока последние из них примкнут к процессии, чтобы потом идти следом за ними со своими всадниками. Все, проходившие мимо него, громко приветствовали его, причем мужчины прикладывали руку ко лбу и смотрели на него, а женщины и молодые девушки опускали головы. Но все, миновав его, сейчас же оборачивались, чтобы взглянуть на него. У подошвы холма появились великолепные и очень высокие носилки, которые несли шестнадцать негров одинакового роста, вся одежда которых состояла из куска белой ткани, охватывавшей бедра. Занавески были подняты; в глубине носилок была видна Лаиса, с красными цветами в черных волосах, которая полудремала, лениво раскинувшись на подушках из виссона возле Миро, своей подруги. Когда носилки остановились на минуту, чтобы занять свое место в очереди, Лаиса увидела стратега, наклонилась и послала ему свою самую очаровательную улыбку.
– Твой венок, Лаиса, – крикнул кто-то, – дай ему свой венок!
Все проходившие остановились и тоже начали кричать:
– Увенчай его, Лаиса! Увенчай его!
Гетера не заставила себя просить, поднялась и сошла с носилок. Едва она коснулась земли, как сотни рук подхватили ее, и через минуту она была уже возле Конона, так что его прекрасное лицо было на одном уровне с ней. Один гражданин взял за повод фыркавшую лошадь. Лаиса сняла с себя венок и грациозным жестом возложила его на голову молодого полководца.
– Это было бы слишком мало, если бы это было все, – сказала она.
Она обняла его за шею и, наполовину потянувшись к нему, наполовину пригибая его к себе, поцеловала его в губы.
– Еще, еще! – весело закричала толпа.
Но Конон, потянув повод, заставил подняться на дыбы горячившуюся лошадь. Теснившая его толпа отступила.
– Благодарю, Лаиса, – сказал он, улыбаясь. – Твои цветы не так приятны, как твой поцелуй. Но потерянное тобой время заставит тебя вернуться в Афины последней.
– Это ничего не значит, – возразила молодая женщина, – если ты вернешься вместе со мной!
– Нет, – отвечал стратег.
Его лицо приняло непроницаемость мрамора, и он повернулся к своим всадникам.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































