Текст книги "Гетера"
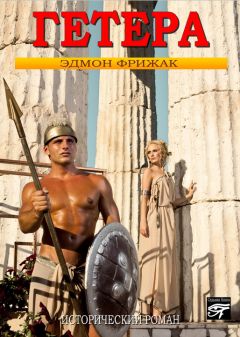
Автор книги: Эдмонд Фрижак
Жанр: Зарубежные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
– Я не раздумываю, – грубо отвечал Конон, – я не раздумываю, я отказываюсь.
– Ты отказываешься, – вскричала Лаиса, вскакивая с постели. – Я знаю, почему ты отказываешься. Мне говорили: тебя хотят женить. Но тут и речи нет о женитьбе, а только об удовольствии. Я допускаю, что забота о продолжении твоего рода заставляет тебя жениться, но ты и сам отлично знаешь, что тебе скоро надоедят неумелые ласки твоей жены. Все это один только глупый предрассудок. Когда надоест все одно и то же, когда материнство обезобразит твою теперешнюю невесту, ты поступишь так же, как и другие. Ты предоставишь ей распоряжаться рабами и управлять домом. Она будет царить в погребах с вином и в амбарах с мукой; а ты будешь уходить искать в другом месте какую-нибудь возлюбленную с более соблазнительными губами. Немного раньше, немного позже! Такова жизнь… Посмотри… Уже наступает ночь, короткие часы ускользают из наших рук. Забудь о своей будущей женитьбе. Она все же наступит слишком скоро, потому что тебя, как и других, обвенчают, наверное, при наступлении следующего же новолуния… Красива ли, по крайней мере, твоя невеста? Как ее зовут? Кто-то говорил мне ее имя, но я забыла.
– Лаиса, – возразил Конон не сурово, но с твердостью, – я простой смертный, выросший на предрассудках, как ты это сейчас только сказала. Имени моей невесты незачем здесь произносить. Я не за тем пришел, чтобы говорить о ней в доме гетеры…
– Так зачем же ты тогда пришел? Зачем ты сидишь возле меня? Зачем ты оскорбляешь меня, называя гетерой? Гетера управляла Аттикой. И, если бы я захотела, я могла бы сделать то же самое, что и она. Гетера! Да, я гетера. Посмотри на меня. Я смертная, но я все равно, что богиня. Я Афина, рожденная из головы Зевса, Афродита, вышедшая из морской пены. Я все! Я женщина, которая думает и которая любит, я книга любви, я арфа страсти, я прекрасная дочь Хроноса. Вот почему толпы мужчин пресмыкаются у моих властных ног. Уходи! Ступай к своей печальной невесте, неловкой, как девушка, глупой, как рабыня! Кто бы она ни была, я ее ненавижу, я ее ненавижу, и ты можешь сказать ей это!
Она снова легла, закинув руки за голову, и видно было, как трепетала под туникой ее грудь.
– Прощай, Лаиса, – сказал Конон после короткого молчания. – Твое дурное расположение духа под конец не заставит меня забыть любезный прием в начале. Когда я захочу говорить об умной и красивой женщине, я вспомню о тебе.
– Прости меня! Прости меня! – вскричала она, вдруг поднимаясь и обвивая руками шею склонившегося молодого человека. – Я оскорбила тебя, я безумная, я ревнивая. Что это мне так больно в груди? Полюби меня. Полюби меня! Если ты бросишь меня теперь, мне останется только умереть.
– Нет, Лаиса, нет, не надо умирать. Что сказали бы Алкивиад, Диомед и все молодые и старые эвпатриды? Что было бы с Афинами без живой богини? – прибавил он, улыбаясь.
– Не уходи, не уходи. Выслушай меня! Удели мне еще несколько минут… Я чувствую в себе что-то кроткое и убедительное, но мой язык, не знаю почему, не находит слов, чтобы выразить это. Послушай, это правда, я ошиблась, я не знала… я не могла знать. Никто до сих пор не отказывался пить с моих уст золотистый мед удовольствия. Я еще никогда не просила, никогда не просила… и уж совсем никогда не плакала… Все, кто до тебя приходил в эту комнату, приходили сюда униженные, несмотря на свое золото, благодарные, как раб, входящий в храм бога… Я не сняла покрывала, чтобы доставить тебе радость видеть, как я расцветаю, трепещу от твоих ласк… Я думала, что ты поступишь, как они, что ты бросишься ко мне, сожмешь меня в объятьях, задушишь и увидишь Лаису, трепещущую под твоим поцелуем! В первый раз моя красота, – увы! – моя красота изменила мне. Кто же защищает тебя так? Я почти нагая пред тобой, а ты продолжаешь смотреть на меня, как мраморное изваяние или же как старик.
– Я ни то, ни другое, – с досадой возразил Конон, – ни бог, ни старик. Меня защищает от тебя, Лаиса, тот бог, которого ты, всегда призываешь и неутомимой жрицей которого тебя называют.
Лаиса опустила голову и сложила руки. Со своими длинными полузакрытыми ресницами, на которых блестели, как жемчуг, слезы, с опущенными руками, она была красивее, а главное, привлекательнее, чем за минуту до того, когда она смотрела на Конона негодующими глазами.
Она прошептала так тихо, что едва можно было ее расслышать:
– Неутомимая жрица! Зачем ты говоришь так со мной? Если бы ты знал, как, наоборот, мне это тяжело и мучительно. Эрос карает меня. Его стрелы тут, в моем сердце… Люди, проходящие в эту минуту мимо моего дома, завидуют, может быть, моему счастью… мое счастье теперь – это забвение… единственное, что мне осталось, это забвение в могиле. Прощай, Конон, ты можешь смеяться надо мной со своими друзьями и сказать им, если хочешь, что ты видел, как плачет Лаиса. Но не говори этого своей невесте: женщины ревнивы и жестоки; она уже достаточно счастлива, даже не зная, что победила меня!
– Не отчаивайся так, Лаиса, – улыбаясь сказал Конон, – твои слезы высохнут, и твоя красивая улыбка расцветет на твоих насмешливых губах.
Лаиса не отвечала; но вскоре она снова заговорила, протягивая сложенные руки:
– Если бы ты мог забыть, что я продавала свою любовь, забыть мое горькое прошлое! Позволь мне лечь у твоих ног; я закроюсь вся, до самой головы, как трепещущая робкая девушка; потому что влюбленная женщина все равно, что девушка. Позволь мне смотреть на тебя, как смотрит на своего хозяина собака, мои глаза очистятся, глядя на тебя… я люблю тебя. Я буду твоей рабой, если ты не хочешь, чтобы я была твоей возлюбленной. Ты толкнешь меня ногой, если я не угожу тебе. Я буду смеяться от горя, буду плакать от радости, что ты меня любил. Останься со мной. Останься! Мой голос будет так кроток и так певуч, что я, наконец, умолю, тебя, и ты, видя слезы Лаисы, сжалишься над ней!.. Что ты хочешь, чтобы я дала тебе, раз ты не хочешь моего горячего поцелуя? Хочешь, я отрежу мои длинные волосы, которые закрывают меня всю, как волны душистой ночи? Хочешь, я отдам тебе все драгоценности, которыми переполнены мои сундуки? Моих двух желтых рабынь в затканных цветами одеяниях; их привезли мне из какой-то неизвестной страны… Или моих африканских лошадей с тонкими, как у единорогов, ногами и с такой длинной гривой, что она сметает пыль по дороге. Или же, так как ты великодушен и мудр, не хочешь ли ты взять этот кедровый ящичек, который я одна умею открывать, и в котором находится пожелтевший пергамент, исписанный рукой самого божественного Гомера!.. Ты не отвечаешь мне, и я вижу, что моя мольба не трогает тебя. Эрос не может пронзить твою медную кирасу. Увы, мне, несчастной, рожденной для страданий. Тебя победили глаза другой! Ты думаешь, слушая меня, о своей робкой девушке и мечтаешь о ее нежных ласках!
…Не сердись! Не сердись! Останься, не уходи! Прости меня, выслушай меня!
…Я знаю, что после твоей последней победы, прежде чем вернуться в Афины, ты приказал остановить весь свой флот у счастливых берегов Лесбоса, увенчанного апельсиновыми деревьями… Я знаю, что ты заходил в храм и приносил там бессмертным жертвы. К тебе сбежались все женщины того острова. Они принесли тебе розы и танцевали вокруг тебя, держась за руки. Они красивы, эти дочери Лесбоса! Они танцуют восхитительно и умеют петь мелодичными голосами бессмертные стихи, которым их научила Сафо. Я из прекрасного Коринфа. Я знаю пляски, которых они не знают и которые представляют целую поэму страсти и любви. Я протанцую их перед тобой, совсем нагая, на своем пурпуровом ковре, между двумя рабынями из Киренаики, которые похожи на статуи черного дерева и которые поют, ударяя в тамбурины с бубенчиками, такие страстные песни, что все твои нервы будут рваться ко мне! И, полузакрыв глаза, ты будешь думать, что видишь белую Астарту, вышедшую из мелодичной ночи.
…Когда на празднествах гетерии я поднимаюсь по ступеням храма, меня сопровождают взгляды всех мужчин, я слышу глухой ропот в их груди и чувствую, как колышется вокруг меня, точно огненный плащ, горячий прилив желаний. Ты знаешь этого чужестранца, этого мидянина с жесткой черной бородой, прибывшего из Сирии с множеством евнухов, с колесницами из слоновой кости, дорогими одеждами. Его корабли, стоящие в Фалероне, полны золотого песка, привезенного из Африки! Вчера он был у меня и предлагал мне своих сирийских женщин, свой золотой песок и свою азиатскую роскошь. Он опустился на колени и ползал у моих ног. Я отказалась от подарков и от него самого. Я смеялась над его обещаниями озолотить меня, и мои рабы проводили его униженного до колесницы; потому что теперь жизнь моя изменилась. Я, гордая Лаиса, смех которой звучал так звонко, я теперь только слабая женщина. Я люблю тебя… я люблю тебя… И, когда я смотрю на тебя, дрожь пробегает по всему моему телу, дрожь очень медленная, очень приятная, какой я еще никогда не чувствовала. И это должна быть любовь, любовь, которой я не знаю!
…Не уходи так, выслушай меня. Будь добр ко мне, я влюблена и я ревнива. Не уноси наружу запах комнаты куртизанки. Более красивые глаза, чем мои, стали бы спрашивать тебя с беспокойством, что это значит. Ты выйдешь из моего дома умащенный моими рабами; они проведут тебя в ванну и, когда их счастливые руки умастят твое бесчувственное тело, ты придешь сюда проститься со мной. Ты можешь даже не подходить ко мне и остаться у двери. И я усну, не пережив осуществления моей мечты; я усну добровольно сном, который не увидит больше зари.
– Не говори так, – перебил ее Конон. – Завтра ты позабудешь обо мне. Позови своих рабов и прикажи отворить дверь. Меня ждут.
– Тебя ждут? Кто тебя ждет? Твоя невеста, твоя возлюбленная?
Конон сделал шаг вперед.
– Замолчи! – гневно вскричал он, поднимая руку.
– Афродита! Пошли мне смерть от его руки!
Лаиса опустилась на колени и, сложив руки, дрожа и трясясь от судорожных рыданий, подняла к небу полные слез глаза.
– Довольно, позови своих рабов.
– Ты вернешься? Ты придешь после ванны?
– Теперь не время для ванны. Я приду завтра… через несколько дней.
– О, завтра, завтра! Кто из нас знает, что будет завтра… Я гетера, – прибавила она тихо, со слезами. – Из дома гетеры не уходят, не очистившись! Позволь отнести тебя в ванну. Вода очистит тебя. Ты придешь сюда затем на одну минуту. Что значит одна минута для тебя, для человека, для которого еще не наступил его час! Я хочу только услыхать «прости» из твоих уст, из твоих дорогих уст, любовь которых возвеличила меня! Выслушай меня. Ты согласен. Иди, ты добрый, я люблю тебя…
Конон взглянул на клепсидры. Бронзовые стрелки показывали одиннадцатый час дня. Он решил исполнить ее просьбу.
– Хорошо, – сказал он, – зови твоих рабов…
– Сюда господин, – говорили Коннону рабы.
Это были два высоких ливийца. Слегка прикрытые полосатой материей, обернутой вокруг бедер, они держали одну из тех бронзовых светилен, которые носили на цепочках, и которые были тогда во всеобщем употреблении. Они шли под портиками, которые колеблющийся свет освещал странными отблесками. Рабы привели Конона в просторную комнату, вымощенную глянцевитыми кирпичами, стены которой, закругленные по углам, были, покрыты блестящей штукатуркой. Среди комнаты стояла на возвышении ванна из белого мрамора с розовыми жилками. В одном углу старуха разжигала дрова под медным котлом. В противоположном углу помещалось ложе для отдыха на высоких колоннах, отделенное от зала задергивающейся занавеской.
Рабы принадлежали к числу людей, изучивших искусство растирания тела и сообщения усталым или хилым членам свежести и гибкости. Один из них взял из бронзовой урны небольшое количество темного вещества с сильным и приятным запахом, которого Конон не знал. Когда Конон вышел из ванны, ему казалось, что новая кровь бежит у него по жилам. Его движения были более уверенны, более ловки, а золотой обруч, охвативший его волосы, сильнее сжимал его виски. Рабы проводили его до комнаты Лаисы. Он приподнял портьеру и вошел. Его встретил еще более сильный, удушливый запах ароматов; свет ослепил его. Ему показалось, что колонны заколебались, и он прислонился к одной из них.
– Лаиса, – сказал он, – теперь я пришел проститься с тобой. Благодарю тебя. Ванна была очень хороша.
Гетера поднялась и одним легким, нервным прыжком, как прыжок пантеры, повисла на шее у молодого человека.
– Я люблю тебя, я люблю тебя, возьми меня… унеси меня.
Он закрыл глаза и увидел перед собой образ Эринны. Высвободившись из сжимавших его страстных объятий, он тихонько оттолкнул молодую женщину.
Лаиса отскочила назад так же быстро, так же стремительно, как и бросилась на шею своему непокорному возлюбленному. Она резко рванула обе золотые застежки, которые поддерживали на плече ее вышитую тунику. Тонкая ткань скользнула и упала к ногам гетеры, обнажив ее белое, точно мрамор, тело.
Лаиса, уверенная в своей неотразимой красоте, улыбалась, протягивая руки, и медленно поворачивалась, напевая вполголоса. Отдаленный свет сквозь хрустальные ширмы играл радугой на контурах ее бюста. Она кружилась все сильнее, все быстрее. Она сняла с себя анадему. Ее волосы, посыпанные фиолетовой пудрой, распустились и закрыли ее непроницаемым облаком. Потом ее движения стали медленнее и, наконец, Лаиса, вся розовая и вся трепещущая, остановилась перед Кононом. Конон отошел от колонны. Он шатался, подходя к ней.
– Так угодно богам, которые создали тебя такой красивой, – пробормотал он.
И он сжал Лаису в объятьях…
Глава 8
В доме Леуциппы все еще не теряли надежды. Но уже на следующий день в городе все стало известно. В течение целых трех дней стратег не появлялся на упражнениях на стадионе. Его не видели ив коллегии эфебов. Рабы на все вопросы отвечали одно и то же: «Мы не знаем, где наш господин». Наконец, когда в народном собрании объявили, что доряне снова вооружаются, кто-то спросил: «Где же стратег?» – «Ищите его у Лаисы», – отвечал Анаксагор. Леуциппа присутствовал в экклезии: он справился, узнал истину, которую уже подозревал, и грустный вернулся домой.
– Дитя мое, – сказал он Эринне, – человек, которому ты доверила свое юное сердце, скрывал обманчивую душу под маской честности и мудрости. Богам угодно было, чтобы ты узнала об этом. Принесем им за это благодарственную жертву. Время смягчает страдание; оно утешит и нас: тебя наверное, потому что ты молода; меня, может быть, потому что я стар.
Молодая девушка бросилась в распростертые объятья отца и прижалась к нему. Она не плакала; но порой из ее груди вырывался протяжный вздох, похожий на те более или менее резкие вздохи умирающих, последние спазмы истощенного тела, которое требует возвращения в землю. Горе всегда тяжело для тех, которые его переживают и для тех, которые это видят. Но горе девушек, пораженных в невинное сердце, одно из самых трогательных. Молодые девушки – это цветы. Ласка солнечного луча заставила бы распуститься их венчики; неожиданный ветер клонит их, не обрывая листьев. Так жаворонок, поднявшийся к небу, когда камень перебивает его сильные, но хрупкие крылья, падает, пораженный, но живой, в колею, которую он покидал для лазури!
– Плачь, бедное дитя, плачь, – сказал Леуциппа. – Забвение придет.
– Нет, отец, забвение не придет: ни забвение, ни прощение… Я слишком горда, чтобы простить, слишком сильно оскорблена, чтобы забыть и снова начать мою печальную жизнь. Слушай, отец. Бессмертные, не пожелавшие, чтобы я стала супругой, предназначили мне другую участь. Вместо того, чтобы посвящать свой пояс Луцине, я посвящу его Афине. Мне не суждено счастье, но я найду в храме тишину. Носсиса уже согласилась. Позволь мне и ты пойти и припасть к стопам иерофанта.
– Иди, дитя мое, иди к тишине, матери забвения. Я дам письменно свое согласие. Лизиса проводит тебя и передаст дощечки Этеобутаду. Если через три месяца сердце твое не изменится, я буду присутствовать, благословляя тебя, при том, как ты будешь произносить торжественный обет.
Эринна пошла в свою комнату. Миррина сидела на табурете, окруженная фиолами и ящичками, душила и раскрашивала свою куклу.
– О, Миррина, что ты тут делаешь? – сказала старшая сестра. – Ты взяла все мои ящики. Это невыносимо. Зачем ты пришла сюда, в мою комнату?
– Не брани меня, – отвечал наивный ребенок. – Я думала, что ты уехала, знаешь, на той колеснице, которая едет так скоро.
– Это правда, – кротко сказала Эринна. – Обыкновенно, в это время я уезжала. Возьми себе все эти ящики, Миррина; я отдаю их тебе.
Она наклонилась, долго перебирала волосы девочки и затем бессильно опустилась возле нее. Слезы, наполнявшие ее глаза, потекли по бледным щекам. Миррина задумчиво смотрела на нее, ничего не понимая.
– Ты плачешь, – спросила она. – О чем?
– Ни о чем.
– Ни о чем? Значит, как я. Лизиса всегда говорит, что я плачу из-за пустяков.
И девочка, обмакнув кисть в красную краску, снова принялась раскрашивать свою куклу.
Почему день такой печальный? Почему эти облака застилают солнце?.. Эринна припоминает утро, такое близкое и такое уже далекое, которое принесло ей розы. Она подняла глаза. Сквозь слезы она увидела увядшие цветы.
– Бедные цветы. Они завяли раньше, чем поблекло мое счастье.
Она поднялась и решительным жестом отерла глаза. Затем она сняла перед металлическим зеркалом свою золотую анадему и заменила ее темной лентой.
– Однако же я была красива, – сказала она. Она наклонилась и поцеловала Миррину. – Прощай, сестрица.
– До свидания, – отвечала девочка, – когда ты вернешься, моя кукла будет красавицей.
Молодая девушка, стоя, обнимала взором знакомые предметы, которые она собиралась покинуть навсегда.
– О, мои вещи, – тихо проговорила она, – мои вещи, которые видели, как я выросла. Я покидаю вас все здесь. Те, которых мне не нужно, стали бы завидовать остальным. Я не вернусь сюда никогда, никогда, слышите вы, мои вещи. Если бы я вернулась, значит, отец окажется прав, и жизнь снова началась бы для меня: и тогда я так изменилась бы, что вы меня не узнали бы. Прощайте, мои вещи. Вы будете жить без меня, я буду жить без вас. Я очень страдаю, покидая вас. Так страдают только умирая!
Она обратила внимание, что висевшая перед статуэткой Афины светильня давно погасла.
«Лизиса была права, – подумала она. – Ты наказала меня за то, что я забыла о тебе, богиня. Прости меня. Мое сердце состарилось со вчерашнего дня. Отныне я твое раскаявшееся дитя, покорное и несчастное!.. О, какая я несчастная! Если бы ты знала!»
И она, вся вздрагивая от рыданий, опустилась на колени перед статуэткой. Брызнули слезы, обильные, неудержимые…
Она поднялась, спокойная и холодная. Когда великий иерофант, извещенный, что к нему пришла с просьбой какая-то девушка, вышел из пронаоса, он увидел Эринну, стоявшую на коленях на ступенях храма. На ее золотистых волосах было накинуто покрывало.
Она подала великому жрецу дощечки, исписанные рукой Леуциппы.
– Я пришла просить места у очага богини. Вот разрешение и распоряжение моего отца; он, как и ты, Этеобутад.
– Встань, дочь моя, – сказал жрец, прочитав написанное. – Ты будешь ждать в молитве, пока установленный порядок вещей приведет тебя в свою очередь к алтарю. Любовь бессмертных утешит тебя за поруганную земную любовь. Здесь жизнь твоя будет спокойна; но, не скрою от тебя, она будет тяжела. Твое тело будет разбито, твоя душа будет измучена, если она такова, как я это читаю в твоих глазах, потому что под ясным и спокойным величием божества твоя, полная тревоги мысль будет стараться постигнуть таинственное. И какое это ужасное страдание – жить перед вратами вечности, не имея возможности приподнять свинцовое покрывало, которое его скрывает. Ты будешь смотреть недоступным простому смертному взором на всех отчаявшихся в жизни людей, среди которых ты жила. Тебе станет жаль человечество, крутящееся в вихре несбыточных мечтаний. Забвение, которое тебе кажется невозможным, наступит с завтрашнего же дня. И ты будешь возноситься все выше и выше. Какое дело звездам до того, что покрылось пеплом твое двадцатилетнее сердце?
Возможно, что Эринна и не слышала всего, что говорил старый жрец. Она стояла со склоненной головой и слушала звучавший внутри нее голос своей души, которая еще плакала. Иерофант тронул ее рукой за плечо.
– Встань, дочь моя. Посмотри.
Жрец широким жестом обвел горизонт. На востоке сияли облитые лучами заходящего солнца памятники и храмы Афин. На западе длинной лентой тянулась священная дорога в Элевзисе, извиваясь, точно змея, между могилами и жертвенниками. На севере высились одни над другими холмы. На юге синее море бурлило у желтых песчаных берегов.
– Вот земля, – сказал иерофант.
Потом он обернулся к бронзовым дверям Парфенона.
– Вот небо. Иди, дочь моя, иди молить богиню, чтобы ты была благочестива, чтобы ты была снисходительна, чтобы ты под лаской ее улыбки научилась божественному дару прощения.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































