Текст книги "Гетера"
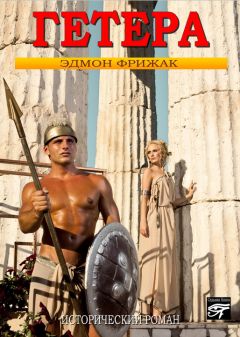
Автор книги: Эдмонд Фрижак
Жанр: Зарубежные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 13 страниц)
Старый иерофант стоит на скалах, которые с востока закрывают Акрополь. Его поднятые с мольбой руки в то же время благословляют сражающихся… Ветер играет его седыми волосами… И при свете зарождающейся зари он указывает обеим молодым женщинам на приближающуюся к ним в молчании группу вооруженных людей в светлых белых доспехах.
– Вот победители. Афины свободны! Да будут благословенны бессмертные боги! Вот победители! Смотрите! Вот победители!
Вдруг Ренайя испустила радостный крик и без чувств упала на руки своей подруги. Вместе с этими людьми к ним шел Гиппарх.
Глава 14
Афины медленно выходили из-под груды своих развалин. Порыв искренней веры и благодарности собрал у подножья, алтарей весь народ. Эринна теперь носила на голове диадему. Иерофантида заместила иерофанта. Старец покончил свои дни и удалился в недра Всемирного Бога. Перед смертью он призвал к своему изголовью главного архонта и сказал ему, указывая на жрицу:
– Вот та, которую мудрость богов избрала на мое место. Древний культ эллинов сохранится во всей своей чистоте в ее руках. Я возложу на ее чело в твоем присутствии священную повязку.
Тщетно пытался отговорить его от этого архонт, ссылаясь на установившиеся обычаи, которые должны иметь большее значение, чем даже законы…
– Я слишком близок к смерти, чтобы спорить об этом, – отвечал старец, – так надо, этого хотят боги.
Он снял с себя золотой обруч, украшенный звездами и, собрав свои последние силы, приподнялся на своем ложе, и его слабые дрожащие руки возложили на белокурые волосы молодой девушки знак достоинства великого иерофанта.
– Не плачь, дочь души моей; не плачь, мое дорогое дитя. Смерть – это освобождение. Смотри, мои цепи спадают с меня. Меня печалит только то, что я покидаю тебя. Оставайся свободной. Оставайся гордой. Будь счастлива. Сон моего тела – это пробуждение моей души. Этот день наступит и для тебя, и мы увидимся… Оставайся свободной… Оставайся гордой… Оставайся девушкой…
Когда последнее дыхание старца замерло на его бледных устах, Эринна подняла к собравшимся жрецам свое молодое лицо, на котором лежал отпечаток строгости и величия.
– Его мысль теперь уже не на земле, – сказала Она. – Молитесь за него, молитесь за него, чтобы он нашел успокоение в Гадесе.
И все служители культа, каков бы ни был бог, которому они поклонялись, опустились на колени и стали молиться, потому что властный голос высшего существа пронесся над ними.
Эринне было тогда двадцать пять лет. Она достигла полной возмужалости и была поразительно красива. В ее походке было все величие богов, которым она служила. Ее потемневшие волосы образовывали вокруг ее лица как бы две тяжелых бронзовых волны. Ее взгляд был пристален и строг. Те, на кого падал этот взгляд, тяжелый, как медный шлем, чувствовали его на своей голове. Но в присутствии маленьких детей улыбка озаряла серьезную складку около губ, и женщины, при виде этой улыбки, с участием думали, каких страшных нравственных страданий и каких усилий воли должно стоить жрице заставить себя сохранять энергию и необходимую ей твердость духа. Особенно это было заметно, когда в храм приходил сын Ренайи и разговаривал с ней своим детским голоском: к великой жрице тогда снова возвращалась ее веселость молодой девушки. Она играла с ребенком, бегала с ним, забавлялась раскатами его смеха и, поднимая его на руки с легкостью, которая удивляла самого Гиппарха, покрывала его такими же страстными поцелуями, как и Ренайя. И ребенок, не осмеливаясь говорить этого, предпочитал своей настоящей матери эту высокую молодую женщину, такую изящную и такую красивую, которая так весело улыбалась только ему одному. Ему доставляло большое удовольствие присутствовать при церемониях. Он опускался на колени рядом с матерью, где-нибудь в уголке. Он видел только жрицу, он смотрел только на нее. Без плаща и без покрывала, не имея другой одежды, кроме вышитой туники, из-под которой виднелись ее обнаженные руки, она стояла перед узким треножником. Ее распущенные волосы, украшенные воткнутыми в них золотыми звёздами и перевязанные на затылке лентой тирского пурпура, рассыпались волнами по плечам.
Пурпуровый же шар, перекрещивавшийся на бедрах и перекинутый наперед, падал от пояса на землю сверкающими прямыми складками. Она простирала руки над золотым Сосудом, наполненным очистительной водой. Она трижды обращалась к Афине с мольбой, трижды хор жрецов повторял ее слова; и это пение, сопровождаемое легким звоном кадильниц, замирало среди глубокой тишины. А когда затем жрица, сойдя с треножника, приближалась к молящимся и кропила освящённой водой их склоненные головы, ребенок замирал в экстазе. В такие минуты иерофантида казалась ему окруженной ослепительным светом, и ему не верилось, что это лицо, так похожее на божество, то самое, которое столько раз склонялось над ним, улыбалось при его пробуждении.
Ни один народ не был так чувствителен к внешней красоте форм, как афиняне. Великая жрица была для него олицетворением самой богини, безгрешной служительницей которой она являлась. И мало-помалу, под влиянием этого убеждения, она стала для народа живым изображением Афины Парфенос, такой же молодой, такой же изящной, такой же прекрасной. Когда она отправлялась в дом своего отца на колеснице, запряженной белыми мулами, которыми правил свободный Ксантиас, все граждане останавливались, приветствуя ее, и однажды даже Диоген, лежавший среди улицы, приподнялся, чтобы дать дорогу ее колеснице.
Она принимала деятельное участие в возрождении своего отечества и помогала всеми силами своего влияния. Медленно, но с уверенностью идя к заранее намеченной цели, Афины снова занимали свое положение в ряду других государств и снова становились светочем мира. Та же толпа философов, поэтов, ораторов и артистов появлялась на площадях и под портиками и встречалась в те же часы под свежей сенью академических садов. Такие же собрания происходили на Пниксе, и неисправимая толпа, под влиянием тех же причин, как и раньше, повторяла те же самые ошибки. И только, как неизгладимое пятно, Долгие Стены все еще оставались разрушенными. Трава пробивалась там между камнями, ящерицы грелись на солнце; выросли кустарники, и ветер с моря волновал над разрушенными стенами мирты и лавры в цвету.
И никто еще на народном собрании не осмеливался заговорить о том, чтобы восстановить их.
Эринна с некоторого времени казалась менее отрешившейся от земли. Она выезжала и выходила гораздо чаще. Раз или два она побывала даже в Пирее; затем однажды она велела отвести себя к Ликабетту, оставила носилки на половине дороги и в сопровождении одного только Ксантиаса, всюду следовавшего за ней, быстро поднялась по склону горы. Часто она оставалась долгие часы неподвижная, обратившись лицом на восток. Однажды, вечером, ее видели сидящей наверху пропилеев, на высоком пьедестале, на котором стояли избирательные урны. Через отверстие в скале, некогда с большим трудом проделанное рукой великого жреца, она смотрела на видневшееся на горизонте море.
Ренайя первая заметила перемену, происшедшую в ее подруге. Когда она сказала об этом Гиппарху, тот покачал головой и ответил: «Я не понимаю, что это значит».
В шестой раз после окончания войны солнце золотило жатву. Наступила годовщина того дня, когда в лесах Артемиды Эринна, держа за руку своего жениха, опустилась на колени перед богиней. В это время всегда более темное облако омрачало ее чело. Она целую неделю не выходила из храма. Жрецы, служители, особенно же рабы, любившие ее за ее доброту, знали причину такого настроения, которая никому не была безызвестна. Каждый год она отлучалась из храма на один день и отправлялась на свое благочестивое богомолье. В этом году она не покинула Акрополя. Ксантиас отправился один. Он возвратился на другой день весь в пыли на колеснице, запряженной другими лошадьми, а не теми, которых он брал накануне. Новые лошади были покрыты пеной и потом и, видимо, прибыли из более далекого места, чем лес Артемиды.
Вечером Эринна послала за Гиппархом и Ренайей и сказала им:
– Сейчас Конон огибает мыс Суний и будет здесь завтра на восходе солнца. Он не один. С ним целый флот великого царя. Завтра двести триер, которые состоят у него под командой, войдут в гавань Пирея.
Гиппарх и Ренайя, не ожидавшие услышать ничего подобного, с удивлением, молча смотрели на нее.
– А! – вскричала жрица, поднимая к небу полные гордости глаза. – Я знала, что он вернется, что он вернется для Афин.
– Для Афин и для тебя, – сказал Гиппарх.
– Для меня, говоришь ты, мой бедный друг, увы! Я иерофантида!
Гиппарх не возразил ничего. Он взял за руку Ренайю, и они оба удалились.
Жрица сняла суровую маску со своего лица. И женщина плакала…
* * *
На следующий день необыкновенный слух распространился по городу, переходя из дома в дом с быстротой молнии.
Конон, бывший стратег, победитель Сестоса, Кимеса и Метимна, прибыл в Пирей с целым флотом; Он просил разрешения высадиться; он предлагал афинянам союз великого царя; он предлагал им восстановить Долгие Стены.
И толпа любопытных, устремившихся к морю, увидела выстроившуюся вне Кантароса морскую силу Артаксеркса. Персидские галеры с палубой от носа и до кормы были больше триер. Они были трехмачтовые, и кроме того с каждой стороны в четыре ряда было по девяносто весел. На верхушке большой мачты развевался красный флаг с золотым солнцем посредине. На кораблях сновали матросы с темной кожей, голые до пояса; они черпали парусиновыми ведрами морскую воду и мыли палубы. Их движения были проворны. Они работали молча под наблюдением начальника низшего ранга, стоявшего на палубе в передней части корабля.
Эти галеры казались грозными. Все снасти были в порядке, паруса убраны. Впереди у них у всех были какие-то странной формы боги, отлитые из бронзы. У бортов виднелись поднятые кверху две громадных железных руки. У них был только один руль, который приводился в движение канатами, намотанными на вал.
Сперва высадились восточные командиры кораблей. Это были люди высокого роста, в высоких шапках, на которых сверкали драгоценные камни. Одежды ярких цветов, вышитые золотом и усеянные жемчугами, доходили им до лодыжек. На богато украшенной перевязи, у одних голубой, у других белой, висел в ножнах из буйволовой кожи меч с широким и кривым лезвием. За поясом такого же цвета, как перевязь, был заткнут кинжал с обнаженным лезвием. Обувь с загнутыми носками вся была расшита разноцветным шелком. Волосы на голове они брили, но зато носили очень длинные бороды, окрашенные в темно-фиолетовый цвет, и этот странный цвет придавал командирам кораблей фантастический вид. Они шли, предшествуемые рабами, все вместе, с надменным, суровым и презрительным выражением лица, не глядя на рассматривавших их теперь приниженных афинян, отцы которых некогда побеждали их отцов.
Вслед за ними сошел на берег Конон, одетый гораздо проще, чем командиры кораблей. На нем было греческое оружие. Плащ главного начальника был перекинут у него через руку. Пурпуровый шарф с развевающимися концами опоясывал его серебряную кирасу. Ступив на набережную, Конон опустился на одно колено и поцеловал родную землю.
– Ио, Конон! Ио, Конон! – кричал народ.
Толпа, державшая себя сначала робко, мало-помалу становилась смелее. Она окружила его и приветствовала восторженными криками. Моряки подхватили его и на руках донесли до колесницы. Конон снял шлем, и все могли видеть его лицо, и почти все узнали его. Это были все те же энергичные и добрые черты. Только две глубокие морщины перерезали лоб над глазами, да серебряные нити показались в темных волосах.
За ним следовал отряд фиванских гоплитов, составлявших его почетную стражу. Все граждане собрались на холме. Восточные командиры кораблей выстроились вокруг трибуны. Конон медленно поднялся на трибуну по ступеням, не как пылкий герой, а с величественной важностью, которая подобала посланнику могущественного царя.
Семь лет тому назад народ с этой же самой трибуны слушал, как он, молодой победитель, рассказывал об одержанной им победе. Несмотря на то, что прошедшее с той поры время ознаменовалось такими, совершенно неожиданными событиями, ничто не изменилось в окружавшей его обстановке, в той обстановке, среди которой человек рождается, живет и умирает, и неизменный профиль которой меняют только одни века. У его ног развертывались Афины, все целые, оживленные, обновленные, залитые солнцем, освещавшим крыши храмов и памятники. Ничто не напоминало о разгроме, кроме лежавших там у моря темным пятном Долгих Стен, загромоздивших своими развалинами всю равнину. Его взгляд быстро пробежал по острову Саламину, по голубым берегам Арголиды и сверкающей линии моря; он остановил его на минуту на обнаженных склонах гор, а затем медленно перевел на Акрополь и тут замер.
Белые фасады Парфенона и Эректиона сверкали на темном фоне синего неба, как бы выточенные из слоновой кости. Копье и шлем Афины отражали солнечные лучи. Она была там… Она, может быть, видела его. Народ терпеливо ждал, пока Конон окончит свою безмолвную молитву…
Наконец, он отвел глаза от Акрополя и снова окинул взором горизонт и явившийся на собрание народ. Ни одна из тех мыслей, которые кипели у него в душе, не отразилась на его неподвижном лице. Громким и звучным голосом он прочел предложение Артаксеркса, и, когда он кончил, все руки поднялись кверху. Тогда он поклонился народу, сделал знак своим гоплитам следовать за ним, и не спеша, спустился с холма.
Стоявшее среди неба солнце бросало отвесно свои знойные лучи.
Конон шел по узкой тропинке, которая пролегала через долину и соединяла Пникс с Акрополем. По обе стороны ее между двумя холмами стояло несколько маленьких домиков. Совсем нагие дети играли в пыли, а женщины пряли, сидя на пороге. Цепные собаки провожали его лаем, а петухи, вскакивая на каменные или деревянные ограды, орали во все горло, размахивая крыльями.
Скоро дома кончились. Перед ним поднимались крутые обнаженные склоны Акрополя, поросшие чахлыми кустарниками, на которых полузасохшие листья повисли от сильной жары. Конон смело стал взбираться по крутому подъему. Гоплиты следовали за ним шагах в двадцати. Эти суровые воины более пяти лет не покидали его. За плечами у них были стальные щиты, горевшие на солнце…
По знаку Конона гоплиты остановились на верху пропилеев. Он один пошел к храму; короткая тень ложилась у его ног. Все было тихо. Когда он, пройдя немного, поднял глаза, он увидел перед собой Эринну, стоявшую между колоннами; она была очень бледна и улыбалась.
– Эринна! – вскричал он. – Я здесь! Узнаешь ты меня?!
Он бросился к ней с распростертыми объятьями. Но ее объятья не открылись. Она опустила голову. Тогда он увидел, что у нее на голове надета не анадема замужних женщин, а диадема, какие носили жрицы. Его протянутые руки опустились. Он устремил на нее такой печальный, полный упрека взгляд, что она невольно покраснела и прошептала:
– Да!.. Великая иерофантида…
– Потеряна, увы, потеряна навсегда. Значит, я проклят. Все несчастья были из-за меня… Я нахожу тебя через семь лет еще более прекрасной, еще более уважаемой, еще более счастливой…
– Не говори так, не говори так. Ты не видишь моего сердца.
Она сложила руки.
– Ты не видишь моего сердца! Если бы ты видел… Если бы ты знал…
Конон прислонился к колонне.
– Прости меня… Я несправедлив…. Я хорошо знаю, что я несправедлив… Семь лет, семь лет прошло с тех пор, как великий иерофант прогнал меня из этого храма… Он не позволил мне увидать тебя, упросить, оправдаться… Прости меня… Я несправедлив. Сколько воспоминаний наполняют мое сердце и давят меня!
Он смотрел на нее… Порывистое и все более и более быстрое дыхание волновало его грудь… Он усиленно боролся с душившими его рыданиями. Наконец он поднес руки к лицу, и слишком долго сдерживаемые слезы брызнули сквозь его стиснутые пальцы. Он скорее упал, чем сел. Полулежа на ступенях, он плакал; он плакал теми прерывистыми рыданиями, которые служат высшим выражением человеческого горя.
Так прошло много времени, потому что Эринна тоже не сдерживала, более своих слез и тоже плакала. Она овладела собой первая: она подошла к нему, отняла его руки и кончиком своего полотняного плаща тихонько отерла ему глаза.
– Полно, – сказала она, – не надо плакать.
– Ах, если бы ты меня любила!.. Если бы ты всегда меня любила. Дитя, дорогое дитя! Жалость еще руководит тобой, но любовь уже кончилась в твоем сердце. О, мое божество! Мои мечты, сулившие мне столько счастья в долгие ночи! Все препятствия побеждены: люди, волны усмирены! Увидеть тебя более прекрасной, чем когда-либо, и увидеть тебя только затем, чтобы снова потерять!
Рыдания прервали его голос…
– И это ты стоишь предо мной, ты, Эринна! Сколько раз в течение этих долгих лет я повторял про себя слова, которые должны были растрогать тебя, которые я выбрал среди всех остальных как самые лучшие и самые убедительные… Теперь у меня уже нет этих слов: они потонули в моем горе… Я говорю тебе то, что приходит мне в голову… Еще вчера, когда я был далеко от тебя, я мог говорить с тобой так. Ветер, который дул с земли, доносил до меня воздух родины… Я видел, как загорался красными огнями Акрополь, когда заходило солнце. Знаешь, что я тогда думал? Может быть, она спит последнюю ночь под белой кровлей Парфенона! Увы, увы!.. Ты не хочешь.
Во все это время, в минуты самых ужасных опасностей, в минуты тоски, я никогда не забывал того дня; когда опустился перед тобой на колени… К тебе неслись мои мольбы. Я видел, как погибало мое войско в песках. Я тоже лег вместе с ними, чтобы умереть; но твоя любовь подняла меня: я захотел увидать тебя; я шел за невидимым призраком, который указывал мне путь в безводной пустыне… Я спас свое войско благодаря тебе. И в той земле, растрескавшейся от жгучего солнца, там есть камень, на котором я вырезал твое имя. О, скажи, что ты сбросишь с себя диадему, скажи мне, что все это исчезнет, как дым от ветра! Скажи мне, что меня не напрасно влекла сюда надежда на счастье… Вернуться в неблагодарные Афины, вернуться сюда во всей славе, найти тебя свободной и снова завоевать тебя!
Вдруг он встал.
– Найти тебя и сделать тебя свободной!
В его сверкающих глазах уже не было слез. Он нервно сжимал в кулаки свой мускулистые руки.
– Да! Сделать тебя свободной! Взгляни на меня. Я Конон, тот самый Конон, которого ты так недавно еще любила и слово которого некогда пробудило тебя, тот Конон, который держал тебя трепещущую в своих объятьях и который оставил тебя девушкой из уважения или страха перед твоими бессильными богами. И ты думаешь, что и сегодня я остановлюсь перед этой хрупкой преградой. Что мне до твоей диадемы, до твоей религии, до твоего храма! Я человек, и я победитель! Вся Персия знает мое имя. Ее царь единственный человек в мире, который не дрожит передо мной. Но и он умолкал при виде моих нахмуренных бровей. Если бы ты знала, какой я могущественный. Я не боюсь никого… Никого… Я не боюсь никого. Мой флот самый сильный на всех морях. Когда я вхожу во дворец Экбатаны, немые ударяют в медные гонги, и весь город падает ниц и умолкает. Ты поедешь со мной во дворец Экбатаны! Я возведу тебя на трон! Я приготовил тебе, чтобы взойти на него, такой славный путь, что ни одна женщина, прежде тебя, не ставила ноги на такой ковер побед. Ты будешь невидимой царицей более многочисленного народа, чем звезды… Я совершил такой далекий путь не за тем, чтобы уехать без тебя… Я покачну, если это нужно, храм, который тебя укрывает, я разрушу все жертвенники. Ты будешь моя вся, вся, понимаешь, вся, от головы до ног. У меня будут твои глаза, твои руки, твои уста… Ты простишь меня, когда ты будешь счастлива!
– Конон, – возразила совершенно спокойно Эринна строгим голосом, – сыны Афин любят своё отечество и чтят своих богов.
И при этом она устремила на него такой взгляд, что под тяжестью его Конон невольно опустился перед ней на колени.
– Я виноват, да, я виноват. Я не стану употреблять насилия. Прости меня. Не осуждай меня… Я так люблю тебя. Ты так прекрасна, я так люблю тебя… Я не могу покинуть тебя… Почему ты отталкиваешь меня?.. Почему ты отталкиваешь меня?
Она опустила голову, сложила руки… Ей нужно было время, чтобы овладеть собой и ответить ему твердым, а не дрожащим от волнения голосом.
– Друг, я не отталкиваю тебя, я бедная девушка… Я, если хочешь, твоя несчастная сестра! Уверяю тебя, что сердце мое стремится к тебе, все благоухая любовью. Все дни в течение этих долгих лет я тоже думала о тебе. Я всегда знала твои мысли, и мне дорог был твой образ. Я мысленно всегда была с тобой. Я сопровождала тебя на твоих кораблях. Это моя мысль о тебе витала перед тобой в песках… Ты ни на минуту не выходил у меня из головы… И ты говоришь, что я не любила тебя! Бедный друг! Бедный друг! Значит, ты не знаешь моего сердца женщины! Сколько раз я звала тебя… Как безумно хотелось мне увидеть тебя… Твои глаза… Твой поцелуй… Твою любовь!
Море успокаивается после бури, и во мне наступил покой. Как жрица, я надела на свое лицо гордую маску равнодушия. Но я не могла сделать мое сердце таким же суровым, как лицо. Я это чувствовала. Я это особенно хорошо поняла, когда узнала, что ты едешь сюда, ко мне. Я увидела, что я похожа на других женщин и что у меня такое же сердце, и это сердце трепещет и страдает. И ты думаешь, что я не любила тебя, ты думаешь, что я не люблю тебя!
Я не могу сказать всего: я иерофантида… Я дала клятву и потому не имею права говорить всего, что у меня на душе… Но неужели ты не видишь… Неужели ты не видишь…
Она ломала руки над головой. Она подняла глаза к небу: слезы блестели на ее длинных ресницах.
– Разве ты не понимаешь, что я называю тебя своим братом, чтобы не броситься телом и душой к тебе в объятья!
– О! – вскричал Конон. – Иди, они ждут тебя! Я унесу тебя в лазурные страны! Мы увезем из Афин только веточку апельсина в цвету. У меня есть воины, чтобы защитить тебя и помочь тебе бежать, у меня есть корабли, есть меч…
– Мне бежать, – возразила Эринна. – Ты предлагаешь мне бежать… Нет, теперь я мох этих камней. Я защищаю здесь вековой культ, который хотят уничтожить безумные, не зная, что если бы это им удалось, его заменил бы другой, еще менее чистый. Уже шесть лет, как я дала клятву отречения… Я не имела права покидать святого старца, который называл меня своей дочерью… Теперь я не имею права покинуть землю, в которой покоятся его кости, покинуть священный храм, где еще обитает его душа… Этого я не могу… Этого я не хочу…
Она умолкла на минуту. Нечеловеческая сила воли горела в ее глазах. И Конон опустил все еще раскрытые руки. Он понял, что дальнейшая борьба бесполезна: он видел чело жрицы, окруженное ореолом, он видел, как ноги ее отделялись от земли. Смутно, как бы во сне, слышал он, как она говорила ему:
– Я не хочу, чтобы ты, вспоминая меня потом, когда уедешь отсюда и будешь плыть по безбрежному морю, осуждал меня и считал меня бессердечной и холодной, как мрамор. Ты изменишь свое мнение, если выслушаешь то, что я тебе скажу сейчас. Выслушай меня, Конон, так, как бы ты слушал в эту минуту голос мой, доходящий до тебя из могилы. Такой же точно голос ты услышишь, когда вспомнишь об Эринне завтра… После… Всегда.
Молодой девушкой я очень любила тебя наивной любовью голубки. Мое сердце было кадильницей, которая изливала свои ароматы только для тебя, а мое тело было тростником, который искал опоры у твоего сильного плеча. Настали дни испытаний. Страданье сделало меня взрослой женщиной. Если бы я стала твоей женой, я любила бы тебя еще больше. Я была бы для тебя тем, чем была Аспазия для Перикла. Но только никто другой, кроме тебя, не шептал бы мне на ухо таких сладких слов, которые любовь напевает в ночной тиши. Я была бы твоей утешительницей в минуты скорби, твоей верной и надежной помощницей в минуты сомнения. Потому что очень часто люди, умеющие одерживать победы, как ты, например, Конон, оказываются слабыми и приходят в отчаяние в борьбе с жизненными неудачами. Я долго мечтала об этом. Но теперь у меня не осталось ничего из того, о чем я мечтала в молодости, и что так красило мою жизнь. Я потеряла тебя: вместо счастья я получила одиночество.
В эту минуту неясный гул донесся из толпы, собравшейся у подножья Акрополя. Поднялись крики. Народ требовал Конона. Один из гоплитов подошел к храму и в нескольких шагах от ступеней выронил копье. Конон обернулся: его взгляд приковал гоплита к месту.
– Господин, – пробормотал гоплит, – народ хочет тебя видеть. Он волнуется от нетерпения.
– Этот человек прав, – сказала иерофантида – Час наступил. Прощай, друг. Отправляйся еще раз на своих легких кораблях. Во время битвы думай о своем отечестве. В минуты одиночества вспоминай иногда обо мне. Со всех берегов внутреннего моря ты можешь, подняв глаза, увидеть сверкающее над Олимпом блестящее созвездие Ориона. Наши взгляды встретятся на далекой звезде. И, если случайностям жизни и смерти угодно будет, чтобы один из нас раньше времени отправился в Елисейские Поля, другой узнает об этом, взглянув на небеса.
Вдруг один из персидских щитов, висевших на портике, оторвался и упал на ступени с сильным шумом. Испуганно взмахнув крыльями, разлетелись священные птицы.
– Прощай, – прошептала жрица.
Она простерла руки, может быть, призывая благословение.
Конон объяснил себе этот жест, как призыв. Бурный порыв бросил его к ней. Он судорожно обнял ее и покрыл поцелуями ее глаза и волосы. Она не защищалась, она сама откинула свой гибкий стан и протянула свои горячие губы.
– Неужели же это прощание навсегда? – воскликнул он.
– Нет, – отвечала она, – только на земле.
И их объятья раскрылись. Конон спустился к Афинам. Взволнованные гоплиты молча следовали за ним. На половине дороги к пропилеям он обернулся. Стоя в темной рамке двери, Эринна, белее своего покрывала, смотрела, как уходила ее молодость, ее мечты.
Конон и его гоплиты снова тронулись в путь. В ту минуту, когда они должны были совсем скрыться, они обернулись еще раз. Бронзовые двери были заперты; священные птицы все еще носились вокруг спокойного Парфенона.
Конон показался у входа в пропилеи. Народ увидел его и приветствовал громкими, радостными криками.
Вечерний ветер покачивал голубоватые вершины масличных деревьев. Пролетавшие над Афинами птицы искали себе убежища в горах. Солнце спускалось к бесконечному морю, и его последние лучи погасали на фронтоне бессмертного храма…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































