Текст книги "Гетера"
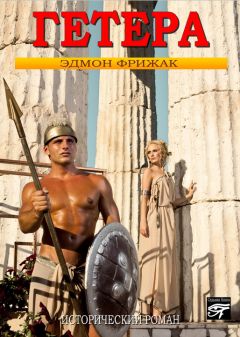
Автор книги: Эдмонд Фрижак
Жанр: Зарубежные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
Глава 7
Лаиса жила в очень красивом доме в предместье Коиле, славившемся своими большими садами.
После индийских войн торжествующие Афины, царица Греции, в несколько лет вновь воздвигли свои разрушенные стены. Вместо домов, сооруженных варварами, строились новые, более обширные и более элегантные здания. Старые дороги были поправлены, слишком крутые склоны выровнены, перекрестки расширены. Два больших предместья, Керамика на севере и Коиле на юге, преобразованы и улучшены. Что-то вроде сада, похожего на современные скверы, занимало центр Коиле. Большие деревья редко попадались в черте города. Поэтому риторы и софисты, сопровождаемые буйной толпой служителей и учеников, усвоили себе привычку рассаживаться на каменных скамьях, устроенных архонтом Гиероклесом в тени этих деревьев. Вода, проведенная из ближайшего источника, наполняла бассейн и вытекала из него по направлению к Иллиссису. Ненюфары покрывали медленно протекавшую воду своими неподвижными листьями, а ветер пел там свои песни в легкой листве камышей.
Дом Лаисы, с двумя поставленными одна на другую террасами, выходил фасадом в этот тенистый и ученый уголок. Лаиса была самая знаменитая гетера в Афинах. Приехав из Коринфа несколько лет тому назад, она, несмотря на свою молодость, смело взяла скипетр царицы изящества и хорошего вкуса, выпавший из слабых рук Аспазии. Философы, артисты, поэты, ее обычные гости, могли заходить к ней для продолжения своих бесед на излюбленные ими темы. Вмешавшись, так сказать, в их повседневную жизнь, она сделалась им равной. Она, лучше всех своих соперниц, сказала, что женщина создана не только для несения домашних обязанностей или для грубых наслаждений; первое предоставлялось примерным супругам, а второе – низшим куртизанкам. Ум, ловкость, находчивость, способность быстро схватывать, говорить обо всем, искусство вести беседу, пленительное сердце и чувства, разумное поклонение искусству, – все это соединялось в Лаисе в равной степени. Ее таланты, ее красота, ее изящество обеспечивали ей богатство и давали ей возможность окружать себя толпой восторженных поклонников. О ней говорили всюду и везде; ее имя повторялось в лавках парфюмеров, ее малейшие жесты комментировались всюду: под сводами театров, в публичных собраниях, в судах, даже в сенате. Потому что тогда красота была религией, воплощенным и видимым типом вечного божества. И в увенчанной цветами гетере языческая толпа приветствовала царицу красоты. Чужестранцы называли ее Афродитой. Афиняне довольствовались улыбкой, потому что Лаиса была брюнетка, как восточная Астарта. Прогуливаться мимо ее дома сделалось для многих ежедневной потребностью, утонченным удовольствием. Площадь Коиле была маленькой академией, более аристократичной и менее переполненной, чем настоящая. Гетера, как добрая богиня, не отказывалась от скромного поклонения своих обожателей. Когда в конце дня она появлялась на убранной цветами террасе, весь жаждавший видеть ее люд был уже там. У нее были чудные волосы, которые заходящее солнце окрашивало в розоватый цвет. Искусственно увеличенная дуга бровей оттеняла ее глаза цвета светлого янтаря. Горячий темперамент заметен был по тонким трепещущим ноздрям и по изгибу ее красных губ. Все человеческие страсти жили в ее взгляде, в ее улыбке. Она опиралась на край балюстрады, ее пальцы были украшены перстнями со сверкающими камнями. Ее душа бродила в толпе, для которой она была царицей гармонии.
Она жила в настоящем дворце, который заставила построить себе Эфранора. Ступени из синего мрамора вели к широкому портику, архитрав которого поддерживал рельефные украшения из мрамора, изображавшие известную легенду об Инахусе. По ступеням были расставлены в разных позах маленькие Эросы, которые, улыбаясь, натягивали свои страшные луки. Она любила цветы: колокольчики ниспадали с террас, увитых ломоносами, и в бронзовых вазах, стоявших на изящных треножниках, разноцветные гвоздики открывали на солнце свои венчики.
В этот день покрытая длинным белым пеплосом, из-под которого виднелись ее обнаженные руки, обвитые золотыми змеями, Лаиса полулежала среди шкур пантер на своей несколько высокой кровати и рассеянно играла с ручной горлицей, которая ворковала, ласкаясь к ней. Клеон и Ликург, старые разбогатевшие метеки, сидя возле нее на низких табуретах, болтали всякий вздор. Оба они много раз предлагали молодой женщине свое состояние; но так как они предлагали в то же время и свою любовь, то она отказывалась от первого и смеялась над второй.
– О, – говорил Клеон, – я построил бы храм Афродите, если бы…
И он умолк.
– Если бы что? – спросила Лаиса.
– Если бы ты согласилась дать мне такой же поцелуй, какой ты дала вчера вечером.
– Я никогда не давала тебе поцелуя.
– Увы! Не мне, а тому молодому стратегу, которого ты увенчала своими изящными ручками. Фи, Лаиса, моряк, от которого еще пахло морем!..
– Глупец. Если бы не он, ты и сегодня был бы еще гребцом на дорийских галерах… Смотри, старый безумец, вот такой же точно поцелуй…
Она взяла обеими руками гладкий череп Клеона и звучно поцеловала его.
– А теперь пусть приходит твой архитектор. Ты слышал, что он сказал, Ликург?
– Разумеется, слышал. Но я еще лучше слышал поцелуй, – отвечал Ликург, видимо, не особенно довольный такой необычной милостью, оказанной его сопернику.
– Раз ты так хорошо слышал, – возразил Клеон, – то ты должен был также заметить, что сегодняшний поцелуй походит на вчерашний так же мало, как ты, Ликург, похож на эфеба. Но, так как я не хочу быть в дурных отношениях с Афродитой, я принесу ей в жертву черного козла, которого попрошу у тебя.
– Благодарю, и не дам тебе ничего, кроме руки, чтобы помочь тебе слезть с этого табурета, на который ты так неосторожно сел.
Вошедший Анаксагор, гордо драпировавшийся в простой плащ из грубой шерсти, облокотился на золоченую химеру, распущенные крылья которой украшали кровать в ногах.
– Привет тебе, Лаиса, – сказал он аффектированно торжественным голосом, – всегда прекрасная дочь Тимандры. Твои обожатели, если я не ошибаюсь, спорят. Почему они не изучают философию?
– Мы не спорим, – с досадой произнес Клеон, – но мне кажется, что твоя мудрость очень плохо одета.
– Моя мудрость – любимое дитя моей бедности. Бедность это такая приятная вещь, которую легко сохранять без сторожа, и которой презрение придает силу.
– Да сохранят тебе ее боги!
– Я помогаю их всемогуществу. Я выиграл сегодня в кости, и поэтому я могу тебе предложить кое-что.
– Что такое? – спросил Клеон, слегка обеспокоенный.
– Новый том моих сентенций. Рукопись будет стоить тебе пять талантов. Это совсем даром. Ты скажешь, что ты сам написал их, и все тебе поверят. Если же тебе почему-то не поверят, в утешение тебе останется…
Клеон нахмурил брови и взглянул на Лаису.
– Я не совсем хорошо понимаю, – сказал он.
– Ты даже вовсе ничего не понимаешь. Тебе осталось бы утешение: ты узнал бы за небольшую сумму, – пять талантов для тебя ничего не значат, – как философия учит умных людей извлекать пользу из глупцов.
И Анаксагор повернулся спиной.
– Мой бедный друг, – улыбаясь, сказала Лаиса, – Анаксагор, верно, не заметил твоего богатого костюма. Иначе он не обращался бы с тобой так легкомысленно. Ты хорошо сделаешь, если отправишься в школу риторов. Ты научишься там иронии и диалектике, и твой мозг, по возвращении оттуда, будет так же хорошо меблирован, как и твой дом.
Между тем рабы расставили среди зала большие столы с фруктами и пирожками и маленькие столики со стоявшими на них кратерами, полными ионического вина. Мало-помалу стали собираться обычные посетители, они приветствовали Лаису и разбивались на группы. Скоро тут были все, кого считали в Афинах богатым или знаменитым. Ритор Терамен, человек лет пятидесяти, ходивший всегда с непокрытой головой, носил очень длинную бороду и тщательно расчесанные волосы. Ксенократ из Халкедонии, старавшийся заставить позабыть о своем иноземном происхождении преувеличенным подражанием афинским модам. Баккилид, элегический поэт, родившийся в Александрии и задержанный и Афинах в качестве заложника за какую-то провинность своих сограждан, давно позабытую. Коребос, Ксеноклес, архитекторы Пропилея и Эректиона. Ктезилад, Поликтет, Навкид, которые наполняли здания и священные места своими чудными статуями. Парразиос, Цейксис, Аполлодор, видевшие на стенах дома Лаисы свои грандиозные, соперничавшие одни с другими фрески. Затем следовал целый легион поэтов, философов, историков, ученых: Кратес, Гелланикос, Эвполис, Изократ, Антифон, астроном Метон, врач Эвтикл и те, которым политика или война создавала временную или продолжительную славу.
Женщин было немного, но все они были красивы: Праксилия из Сикиона, изящная поэтесса Миро из Византии, обвешанная драгоценностями по моде своей страны, певшая чудным голосом стихи любви, которые она сочиняла сама и которые Миртис, ее подруга, аккомпанировала на своей новой арфе. Телексиллия, изгнанная из своего отечества и всюду обращавшая на себя внимание своей удивительной мечтательной красотой. Затем были и другие, менее известные женщины, одетые с пышностью, которую они принимали за изящество. Девушки приходили туда, чтобы их видели; они не подозревали или притворялись, что не догадываются, что Лаиса приглашала их главным образом для того, чтобы заставить лучше оценить, вследствие контраста, чарующую прелесть своей грации.
Хозяйка дома давно уже покинула свое денное ложе. Она ходила по залу, вмешиваясь в разговор, оживляя его, если он, казалось ей, обрывался, быстро принимала участие в спорах и иногда резко сказанным словом заставляла умолкнуть забывшегося спорщика.
Драматический поэт Дефилос, неудачный соперник Эврипида, когда она проходила мимо него, остановил ее, взяв ее за руку. Недовольная уже этим жестом, Лаиса обернулась:
– Что такое? – спросила она.
– Лаиса, я желал бы знать средство, которое ты употребляешь для того, чтобы иметь вино такой восхитительной свежести. Клянусь Герой и всеми богинями, у тебя, наверное, есть ледяной фонтан?
– Конечно, – отвечала гетера, – для того, чтобы бросать туда твои прологи.
И она прошла мимо. Все, слышавшие это, ограничились легкой усмешкой. Но Анаксагор прибавил:
– Будь счастлив, Дефилос. Твои пьесы только прославили тебя, а острое словцо сделало тебя теперь даже знаменитым.
Сквозь драпировку на дверях видна была залитая солнцем терраса, и дневная жара тяжело проникала в зал. Иногда Лаиса подходила к порогу. Она казалась возбужденной и с видимым беспокойством выглядывала на улицу.
– Кого это она ждет? – сказал Корибос своему соседу, ритору Изократу. – Миртис что-то долго не поет, а я только и пришел за тем, чтобы послушать ее.
– Вот тот, кого она ждала, – отвечал Изократ. – Это сам стратег.
Действительно, высокая фигура Конона появилась между колоннами в дверях. Присутствие такого многочисленного собрания, видимо, смутило его, и он сделал даже шаг назад, но сопровождавшая его женщина взяла его за руку и тихонько повела в зал.
– Это Эвника ведет его, – тихо сказал Изократ. – Решительно, этот молодой человек создан для того, чтобы заменить на всех поприщах сбежавшего красавца Алкивиада.
– Что это за Эвника? – спросил Корибос, по-видимому, мало знакомый с людьми и с обитателями этого дома.
– Эвника – молочная сестра Лаисы. Ее суровый авторитет управляет здесь всем. Это она…
Поднялся сильный шум отодвигаемых седалищ, и почти все присутствовавшие поднялись, потому что Лаиса, держа за руку немного смущенного молодого стратега, вышла с ним на середину зала и представила его своим наиболее почетным гостям. В то время, когда шум, вызванный прибытием стратега, стал затихать, послышался голос Эвтикла, который говорил:
– Не говори мне больше о богах!
И, не замечая, что его слова раздаются среди наступившей полной тишины, упрямый врач продолжал:
– Какое мне дело до твоих богов и до того, в чем заключается вера в них, заставившая поклоняться им заблуждающийся народ. Разве ты не понимаешь, до какой степени твой Олимп мешает моим стремлениям вперед. Я удаляю покровы заблуждений, я с большим трудом борюсь против тайн и символов надоевшего всем политеизма. Я стараюсь расширить сферу наших слабых знаний, просветлить мой ум, чтобы узнать, по крайней мере, хоть какие-нибудь следы истины, а ты пугаешь меня, точно ребенка, каким-то громом твоего Зевса…
– Хорошо сказано, Эвтикл, – воскликнул Анаксагор. – Но, пока ты здесь споришь, Асклепиос старается уморить всех твоих больных.
Врач с яростью обернулся…
Лаиса снова легла на свою постель. Опираясь на локти, положив подбородок на руки, она смотрела сквозь свои длинные ресницы на сидевшего возле нее Конона.
– Как ты хорошо сделал, что пришел, – прошептала она. – Я начинала тревожиться и говорила себе: «он презирает меня», и я уже была готова заплакать.
– Лаиса, – отвечал Конон, – ты немного обманула мое доверие. Ты сказала мне, что будешь говорить со мной о счастье кого-то, кто мне дорог…
– Я хотела говорить с тобой только об одном своем счастье.
– И я попадаю на празднество в полном разгаре. Это настоящее предательство.
– Прости мне это, я так счастлива!
– Я прощаю тебя, Лаиса. Но теперь, после того, как я исполнил твое желание, мне надо уходить. Важные дела принуждают меня идти немедленно.
– Подожди немного. Миро будет петь. Она будет петь для тебя. Не правда ли, Миро, ты будешь петь для него?
Рабы, снуя между столами, снова наполнили чаши, а затем удалились, опустив за собой портьеру. Зал погрузился в полумрак, и все смолкли, потому что Миртис начала играть на арфе. Это был почти еще неизвестный инструмент, недавно привезенный из Египта. Арфа Миртис изображала дракона, загнутый хвост которого поддерживал медные струны. Обнаженные руки молодой женщины виднелись из-под ее туники без рукавов, и вся белая в тени она казалась лебедем, вытянувшим свою гибкую шею перед тем, как улететь. Миро, стоя возле нее, пела:
«Он счастливый соперник богов,
тот, кто, стоя со мной лицом к лицу
и глядя мне в глаза, слушает
ласковый шепот моего голоса.
Он улыбается, моя грудь вздымается,
сердце перестает биться. Силы покидают меня.
Я смотрю на него. Уста мои дрожат и немеют.
Язык прилипает к небу.
Вдруг пламя охватывает мое взволнованное сердце.
Глаза заволакиваются. Я слышу вокруг себя смутный гул.
Холодный пот обливает мои члены
и каплями выступает у меня на челе.
Я конвульсивно содрогаюсь, возбужденная.
Жизнь покидает меня, лицо мое бледнеет,
силы падают, я теряю сознание.
Привет тебе, прекрасная звезда,
привет тебе, блестящая Селена,
посылающая свои лучи на мое ложе
и приводящая меня в безмолвии ночи
в объятия обожаемого, часы удовольствия слишком кратки».
Последние аккорды арфы замерли при гробовом молчании. Ликург захлопал в ладоши и вскричал:
– Миро, твои стихи великолепны. Они так же прекрасны, как и ты. Я влюблен в твои стихи. Я покупаю их и тебя вместе с ними.
– Тупоумный, – раздраженно проговорила Лаиса. – Твоя гнусная болтовня разрушила гармонию, которая дрожала еще во всех нас.
Философ Кратес подошел к молодым женщинам:
– Вы удивительно дополняете одна другую, – сказал он. – Музыкальные пальцы Миртис поддерживают изящный голос Миро, как колонна поддерживает храм.
– Не хвали Миро за ее талант, – вмешался поэт Антифон, – стихи, которые ты слышал, не самые изящные, а самые энергичные из всех стихов. Чувствуешь ли ты, как дрожит их ритм, как он колеблется? Стихи обрываются, они упали бы, если бы Миртис не поддержала их на медных струнах своей арфы. И я от глубины души приветствую вашу пылкую душу, о, мои сестры.
– А ты сам разве ничего не прочитаешь нам, Антифон? – спросила Миртис, тронутая восторженной похвалой молодого человека.
– Увы, после вас это немыслимо. В следующий раз мы начнем с меня. Но Баккилид сочинил элегию, которой еще никто не слыхал. Мы должны первыми услышать ее.
– Приготовься, Баккилид, – сказала Лаиса своим повелительным тоном.
– С большим удовольствием, – отозвался тот, – но предупреждаю вас, что она немного длинна.
– Ну, – вскричал Ликург, – тогда прочти нам начало и конец!
– Фивянин, – крикнула Лаиса, – позови двух рабов и прикажи вынести этого грубияна!
Испуганный Ликург втянул голову в плечи и замолчал. Все присутствовавшие пододвинулись поближе к поэту. Баккилид, опираясь на спинку кресла, медленно, тихим голосом прочел сочиненную им элегию.
После того, как дрожавший от волнения голос молодого поэта произнес последнюю фразу, все присутствовавшие долго еще оставались безмолвными. Их греческая душа дрожала в унисон с трогательной жалобой поэта. Многие из них принимали участие в этой экспедиции в Сиракузы, такой роковой для афинского оружия, что читая патетические стихи Эврипида, как бы видели, как растворялись железные двери Латомии. Циник Анаксагор, под влиянием охватившего его волнения, которое он нисколько не старался скрыть, воскликнул:
– Что делает здесь этот молодой человек? Почему продолжает оставаться у нас пленником тот, кто умеет с такой искренностью высказывать нам сожаление о своем печальном отечестве? Я недавно был в Египте и, глядя на эти низменные берега, которые палит знойное солнце, я благодарил богов за то, что они дали мне родиться под солнцем Аттики. Но у каждого человека живет в сердце врожденная любовь к родной земле. И, раз Баккилид с сожалением вспоминает о громадном сфинксе, сидящем в песках у подножья пирамид, почему мы не даем ему позволения вернуться на родину? Молодой человек, неужели до сих пор никто не говорил о тебе в народном собрании?
– Я сам говорил о себе, – отвечал Баккилид. – Мой акцент нашли смешным, и смех покрыл мой голос.
– Он не покроет мой голос. Завтра ты пойдешь со мной. Если я увижу, что народ будет колебаться, я прочту твои стихи. Если бы ты стал читать их сам, возможно, что насмешка какого-нибудь дурака помешала бы тебе дочитать их до конца.
– Благодарю тебя, Анаксагор. Твое суровое учение и твои манеры заставляли меня удаляться от твоего портика. Но теперь я еще раз убеждаюсь; что не надо судить о людях по наружности. У тебя отзывчивое сердце под грубым плащом.
– Мое сердце вовсе не отзывчиво, – резко возразил Анаксагор. – Быть справедливым не значит быть чувствительным. Чувствительное сердце у Клеона и Ликурга. Их трогает музыка, как быков, наполнявших конюшни Авгия, трогал голос Геркулеса. Лаиса! – крикнул он, – Разве ты не видишь, что твои обожатели спят? В этом мало лестного для добродетели твоих прелестей или для прелести твоих добродетелей… как тебе больше нравится.
Но Лаиса не слышала его. Погруженная в шкуры пантер, на рыжеватом фоне которых выступала белизна ее рук, она слушала Конона, который говорил вполголоса и, без сомнения, рассказывал о своей последней битве. Миро, сидя возле стратега, может быть, даже слишком близко к нему, тоже слушала его рассказ. Случайно ли, умышленно ли, ее туника была отстегнута, плечо было обнажено, и прозрачная вышивка ее легкой рубашки одна только прикрывала ее розовую грудь. За спиной Конона, склонясь к нему, сидела Тезилла с красными губами и влажными глазами. Одна только Миртис, сложив руки на скрещенных коленях, мечтала возле своей безмолвной арфы.
– Ну, – сказал Анаксагор, – у тебя скучно, Лаиса.
– Как это, скучно! – вскричала с досадой гетера. – Ты говоришь, что у меня скучно, но ты можешь пить. Налей ему вина, Дионисий! Если он напьется, как третьего дня, ты прикажешь неграм вынести его на улицу. Ты велишь им только не класть его в колеи от колесниц.
– Я постараюсь уйти сам, – отвечал Анаксагор, нисколько не обижаясь. – Тем не менее, я все-таки благодарю тебя за твою заботливость. Давай пить, Дионисий!
Гул голосов наполнял большую комнату. Рабы под надзором Дионисия снова установили столы. Один из них, всегда один и тот же, прежде чем наполнять чаши, быстро наклонял горлышко амфор. Обыкновенно сам хозяин дома приносил в жертву домашним богам каплю чистейшего масла, плававшего на поверхности вина. Но здесь обычаи не имели за собой давности и не пользовались никакими правами; простой раб, разносивший хлеб и вино в обвитых цветами корзинах, заменял молодых канефоров.
Миро взяла за руку Конона и, притянув его к себе, стала говорить ему шепотом на ухо нечто, по всей вероятности, приятное и веселое, потому что молодой человек слушал ее, улыбаясь.
Лаиса, все еще продолжавшая лежать на постели, нервно ударяла по ней обнаженной ногой, так как крепида с нее свалилась на пол.
– Завяжи же тунику, Миро, – сказала она. – А то видны у тебя складки на теле.
– Если у меня и появились складки, то очень недавно, – возразила Миро язвительно, – потому что еще вчера я позировала для бюста Афродиты. Не правда ли, Миртис, я была вчера у Лизимаха?
– Это правда, – подтвердила Миртис. – Мы были там вместе. Лизимах лепил только твои плечи, а лицо он лепил с меня.
– Потому что он нашел, что твоя прическа лучше подходила к типу статуи.
– Что же эта за статуя? – спросил Конон.
– О, – ответила Лаиса, – там есть все, что хочешь. Толстая Теано позировала для ног. Это будет богиня красоты.
Взбешенная Миро собиралась возразить ей, но в эту минуту Поликлес и Гелланикос подошли к начавшим ссориться молодым женщинам:
– Лаиса, – сказал первый, – мы пришли узнать твое мнение. Гелланикос со вчерашнего дня без ума от одного юноши…
– Это один эфеб.
– Что же вам нужно от меня? – спросила Лаиса.
– Скажи, что такое, по-твоему, любовь? И почему именно нужна любовь?
– Не знаю.
– У тебя не хватает опытности, бедняжка, – тихо сказала Миро. Лаиса бросила на нее суровый взгляд.
– Миро сумеет лучше объяснить вам, чем я, – отвечала она, вставая. – Она знает, по крайней мере, как старые грехи заставляют делать новые. У меня нет времени болтать с вами об этом. Меня ждет моя одевальщица, и я иду к ней.
Она поднялась легкая, грациозная и довольная, с минуту поправляла свои волосы, оправила складки туники и, готовясь выйти, сказала, обернувшись:
– Да, спросите об этом Миро. Она очень сильна в этом, так как занимается этим вопросом целые ночи, чтобы потом говорить об этом целые дни.
– Я изложила это в стихах, – сказала Миро. – Если хочешь, мы будем конкурировать вместе.
– О! Стихи… Анаксагор пишет их, когда бывает пьян.
И Лаиса опустила за собой тяжелую бахрому драпировки.
– Хотите знать мнение Анакреона? – спросила Миро молодых людей, оставшихся возле нее.
– Мы предпочитаем узнать твое мнение, Миро, мнение гетеры.
– Ваш вопрос, – отвечала она после минутного размышления, – ваш вопрос стар, как мир, и каждый решает его, как ему нравится. Геркулес долго оплакивал смерть Гиласа, исчезнувшего во время преследования им Никлеа и Маллиса в светлых водах их фонтана. Но затем он позабыл Гиласа и стал работать на прялке у ног темноволосой Омфалы. Мы все дети Геркулеса с таким же непостоянным сердцем, как и у него. Мы легкие листья, носимые ветром, которые летят, куда влечет их желание, к красоте! Высшая красота – та красота, которая пробуждает и укрощает нас, никогда не налагая на нас цепей. Наши временные возлюбленные могут срывать с наших губ вечные клятвы; но мы забываем их в ту же минуту, потому что для нас любовь только страсть. И эта страсть, рожденная от взгляда, возбужденная улыбкой, умирает после первого же поцелуя. Это минутное и всесильное дитя жизни, это минутное удовольствие только слегка касается нашей души. Это яркое солнце, всегда поднимающееся на горизонте.
В то время, как Миро говорила это, Дионисий подошел к Конону и тихо сказал ему несколько слов. Конон со скучающим видом последовал за ним.
– Миро, – сказал Баккилид, – как такие верные и в то же время такие ложные понятия могут сходить с твоих прелестных губ? Как ты можешь, точно дикарка, сравнивать разумную любовь людей со скотскими и бессознательными влечениями животных, унижать ее до простого культа Эроса? Как ты, вдохновенная поэтесса, можешь забывать о своей чудной поэзии?
– Баккилид, твои друзья спрашивали мнение гетеры. Гетера им и отвечала. Но, если теперь ты хочешь знать, что думает женщина, то и женщина может ответить тебе на это. Я завидую тем девушкам, которые выходят замуж чистыми, непорочными. Они получают первый поцелуй от своего мужа. Они с радостью приветствуют материнство и со счастливой улыбкой на устах убаюкивают ребенка, засыпающего у них на руках, у груди матери. Их целомудрие надолго сохраняет им красоту. Они живут, наслаждаясь всеми радостями семейной жизни, не испытывая тех мук зависти, с которой смотрят на них те, которые отдают свои ласки, свою любовь за деньги. Я немного прожила еще на свете, но все-таки мне кажется, что в дни моей первой юности солнце светило как будто ярче, воздух был прозрачнее, море красивее, земля чище. Это, по всей вероятности, потому, что тогда и я была такая же, как они. Я любила багрянец заката, сияние утра и свежий источник, который струился в моей родной долине под ивами, среди цветов, украшавших зеленый травяной ковер. Я любила все, что я потеряла. Я еще не видела Афродиты, плывущей на своей морской раковине, окруженной тритонами. Я не знала, что я была красива. Однажды один чужестранец прибыл в нашу долину, я поверила его лживым словам… и я стала гетерой Миро… Те, которые любят меня немного, называют меня поэтессой. Это правда, я пишу стихи. Я всегда нахожу в них сожаление о прошлом, часто иллюзию настоящего. Иногда я срываю хрупкий цветок надежды… И, если вы все еще считаете меня счастливой, то это потому, что вы не видите ран на моем сердце.
– Всё, что ты сказала, Миро, очень красиво, – проговорил Баккилид. – Чтобы доказать тебе мою благодарность, позволь мне поцеловать тебя в губы.
– Цена за мой поцелуй талант серебром.
– Это слишком много для моего кошелька.
– Тогда сделай, как Анаксагор и три четверти остальных. Пей: чаши полны…
Рабы зажгли восковые свечи, вставленные в прикрепленные к стене бронзовые подсвечники и треугольные лампы, свисавшие с потолка; поставили на столы вино, мед и пирожки. Затем они расставили полукругом кресла и предложили занять на них места гостям. Вошли флейтистки с венками на головах и выстроились в глубине зала. Следом за ними появились танцовщицы, грациозные фигуры которых вырисовывались под длинными и прозрачными туниками. В зале распространился сильный запах духов. Танцовщицы сделали несколько па, и начались танцы под звуки мелодичной и очень тихой музыки…
Дионисий, знавший все обычаи, открыл дверь, не постучавшись, и, пропустив вперед Конона, скромно удалился. Атмосфера была тяжелая, насыщенная ароматами. Маленький красный свет над гипокаустом обозначал место курильниц, в которых горели ароматы из Армении. Темные материи тяжелыми складками падали с потолка и покрывали стены. Мозаичный пол почти всюду исчезал под разноцветным ковром, вытканным на берегах Евфрата.
В углу возле двери стоял между двумя колоннами домашний жертвенник. На нем на жаровне медленно сгорали палочки фимиама, курившегося перед чудной белой статуэткой, вышедшей из мастерской Гиппарха. Это была сама Афродита, которую Лаиса поместила в этом храме любви, Афродита, выходящая из волн морских. Богиня только что выступила из волн и грациозным жестом выжимала свои длинные, еще влажные волосы.
Против нее помещалось большое полированное зеркало. Лаиса, стоя перед ним, видела себя всю и могла сама воздавать почести своей красоте. Две восковых свечи, стоявших перед ней, отражаясь в зеркале, освещали его. Бронзовые экраны заслоняли огонь, и только отражение его в зеркале освещало часть комнаты слабым и приятным светом, оставляя другую часть наполовину утонувшей в тени.
В этой темной части комнаты стояла кровать, к которой вели три ступеньки из розового мрамора; широкая и низкая кровать, покрытая дорогими мехами, привезенными из страны снегов. Каждое утро одна и та же рабыня тщательно расчесывала их. Лаиса, когда она спала одна, с наслаждением погружалась в мягкий, пушистый и шелковистый мех; но обыкновенно Лаиса спала не одна, и рабыня уносила меха вечером, чтобы их не помяли. В этот день меха не были убраны, и загроможденная ими постель казалась при слабом свете свечей каким-то чудовищным зверем.
Когда вошел Конон, Лаиса стояла, наклонившись возле кровати так, что свет падал на ее волосы и освещал надетые на ней драгоценности, которые сверкали разноцветными огнями.
– Сядь возле меня. Я хочу поговорить с тобой, – сказала она.
– Как ты красива, Лаиса!
– Не правда ли, я красива?
Она села на кровать, и свет от свечей осветил ее всю. На ней была полупрозрачная туника, плотно охватывавшая всю ее фигуру. Белизна ее обнаженных ног еще резче выделялась на покрывале малинового цвета. Густая масса волос осеняла ее лицо, а ее глаза блестели, как черный жемчуг.
– Не правда ли, я красива? – сказала она, закидывая руки за голову и выставляя свои тонкие бедра. – Ну, – прибавила она тише, – я сегодня так красива только для тебя одного… потому что всего со вчерашнего дня гордая Лаиса влюблена… влюблена… влюблена… я позвала тебя сюда, и я нарочно нарядилась так, чтобы опьянить тебя своей красотой.
– Твоя красота превосходит красоту всех других женщин. Мои глаза насыщаются ею. Но…
– Но что? – спросила удивленная гетера… – Что же ты ждешь, чтобы снять свой плащ?
– Прекратим эту опасную игру… Никто из твоих гостей не ушел еще из зала пиршества. Их, наверное, удивляет твое отсутствие.
– Какое мне до этого дело? Я хочу не их, а тебя, одного тебя.
– Одного меня, зачем же тогда столько молодых людей, красивее и богаче меня, валяется все дни у твоих маленьких обнаженных ножек.
– Пусть себе валяются, им там хорошо. Их мольбы не трогают меня. Не думай о них. Я хочу только тебя.
– Только меня, человека, который ничего не желает от тебя. Женщины так созданы, женщины любят только тех, кто к ним равнодушен.
– Конечно. Ты только что выказал мне пренебрежение ради этой противной Миро, теперь надо вознаградить меня за это. Скорей!.. – прибавила Лаиса, нетерпеливо ударяя пяткой о пятку. – Через несколько минут ты будешь умолять меня, а я буду защищаться из гордости, и мы глупо потеряем сегодняшний вечер.
– Моих просьб тебе нечего бояться, ты сильно ошибаешься, Лаиса. Я хочу вывести тебя из заблуждения… я хочу объяснить тебе, в чем дело… мне жаль…
– Мне ни на что не нужна твоя жалость. Чего ты хочешь? – вскричала молодая женщина.
– Ничего… Позволь мне только проститься с тобой.
– Проститься? Теперь? К чему это оскорбительное презрение?
– Я не презираю тебя. Напротив, я восхищаюсь всем, что вижу и что слышу здесь…
– Твое восхищение льстит мне. Так ты думаешь, что я позволю тебе уйти так, после того, как я сказала тебе все? Ты удивительный человек. Я никогда не говорила никому ничего подобного. Торопись, время идет. Иди ко мне, я красива… Я чувствую, что мной овладевает гнев. Бойся униженной Лаисы. Иди, говорю я, чего ты раздумываешь?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































