Текст книги "Гетера"
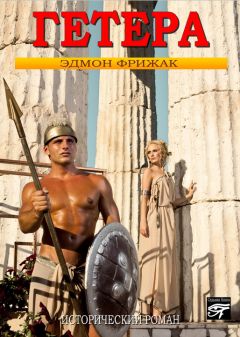
Автор книги: Эдмонд Фрижак
Жанр: Зарубежные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
Глава 9
Ныне Парфенон представляет собой внушающую благоговейное почтение руину, окруженную редкой травой, которой покрыт Акрополь. Время придало ему новый золотистый колорит, составленный из всех лучей, которые неподвижное солнце проливало на его мрамор в течение целых двадцати пяти веков. Его восточная сторона, за исключением пострадавших деталей, в общем, остается в прежнем виде. И таково величие его линий, что благоговейно взирающий на него путешественник может еще представить его себе таким, каким он был новый, когда весь сиял своей белизной.
Это был памятник молодой и великолепный. Кимон начал строить его на пороге самой прекрасной эры, которая когда-либо расцветала в мире. Затем возобновил работы Фидий, которому помогали Иктиной и Калликрат; они все трое умерли почти одновременно по окончании работ по сооружению Парфенона.
Христианское искусство средних веков покрыло север Европы множеством храмов, сооруженных из камня и гранита и темными массами вырисовывающихся на сером фоне неба. Последовавшая затем эпоха Возрождения вдохновилась античным искусством, но не имея сил создать что-либо подобное, соорудила храмы, хотя и более обширные, но не величественные. Пусть каждый, кто ищет душу прошлого под пеплом веков, покрывающих груды камней, взглянет на то, что осталось от Парфенона, и скажет, было ли создано хоть раз что-либо высшее, даже более могучим, но менее строгим гением Микеланджело что-либо стоящее выше образца греческого искусства, которое умело соединять мягкость с твердостью, гармонию с величием, изящество со строгостью.
Храм состоял из трех частей: пронаоса, где верующие приносили богатые, а иногда наивные жертвы; целлы, где возвышалась статуя Афины Парфенос, высеченная Фидием из слоновой кости и золота, и, наконец, опистодома, заключавшего в себе сокровищницу Афин и тесные кельи для иерофанта и двух жриц.
Прошло два месяца. Эринна не покидала Парфенона. Она жила там, в тишине, проводя время в размышлении и в молитве. Она быстро приобрела расположение верховного жреца и через несколько недель носила уже серебряную повязку и длинное покрывало жриц. На нее была возложена обязанность содержать в чистоте и порядке священные предметы, употребляемые при религиозных церемониях, и украшения целлы. Она начинала свой рабочий день, как только занималась заря. Золотые вазы и кадила, протертые тонкой кожей антилопы, блестели в глубине святилища. Она убирала в шкафы ножи полированной стали, употреблявшиеся для заклания жертвенных баранов и козлов, молотки, бронзовую маску, которую надевали на голову жертвенным телицам, грабли с шестью зубцами для того, чтобы выгребать на жертвеннике угли из золы, и те длинные серебряные иголки, которыми жрецы-прорицатели прокалывали дымящиеся внутренности жертв. Затем она осматривала хрустальные фиолы, наполненные ароматами, бальзамы и пахучие травы, которыми главный жрец пользовался для прикладывания к ранам и для лечения приходивших к нему больных. Затем она же наблюдала за сохранностью жреческих облачений и возлагала на головы приносивших жертвы сплетенные рабынями венки из цветов. Из опистодома вела в целлу большая дверь, которая никогда не открывалась вся; и там, в вечном мраке хранились покрывала и одежды богини. Эринна каждый день осматривала их и сама облачала статую, строго соблюдая установленный для этого церемониал.
Занятая таким образом изо дня в день молодая девушка не имела времени отдаваться преследовавшим ее воспоминаниям. В то время, как ее проворные пальцы были заняты исполнением этих повседневных обязанностей, ее мечтательная мысль дремала. Когда девушки проходили процессией вокруг храма, и когда она, вся в белом под своими покрывалами, появлялась, держа в руках священные предметы культа, женщины указывали на нее одна другой и, пристально глядя на нее, в то же время шепотом передавали ее историю.
Гиппарх и Ренайя часто приходили в Акрополь. Они садились возле Эринны на ступени храма у подножья белых колонн. Светлая ночь окружала их. Маленькая, никогда не тушившаяся лампа, горевшая под пронаосом, давала хотя и немного света, на все-таки побеждала мрак.
Они сообщали Эринне все городские новости, старались дружеским участием победить ее неизлечимую печаль. Благодаря теплому дыханию их дружбы, лицо жрицы с каждым днем становилось менее грустным. Оно уже не было таким бледным, как в первые дни: молодость брала свое. Но, если по внешности она и не казалась уже такой удрученной, в ее фигуре сохранилась та особого рода строгость и торжественность, которая присуща тем, кто живет в мирной обители. И, хотя выражение лица ее становилось мало-помалу живее, его не освещало уже радостное отражение состояния ее души, и ни одна из ее подруг не видела уже больше ее улыбки.
Она любила ночь. Особого рода неопределенного характера мистическое настроение безумия, умиления и тоски овладевали ею, когда она смотрела во мрак ночи. Ночь, это – тишина и уединение. Глаза тела могут закрыться; глаза души остаются всегда открытыми. Те, у кого тяжело на душе, любят ночь утешительницу. Ночью голоса природы звучат мелодичнее. Они кажутся какими-то близкими, родными. Проносясь по равнине, по лесу или над морем, ветер, который доносит их, полон ясной гармонии уединения.
Однажды вечером она была одна на своем обычном месте. Было позднее обыкновенного. Днем шел дождь. Плиты акрополя были еще мокрые, душистая свежесть поднималась от земли. Звезды, которых, казалось, в эту ночь было как будто больше, освещали своими золотыми точками темный свод неба.
Каждый день в сумерки великий иерофант, в сопровождении вооруженных стражей, обходил все храмы, стоявшие на площадке акрополя. Он осматривал двери, убеждался, что они заперты, и, что никакая опасность со стороны воров или пожара не грозила сокровищам, хранение которых было вверено ему. Он расставлял по постам ночной караул, затем отправлялся к себе в дом, расположенный возле музеиона. Но часто он продолжал свою прогулку по акрополю до очень позднего часа. Стража долго видела, как бродила его белая фигура между колоннами. Священные совы знали его и, в то время как он бросал им остатки от жертвенных животных, они окружали его, безумно размахивая крыльями, их желтые глаза блестели над его головой, как бледный свет ночью. Он умел читать книги, написанные неизвестными буквами. Все мифы востока были ему известны; он знал все предзнаменования: те, которые объяснялись известным зигзагом молнии, порывами ветра: или ударами грома, и те, которые объяснялись гаданием по внутренностям жертв, убитых на белом жертвенном камне. В молодости он объехал три части света. Через ледяные степи, тянувшиеся к самому северному полюсу возили его киммерийцы в своих легких санках, с которыми легкие олени несутся по снегу до этих, застывших в ужасе и одиночестве мест, где кровавое солнце, едва поднимаясь над горизонтом, озаряет слабым светом ночь, которой никогда не бывает конца. Он простирался, стоя на оленьих шкурах, перед Тором и Фриггой. Он поклонялся им в их снеговых храмах. Он два раза видел богиню севера, появлявшуюся на горизонте в то время, как великолепная северная заря освещала далекую Валгаллу. Из этих чужих стран он привез могущественные амулеты, странные письмена, начертанные на волшебных палочках, которые могли погасить пламя, укрощать бурю, иногда даже оживлять мертвых. Затем, на плотах, поддерживавшихся на кожаных бурдюках, он спускался по широкой, как океан, реке, которая катит в Гирканское море свои грозные волны.
Он видел, как скифы, носившие кидары, убивали своих пленников и орошали человеческой кровью лезвие священного меча. Вавилонские жрецы объяснили ему, как Ваал, сын Илоса, разрубил надвое бесформенную массу Тераты. Из нижней части гигантского божества образовалась земля. Грудь и голова образовали небо. Затем Ваал задушил самого себя, и капли крови, которые упали на землю, превратились в людей; капли крови, брызнувшие на небо, стали звездами. Великому иерофанту невольно приходило в голову, что это сказание очень похоже на сказание о том, как Хронос одним взмахом своей острой косы создал из чрева хаоса небо и землю. Возможно, что в незапамятные времена ассирийский Ваал и греческий Хронос были братьями. В скинии Давида, насчитывавшей уже шесть веков существования, он поклонялся перед семисвечником вместе с евреями Единому Богу, Богу бестелесному, Которому не воздвигали статуй, Иегове, Отцу солнца, Вечному Создателю всего сущего на земле и на небе. Наконец, поднявшись до истоков Нила, далеко за пределы самого верхнего водопада, он видел у подошвы высокой горы, на которой лежала с этой стороны крыша мира, как садится поддерживаемое морскими богами солнце на свое ложе, на действительно безбрежном море.
Покинув Афины еще эфебом, он вернулся из этих далеких странствий с серебряными нитями в своей шелковистой бороде; и в течение сорока лет, будучи сперва младшим жрецом, а потом верховным, он не покидал акрополя. Все боялись его могущества, но все почитали его мудрость. Перикл часто советовался с ним. Он был против отправления флота в Сицилию. Он был против и тогда, когда непостоянный народ во второй раз изгнал Алкивиада. С той поры, отказавшись давать советы, он довольствовался тем, что наблюдал звезды.
Когда верховный жрец взошел на ступени храма, он увидел в тени бледную фигуру Эринны.
– Дитя мое, – спросил он строгим тоном, – почему ты не спишь в такое позднее время?
Так как служившая молодая девушка не отвечала ему ни слова, он прибавил мягче:
– Жрицы вовсе не обязаны приходить сюда мечтать, таким образом, по ночам. Для тебя язык светил темен и лишен смысла. Афина, которой ты служишь, вовсе не богиня теней; твои бесполезные мечтания могут только утолить твое тело, не укрепляя твоей души.
– Отец мой, – отвечала Эринна, – не думайте, что я стараюсь разгадать тайны, которых я не знаю, которых вы и сами, может быть, не знаете, и которых я, во всяком случае, никогда не в состоянии буду постигнуть, хотя мне и хотелось бы поучиться. Я сижу здесь потому, что сон бежит от меня. Если я провожу целый день в безмолвии, то это потому, что мне некому довериться. Придя в храм, чтобы уйти от моего горя, я нашла спокойствие, которое вы обещали мне. Я не предаюсь сожалению о прошлом: я чувствую, напротив, что благодетельный мир всецело проникает в мою душу; и скоро у меня не будет другой мысли, кроме мысли о служении богине, которой я себя посвятила.
Иерофант был поражен этими простыми словами. Он провел первую часть своей жизни в том, что старался побороть существовавшие в то время предрассудки, которые сохранили силу и в наше время, несмотря на изменение формы их, пересозданной протекшими веками. С тех пор, как он удалился в недоступное для других убежище храма, он старался привести в порядок все, что он узнал из книг мудрецов или почерпнул из своего собственного опыта. Но по мере того, как он приподнимал уголки покрывала, неизвестное, которое он хотел постичь, отступало перед ним. Ни в одном из подвластных ему жрецов, всецело отдавшихся материальным и грубым заботам культа, он не видел не только жажды знаний, но даже простого любопытства.
Поэтому ни один из них не пользовался особой его доверенностью. Чувствуя приближение смерти, он с грустью думал о том, что с ним вместе угаснет и зажженный им маленький светильник знания. По мере того, как дряхлело его тело, его ум становился все яснее и все более проникал в тайну неизвестного. Он чувствовал, как у него видимо зарождается особенное религиозное миросозерцание, полное еще смутных неопределенных образов, которые он хотел выяснить и установить прежде, чем он покинет этот мир.
Он посмотрел на молодую девушку.
– В таком случае, – сказал он, – если, несмотря на свою молодость, ты уже не ребенок, если ты действительно ищешь знания, я сделаю тебя дочерью моей души. Я научу тебя тому немногому, что знаю сам. Когда ты состаришься – к тому времени мое тело давно уже будет в земле – ты в свою очередь передашь тому или той, кого ты изберешь, все сокровище наших общих мировоззрений. Но только помни, что для того, чтобы достигнуть этого, надо будет совсем отрешиться от земли. Надо будет жить далеко от суеты людской. Твои мысли будут людям чужды, как чужды им и мои мысли. Храни хорошенько тайну твоих высоких мыслей. Презирай все, что кажется украшением земного существования. Я думал некогда, я верил, я был молод, что будущее может иметь в глазах людей нечто привлекательное. Я был тогда безумец, который еще мечтает о вечной юности, когда самые красивые цветы ее уже опали! Но ты, в которой бессмертные еще не наметили конца жизни, пользуйся временем, которое тебе остается. Погрузись в уединение. Не люби ничего, не жалей ни о чем. Это будет тебе легко, потому что ты не знаешь счастья.
Эринна закрыла лицо руками. Молодая девушка плакала.
– О чем ты плачешь, дитя мое? – спросил удивленный жрец.
– О, отец, – прошептала молодая девушка, – значит, храм – это могила?
– Могила? Нет! Приют – да; место для умственных занятий и молитв. Но, увы! Я боюсь, что ты сама себя обманываешь, и что только сожаление о прошлом приводит тебя сюда вечером. В тебе еще живет вера в будущее. Рана твоего сердца еще слишком свежа: сладкая надежда все еще живет в нем, и мои слова удивили тебя.
– Это правда, – сказала Эринна прерывающимся голосом, – я сознаюсь, что мысль о возможности иного счастья не покинула меня, и иногда моя скорбная душа удаляется, помимо моей воли, в надежду новой весны.
– Одумайся, мое бедное дитя. Если бы даже молодой воин, которого я изгнал из этих священных мест, и вернулся бы еще раз с победными лаврами, если бы ты даже нарушила свой добровольный обет и, предоставив себя справедливому гневу неумолимых богов, склонила свое чело под игом Гименея, часы испытания наложили бы на тебя неизгладимый след. Ты уже не будешь жаждать веселых игр и смеха, у тебя на первом плане будет стоять строгое исполнение долга. Почему не остаться бы тебе тем, что ты есть? Вокруг тебя проходит все; еще скорее, внутри тебя, проходят твои чувства, твои воспоминания, даже твое горе. Посмотри, где дни твоего детства, где листья последних лет!
После долгого и тягостного молчания старый жрец продолжал:
– Я родился во второй год семьдесят третьей олимпиады. Я очень стар: может быть, настолько стар, что не увижу уже падения Афин. Я чувствую, что я скоро умру: жизни больше нечему научить меня; смерть начинает поучать меня. Едва удерживаемый одной и уже склоняясь к другой, я испытываю их двойную силу. Глаза моей души увеличиваются, чтобы принять приближающийся свет. Глаза моего тела закрываются и темнеют. Я уже не различаю контура планет. Я с трудом могу определить высоту их на небесном своде. А твои глаза молоды: они заменят мои. Но для этого нужно, чтобы их не застилали слезы. Осуши свои слезы, девушка. Потомство будет помнить твое имя и повторит его с похвалой.
– Ребенок Ренайи также знает имя своей матери. Он все время лепечет его. И этот лепет ребенка для моей подруги дороже, чем все сокровища, чем все обещания будущего!
– Многое хорошо в пении птиц, – задумчиво сказал жрец. – Много хорошего и в лепете маленьких детей. Не надо отрицать того, что плохо понимаешь. Твоя подруга – счастливая мать.
– Я предпочла бы ее судьбу. Но я уже думала, что если боги отказали мне в радости быть женой, в счастье быть матерью, то это потому, что всемогущие предназначали мне иную жизнь. Мне, вероятно, было предназначено место возле тебя. Я согласна быть твоей ученицей; я буду всеми силами помогать тебе. Но, может быть, я окажусь неспособной постичь твое учение, сохранить его, особенно же развить его.
– Глаза – зеркало души. Твои глаза прекрасны и светлы. Они полны того священного огня, который Прометей похитил для нас у богов. Не сомневайся в своих силах и в своих способностях.
Эринна печально улыбнулась. Но жрец не мог ее видеть. Ее глаза! Другой восхищался их блеском! К чему послужила их бессмертная красота! Два месяца тому назад в этот самый день горячие лошади несли ее по дороге в Деидамию. Везде было солнце. Ее глаза были полны света; теперь они полны мрака.
Она подняла глаза к звездам.
– Ты не знаешь, – спросила она, – где теперь афинские корабли?
– Откуда же я это могу знать, дитя мое? Пританы не имеют известий о флоте более двух недель.
– Я думала, что ты имеешь власть спрашивать звезды, – наивно заметила молодая девушка.
– Нет. Но так думает народ, – отвечал верховный жрец. – Я вижу, что мне многому придется учить тебя. У меня нет этой власти; до меня ни у кого не было ее, не будет ее ни у кого и после меня. Выслушай меня: это займет всего несколько минут.
Я хотел приблизиться к истине путем приобретения знаний, но мне удалось постичь только частицу истины. Что я знаю? Очень немногое, что не знают другие. Я знаю, что я ничто перед величием того, что я вижу; я знаю, что светила движутся, не для одного меня; их путь неизменен и верен, их кажущийся беспорядок удивляет только невежд. Подчиняясь высшей силе, которая создала их, пустила и руководит ими, они следуют, бессознательные шары, своему пути в пространстве, не чувствуя даже, что наши взоры преследуют их. Что же я мог бы узнать? Узнать, что сулит нам завтрашний день; узнать, что завтра приготовлено нам для удовлетворения наших страстей, для тех страстей, которые терзают наш бедный мир, которые вызывают столько смятения в наших умах и в наших сердцах, и голос которых не в состоянии даже заставить уклониться неподвижный взор, который Бог устремляет на будущее?
Все мои знания, дитя мое, сводятся к тому, что я познал всю суетность этих верований, в которых человек, вечно тонущий в пучине пространства и времени, ищет точку опоры, которой ему не достает. Ослепительный и чистый свет просветил мой разум в тот день, когда, освободившись от бремени мифов, иллюзий и легенд, нагроможденных друг на друга легковерием и гордостью, я мог подняться до еще более несовершенного познания невидимых законов, которые управляют миром. Что значит красота, которую могут постичь наши внешние чувства в сравнении с той красотой, которую чувствует наша душа? Одно – наше создание, другое – создание Божие. Когда-нибудь ты познаешь это, но ты не можешь еще этого понять.
Когда я постиг устройство вселенной и ее великолепие, рассудок довел меня до еще более высшей вершины, купающейся в еще более ослепительном свете, в котором живет истина, вечная истина, к которой те, кто ищет и кто мыслит, приходят усилием, подобным моему, к которой те, кто не ищет и не мыслит, толпа невежд и простых смертных, приходит также на могучих крыльях веры… Если только их вера не то простонародное благочестие, которое опускается на колени перед всякими священными изображениями и не понимает культа без видимых изображений того, кому они поклоняются… Все равно, как бы ни назвали его люди, Иегова, Ваал или Зевс. Она слово: она вечный символ. Это она порождает все, что наш бедный мир заключает в себе прекрасного, хорошего, доброго. В этом материальном мире она – свет и светило, которое его дает; тогда как в идеальном мире она создает разум. И это она та самая, которую ты обожаешь в чистоте своей души, и заставляет тебя служить богам и, держа в руках кадильницу, окутывать клубами благовонного дыма мраморные колена статуй! Вот, что я знаю, дочь моя: жизнь человеческая слишком коротка; мне восемьдесят лет, а я едва только выхожу из пропасти. Мои глаза, еще полные мрака, не постигли тайны смерти: закрытая могила сохранила свою тайну. Я был создан некогда: не знаю, зачем! Стремлюсь между высокими стенами, увлекаемый быстрым потоком, к пропасти: к неизвестному. Иногда свет зари освещает мою мрачную темницу; иногда я слышу голоса, которые меня зовут. Свет гаснет: голоса умолкают. Это тишина ночи.
Иерофант умолк. Луна освещала его всего; ветер играл его плащом и развевал серебряными волнами волосы на голове и бороду.
Через минуту он снова заговорил:
– Я обнажил перед тобой мое старое сердце. Не знаю, какая непобедимая сила заставила меня так говорить с тобой. Какова бы она ни была, я благословляю ее, она священна.
Его голос принял странный оттенок кротости, – в эту минуту старец не принадлежал более земле. Эринне казалось, что она слышит голос свыше – неумолимый, властный голос богов.
И она склонила голову, повинуясь велению судьбы.
– Утешься, дочь моя, утешься. Оставь эти суетные мечты о счастье, невозможном на земле, которые иногда тревожат наши души и замирают, как бессвязный сон ночи. В жизни нет ничего такого, что не было бы смертно и гибельно, кроме этого идеала, такого непохожего на твой, к которому меня привели старость и размышление. Увижу ли я тебя у своего изголовья, светлая надежда? Придешь ли ты? Придешь ли ты? Моя старая душа призывает тебя, о Боже мой.
– Моя молодая душа жалеет о тебе, моя мечта, – прошептала молодая девушка. – Приветствую тебя, иерофант: пусть рука Атропос будет тебе легка, потому что она, как ты говоришь, даст тебе освобождение, и ты всегда ее призываешь.
Жрец не слышал; спустившись с портика и стоя с поднятыми руками и с устремленным на небо взором, точно белый призрак среди ночи, он говорил звездам:
– Знание! Знание! Касаться покрова неосязаемого, проникать в тайну причин! Знать, почему столько светил населяет бесконечность! Подняться через семь небес до кристального света! Знать, почему земля стремится так в пространстве, привязанная к золотым власам солнца, которое ее увлекает. О, моя душа! Не есть ли ты отражение слова? Не ты ли сама слово? Освобождает или уничтожает тебя смерть? Сверкающий алмаз, скинешь ли ты когда-нибудь свою мрачную оболочку? Или же, созданная из вещества менее благородного, чем я думал, смерть, открывая тебе дверь могилы, откроет тебе дверь к ничтожеству? Звезды, звезды, сколько подобных мне существ, живущих на всех этих мирах, которые вы освещаете, взывают к вам с мольбой!.. Но вы никогда не даете им ответа!
В это время, хотя было еще далеко до восхода, звезды начали бледнеть на востоке.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































