Текст книги "Гетера"
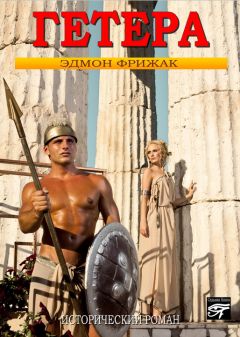
Автор книги: Эдмонд Фрижак
Жанр: Зарубежные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
Глава 13
Проходили дни, месяцы. После суровой зимы наступила несколько запоздалая весна.
Земля зазеленела: леса оживились, птицы порхали в новой листве лавров. Голуби, переселявшиеся на зиму на Крит, вернулись под фронтоны храмов. Все голоса природы пели привет весне при свете солнца, дававшего еще мало тепла. Обнаженные склоны Акрополя покрылись спешившей насладиться жизнью растительностью. Из травы, прячась под гостеприимной тенью больших кустарниковых растений и миртов, выглядывали красные головки валерианы вперемешку с голубыми кистями полемоний. Ветерок, насыщенный крепким запахом цветущего боярышника пробегал между колоннами храмов.
В то время, как в природе все кругом ликовало, наслаждаясь счастьем жизни, скорбная душа Эринны все больше и больше уходила в себя. Частые беседы с верховным жрецом, открывавшим ей сокровищницу своих знаний, служили ей большим утешением в ее печали и смягчали ее горе. Вечерами она наблюдала под руководством старца течение небесных светил; днем, когда утомительные церемонии культа не захватывали ее всецело, она бродила по окрестностям, посещая больных. Часто встревоженные матери сами приносили к ней своих детей: у одних гноились воспаленные глаза, другие были так бледны, что их голубые глазки казались чересчур большими для таких маленьких личиков, третьи были до такой степени истощены, что их худенькое тельце с трудом поддерживало опустившуюся головку. Она всегда была приветлива с матерями и ласкова с детьми. Престарелый иерофант научил ее драгоценному искусству приготовлять мази и разные снадобья. Она лечила больных сама и затем имела удовольствие видеть, как маленькое, недавно страдавшее существо приносили ей со свежими щечками и веселой улыбкой. Она садилась на ступенях храма. Выздоровевшие детишки играли между колоннами. Матери держали на руках самых маленьких или же еще совсем слабых, и с восхищением, молча слушали, что она им говорила. Иногда она вдруг умолкала, устремив глаза на совсем маленького ребенка, который улыбался, протягивая к ней ручки. Жрица также улыбалась сквозь слезы, и окружавшие ее матери уважали ее печаль, потому что они, знали, отчего эти такие, светлые глаза заволакивались иногда росой слез.
Но лицо жрицы скоро принимало снова свое обычное спокойное, приветливое выражение. Длинное покрывало цвета гиацинта теперь всегда уже было на ее потемневших золотистых волосах. Она не носила ни украшений, ни драгоценностей, за исключением символической бляхи, на которой горели красные глаза афинской совы, и пряжки, изображавшей голову Медузы со змеями в волосах, которой застегивался ее девственный пояс. Когда граждане встречали ее бродящей одиноко, часто далеко от укреплений, они склонялись перед ней, а среди рабов многие, воздавая ей по восточному обычаю высшие почести, падали ниц и целовали оставленный в пыли чуть заметный след ее сандалий.
Так проходили дни, месяцы. Однажды утром Эринна увидела на крыше Парфенона огромную птицу с черными крыльями, Которая долго сидела неподвижно. Она позвала верховного жреца, но в ту минуту, когда старец выходил из дома, птица испустила протяжный крик, взмахнула крыльями, поднялась кверху, продержалась несколько минут в воздухе над храмом, а затем улетела в открытое море.
– Поражение, – сказал иерофант.
В тот же день, как только стало смеркаться, священная галера входила в Кантарос. Она тяжело подвигалась, неся только один парус на бизань-мачте. Несколько гребцов молча работали веслами. Ее грот-мачта, запутавшись в снастях, лежала поперек палубы; на носу не было видно никаких приготовлений, обычных при высадке на берег; но зато на шканцах видны были какие-то странные люди, суетившиеся возле лежавших на палубе тел, по всей вероятности, возле трупов убитых…
Ужасная весть, которую несла с собой триера, скоро переходила уже из уст в уста. Она облетела Фалеру, Пирей и Афины. На улицах и на площадях толпился народ, сперва шумно высказывавший свое сомнение, а потом вдруг притихший под влиянием охватившей его скорби и уныния, которое скоро сменилось жалобными воплями, раздававшимися по всему городу. И все, богатые и бедные, свободные и рабы, заперлись в домах, чтобы оплакать там гибель своего отечества.
Это была настоящая гибель, полная, непоправимая: ни войска, ни кораблей, казна пуста, в амбарах нет провианта. Через несколько дней неприятель будет у ворот…
После того, как шестеро из военачальников, побеждавших неприятелей при Аргинузских островах, были приговорены к смерти, афинянам потребовалось немного времени, чтобы устыдиться своей жестокости. От стыда они скоро перешли к раскаянию, а от раскаяния к гневу. Красноречивый и мужественный голос восстал против обвинителей казненных; к нему присоединилась тысяча других голосов. Народное собрание постановило новый приговор: обвинители в свою очередь были преданы совету Одиннадцати, казненным вождям были возданы посмертные почести, а тем из них, которые избежали смерти, было возвращено их прежнее воинское звание. К несчастью, оставшиеся в живых стратеги должны были командовать по очереди, каждый в течение одного дня. Эта роковая предосторожность, предпринятая с той целью, чтобы помешать диктатуре одного лица, послужила причиной ужасного поражения.
Афинский флот, разгуливая по морю под своим гордо развевавшимся флагом, видел, как бежали перед ним галеры Лизандра. Он поднялся к Геллеспонту, опустошил берега и, вопреки совету Конона, углубился дальше к болотистым и нездоровым берегам Эгоспотамоса. На судах скоро стал ощущаться недостаток в свежих припасах. Среди экипажа появилась какая-то заразная болезнь. Моряки начали терять мужество. Но пока ничто еще не было потеряно. Неподалеку было убежище Алкивиада, и он, узнав о положении афинского флота, явился на помощь и предложил способ выйти из затруднительного положения.
«Надо, – говорил он, – сейчас же сняться с якоря и распустить паруса: морской воздух быстро заставил бы выздороветь всех больных». Стратег того дня, человек надменный и самоуверенный, велел проводить великого полководца до пределов лагеря, и Алкивиад, чуть не плача от ярости и горя, удалился…
Лизандр появился вблизи устьев реки. Афинские триеры сейчас же выбросили весла и приготовились к битве… Их ждала победа… Лизандр узнал это и, не вступая в битву, удалился. Через восемь дней он появился снова и, так как весь афинский флот стоял на якоре, он вошел в Эгоспотамос, крейсировал с час по желтым волнам реки и затем снова скрылся.
Несколько дней спустя он опять появился. Экипажи афинских галер были в это время на берегу. Никто и слышать не хотел о том, чтобы сейчас же бежать на триеры и вступать в битву с этим трусливым неприятелем, который все убегал. Конон, предвидя опасность, подал было сигнал, требовавший воинов и моряков на суда, но Филоклес велел сказать ему, чтобы он подождал делать распоряжения до того дня, когда наступит его очередь. На следующий день Лизандр опять явился в свой обычный час.
Никто не придал этому значения, Тогда пелопонесцы налегли на весла и бросились на безоружный флот. Те суда, которые стояли на якоре, были потоплены ударами бивней. Те, которые были вытащены на берег, были захвачены и железными крючьями стащены на воду и уведены в открытое море. Когда собрались, наконец, явившиеся в беспорядке афиняне, они ничего уже не могли поделать: часть флота пылала у берега, а другую часть, захваченную в плен, уводили на буксире дорийцы.
В то же время Лизандр высадил на берег фалангу… Она приближалась непоколебимой линией, ощетинившись остриями копий. Легко вооруженные воины быстро подвигались по ее крылам… Только одно постыдное бегства спасло немногих побежденных…
Конон еще в самом начале нападения дорийцев явился с восемью галерами, которыми командовал лично и которые он держал всегда наготове. Он решил прорваться с ними сквозь дорийский флот. Тот не сумел остановить его и не осмелился его преследовать. Конон отвел семь триер в гавань великого царя, а восьмая отправилась в Афины сообщить о поражении.
И вот теперь она прибыла… Это была священная галера. Недалеко от Эвбеи она должна была выдержать жестокую битву с двумя сиракузскими судами, которые успели уже узнать о случившемся несчастье и спешили преградить путь к Афинам.
Менее, чем два века спустя, римский сенат в обшитых пурпуром мантиях вышел навстречу Варрону и благодарил его за то, что он не потерял надежды на спасение отчизны. Но афинский сенат не был римским сенатом. Он во второй раз изгнал Конона, который один только не посрамил честь флага, и народ утвердил этот декрет.
Между тем Афины заслуживали лучшей участи не столько за добродетели всего народа, сколько за геройскую отвагу своих воинов и моряков. После стольких одержанных побед дать захватить себя врасплох и погибнуть, даже не обнажая меча! Бедный флот, бедное войско! Невежественная, не понимающая дела тирания нескольких главарей довела их до позорной смерти! Пусть те, кто пережил подобные часы, обернется и бросит взгляд на прошлое!
На следующий день с утра весь народ, сзываемый глашатаями, бегом стремился по улицам, которые вели к Агоре. В то же время происходило собрание на Пниксе. Там присутствовало очень мало граждан. В этот день им предстояло только слушать ораторов. Почти вся эта толпа, которую увеличивали еще примкнувшие к ней женщины, дети и рабы, поднималась к Акрополю. Восходящее солнце освещало строгие линии Парфенона. Высоко в воздухе, как ореол, горел золоченый шлем богини; персидские щиты, как воспоминание о прежних победах, сверкали на фронтоне портика. Гнездившиеся в расселинах скал вороны, которых спугнула проходившая толпа, с криками улетали прочь. Их черные блестящие крылья отливали розовым при первых лучах восходящего утра. И со всех сторон, взбираясь по крутым склонам, по обрывистым тропинкам, или же теснясь на триумфальном пути, народ спешил к цитадели. Он шел молча, печальный, хотя и не утративший еще надежды, к священному храму, к этому сердцу Афин.
Над портиком возвышалась гигантская статуя Афины. Фидий создал ее из одного громадного куска черного мрамора. Она была великолепна, строга, безупречна. Ее глаза смотрели прямо перед собой на что-то видневшееся вдали на море. На ней был золоченый шлем и медная кираса. В правой руке она держала копье, левая опиралась на тяжелый щит. Ее обнаженные ноги виднелись из-под ее длинной, падавшей прямыми складками одежды. Они были, как и лицо и руки, окрашены в телесный цвет. Ветер, дождь, солнце по очереди обвевали, обмывали и освещали ее. Бури свирепствовали вокруг нее, никогда ее не касаясь. Иногда по ночам на острие ее копья появлялись светящиеся огоньки. Снисходительная ко всем, она позволяла горлицам и голубям садиться к ней на плечи.
У ее ног помещался каменный жертвенник, к которому вели три ступени. Толпа расположилась вокруг статуи и устремила умоляющие взоры на строгое лицо богини.
Длинная процессия жрецов вышла из храма. За ними шли другие жрецы, которые вели жертвенных животных: овцу черную, как Эреб, и телицу с золочеными рогами; затем следовал иерофант в пурпуровой одежде, а за ним шли жрицы. Эринна взошла на священный треножник. Она окинула своим ясным взором окружавшую ее толпу и медленно, торжественным голосом произнесла:
– Счастливы те, которые умерли молодыми в то время, как их страна наслаждалась благоденствием. Они не увидят дней смуты, тех печальных дней, какие мы переживаем теперь. Они не увидят тех мрачных годов, которые, точно змеи в траве, подкрадываются к нам!
Большинство женщин со слезами опустилось на колени. Плакали те, у которых были на войне сыновья, женихи или братья. Их печаль носила все оттенки человеческого горя: крики, стоны, рыдания смешивались в один безумный жалобный вопль, глухой, как шум моря, свистящий, как ветер, пробегающий по верхушкам пальм. Им вторило пение священных гимнов и молитв под аккомпанемент цитр и арф. Кровь черной овцы, заколотой на жертвеннике, падала капля за каплей в каменную чашу, блистая на ярком солнце. Синий дым курильниц поднимался вокруг статуи, и иногда ветер с моря относил ароматы на склоненные головы молившихся.
Прорицатели рассмотрели внутренности жертвенного животного, посоветовались с минуту и удалились, Качая головой. Стоявшие в первых рядах сообщили об этом остальным. Дурная весть распространялась все дальше и дальше. Скоро весь собравшийся на Акрополе народ уже знал, что первая жертва не была принята, и, не ожидая больше ничего от молитв и слез, умолк.
Жрица преобразилась. Охвативший ее порыв энтузиазма сделал ее величественной. Бледная, с глазами полными веры и экстаза, она подняла к Афине свои слабые женские руки, способные в эту минуту поколебать и уничтожить весь мир, и вскричала:
– Прости им, богиня! Они молят тебя у ног твоих. Они не знали твоего могущества, они смеялись над тобой, покровительница. Прости им, они раскаиваются! Прости твоему согрешившему народу! Простри над нами твою мощную руку. Прости! Все твои дети умоляют тебя моим голосом; прости своим детям-афинянам!
Она остановилась. Громкий шепот, точно дуновение ветра, пронесся над распростертой кругом статуи толпой; когда шум постепенно утих, она снова заговорила:
– Я посвящаю себя тебе, богиня, я посвящаю себя тебе! Я приношу в жертву у твоих ног все надежды моего сердца, о которых я говорила только тебе. Я никогда не покину твоего храма. Спаси и защити нас! Смилуйся над нами! Сохрани нас! Спаси нас! Спаси Афины, которые без тебя погибнут!
И весь парод повторил за ней:
– Спаси Афины, которые без тебя погибнут!
В то время, как жрецы надевали кожаную маску на голову телицы и располагали вокруг нее гирлянды и венки из живых цветов, Эринна снова стала призывать богиню. По обычаю молящихся она распустила волосы, сложила руки и голосом, дрожавшим от волнения и надежды, запела гимн, сложенный некогда Солоном:
«Богиня в золоченом шлеме, выйди из своего безмолвия, которое леденит нас ужасом.
Ты, опрокидывающая горы и любящая гром оружия и колесниц, защити наши укрепления и навсегда сохрани, нашим сынам наследство Даная.
Атенайя, Атенайя, зачем ты покинула свой город!
Выйди из своего безмолвия, которое леденит нас ужасом.
Разве ты не видишь дорогих твоему сердцу девушек, окружающих твой жертвенник?
Молодые девушки, молодые девушки! Не плачьте больше о ваших женихах.
Их последние мысли были о вас. Пусть и ваши последние мысли будут об отечестве.
Посвятите богине, вместе с вашей печалью, ваши песни и ваши мольбы.
Посвятите вашу печаль строгой богине, ревнивой ко всякой человеческой радости.
Посвятите себя деве покровительнице и защитнице. Молодые девушки, мои подруги, отдадим ей наше сердце!
О, Афина Паллада, зачем ты допустила это оскорбление нашей славы?
Неужели ты хочешь видеть разрушенным твой город и афинских девушек страдающими в плену на берегах Эврота?!
О, Афина Паллада, скажи нам, что это сон и что для нас занимается новая заря. Скажи нам, что Афины еще сильны и велики.
Что они гнутся сегодня, как дуб во время грозы, чтобы, как и он, поднять потом гордо свою вершину еще выше в лучах сияющего солнца!»
Иерофантида умолкла и покрыла себе голову. Жрецы начали петь другие священные гимны. Народ повторял припев. Снова дым кадильниц заволок подножие статуи. Но когда жрецы бросили на огонь влажные внутренности жертвы, огонь внезапно погас. Три раза зажигали рабы огонь, и три раза невидимый ветер тушил начинавшее было разгораться пламя. Вопль отчаяния вырвался у народа при виде этого чуда… Из-за Эректиона показалась стая ворон. Они преследовали с оглушительными криками испуганную сову. Ослепленная птица ударилась о лоб статуи и, сложив свои широкие крылья, упала мертвая на ступени.
Афина не удостоила принять жертвы и осталась глуха к мольбам. Она не забыла Мелоса, жителей которого экклезия, под влиянием гнева, приговорила всех к смерти и заставила умереть.
Когда народ убедился, что боги покинули его, он решил, что все дальнейшие мольбы и старания умилостивить богов будут бесполезны. Толпа вдруг стихла. Даже женщины перестали плакать. Все граждане, опустив голову, молча пошли обратно к городу. Возле храма осталось только несколько стариков, и они, прикрыв голову полой плаща, смотрели на море, на любимое ими море, которое так неожиданно изменило им. Им уже казалось, что они видят на горизонте двести парусов вражеского флота Лизандра.
На опустевшем Акрополе дымился на жертвеннике костер, который так и не удалось разжечь. Ветер разносил по городу дым, который не мог подняться к небу.
* * *
Несколько дней спустя пелопонесские галеры блокировали уже все три гавани. Теперь ни одно судно не могло ни выйти из Афин, ни войти в. них. В то же время четыреста спартанцев, пустив перед собой орду союзников, завладели Аттикой и опустошали окрестности города. Все масличные деревья были срезаны под корень, источники засыпаны, хлеб на полях сожжен. Все дома, стоявшие за оградой, были разрушены, разграблены, и в числе их одним из первых пострадал тот дом, где печальная теперь Ренайя так недолго наслаждалась счастьем.
Когда перед опасностью, грозившей гибелью городу и смертью всему живущему, все население Афин вышло на стены защищать родной город. Этот гарнизон добровольцев состоял большей частью из старых воинов, уже принимавших участие в этой войне, а к ним присоединилась и вся городская молодежь. Их было немного, но они решили сражаться до последней капли крови, и неприятель не осмелился идти на приступ.
Гавани также защищались. Железные цепи, протянутые между концами молов, преграждали вход в гавани. Лизандр потопил несколько кораблей, пытаясь прорвать преграду, но так ничего и не добился и вышел в море… На земле и на море все было спокойно.
Иногда чужестранному кораблю удавалось прорваться сквозь блокаду, и он выбрасывал на набережную несколько мешков муки и хлеба в зерне. Эта помощь была, конечно, недостаточна. Население города голодало. Затем явилась чума, которая похитила немало жертв. Афины сопротивлялись целых четыре месяца. Затем, наконец, восторжествовали голод и болезнь: пришлось согласиться на все условия, поставленные безжалостными победителями. Граждане своими собственными руками разрушили десять стадий Долгих Стен и сожгли свои последние корабли. Лизандр, увенчанный цветами, сам принес жертву Тезею и взошел на Пникс, и эхо в холмах повторило звуки грубого дорийского наречия, раздававшегося на трибуне.
Но это было еще не все. После внешней войны, окончившейся так бесславно, началась война гражданская, еще более печальная. Под защитой спартанских копий олигархия захватила власть. Ужасный шквал пронесся над побежденным городом. Быстрее, чем голод и чума, тридцать тиранов превратили Афины в пустыню. Они пригласили к себе в союзники смерть, и она стала им усердно помогать; слишком медленную и даже слишком приятную цикуту она заменила решительным и быстрым мечом, а потом еще более быстрым топором. В Афинах еще раньше, чем в Риме, были свои связки прутьев с топорами и свои ликторы. Палач поселился в жилище на покинутой Агоре, и каждый день повозки объезжали темницы и доставляли топору патрициев новых жертв.
В эти мрачные дни Эринна жила в безмолвном и пустом храме. Немного времени спустя после взятия города, Леуциппа удалился вместе со всей семьей в Коринф. Но жрица не согласилась последовать за ними, как ни была сильна опасность обожать богов, когда трехтысячная орда разрушала всюду их алтари. В своей тесной келье она укрывала еще Ренайю и ее сына. Гиппарх, сперва изгнанный, а потом приговоренный к смерти, должен был бежать и ему, только благодаря его силе и смелости, удалось ускользнуть от тиранов. Он отправился к Тразивулу в Фивы. До поры до времени Ксантиас, давно уже отпущенный на волю, сообщал изгнанникам вести от верховного жреца.
Однажды вечером обе молодые женщины, стоя на парапете пропилеев, смотрели, как садилось сияющее блеском солнце, равнодушное к тому, что совершалось на земле. Они припоминали прошлое, припоминали все, что могло напомнить им минувшие счастливые дни, как рыбак, избежавший бури, возвращается на другой день на берег успокоившегося моря отыскивать остатки своего разбитого судна. Человеческая душа так уж создана: в счастье будущее пугает ее; в несчастье прошлое ее утешает.
– Я ходила туда, – говорила Ренайя, – вскоре после того, как войско Агия ушло от города. Я не плакала: у меня уже не было больше слез. Большие деревья срублены, одно из них, самое красивое, упало на рухнувшую крышу; стены разрушены, камни навалены в кучу один на другой. Всюду следы пожара. Из мастерской шел невыносимый запах. Я вошла туда, однако; под грудой разбитых статуй я увидела ужасные посиневшие ноги трупа. Шнурки сандалий перевязывали вздувшуюся кожу. Над ним жужжали огромные мухи. Одна из них села мне на руку. Я убежала; но я узнала по обуви, что такой ужасной смертью погибла моя кормилица. Бедная кормилица!.. Я вернулась через несколько минут и бросила несколько оболов в кучу мрамора туда, где, как я предполагала, могло быть ее лицо: но запах был так силен, куски мрамора так тяжелы, что я не могла вложить ей в рот монету, чтобы заплатить за переправу. Может быть, ей все-таки удалось перебраться через адскую реку, потому что до этого я все время видела ужасные сны…
– А с того дня ты стала спать спокойнее.
– Потом я еще раз без твоего ведома уходила из Акрополя взглянуть на развалины моего дома.
– Как это неблагоразумно, – сказала Эринна, лаская своей нежной рукой выбившиеся волосы подруги. – Что сказал бы Гиппарх, если бы я потеряла тебя?
– Увы! Вернется ли он когда-нибудь? Непобедимая сила влекла меня. Ветер поднимал вокруг меня удушливые облака пыли. Когда я вошла в то пространство, которое недавно еще было обнесено зеленеющей изгородью, я увидала, что пыль покрыла все, как саваном. Ни одной травки, ни одного зеленого побега. Стрекозы пели среди камней. О! Это пение стрекоз, которое я находила прежде таким скучным и таким монотонным! Я села на камень, чтобы лучше слышать, как они плачут вместе с прошлым в моем сердце… Часто, когда Гиппарх бывал доволен дневной работой, он брал меня на руки… Я не тяжела, а у него такие сильные руки. Он носил меня вокруг сада, пока наш ребенок спал. Он целовал мои волосы: «Любишь ли ты меня, маленькая женушка, любишь ли ты меня?» – говорил он мне. А я, – безумная, о, какая я была безумная! – боги справедливо покарали меня, – я не отвечала ему, или же отвечала не так, как следовало. «Перестань, Гиппарх, – говорила я, – я рассержусь… У меня вечером будут спутанные волосы». Тогда он опускал меня на землю, и я чувствовала, что одним словом обрезала крылья его энтузиазма, чувствовала, как меня давит печальный взгляд его прекрасных глаз!..
А теперь я понимаю, как сильна была его любовь, как прекрасны были эти вечера. Стрекозы пели перед тем, как спрятаться на ночь; горлицы порхали по ветвям. Над нами были пурпуровые облака, как вечером перед заходом солнца. Какое дело до нас пурпуровым облакам! Они так же проходят и над счастливыми городами. Точно так же, как и мы, их видит и гордая Спарта, где женщинам не приходится плакать об изгнанниках.
Ренайя умолкла, рыдая.
– Дитя, – сказала Эринна, – я не хочу, чтобы ты предавалась так слезам и отчаянию. Гиппарх жив, и ты снова увидишь его. Ты отстроишь свой опустошенный дом. Вечное солнце, которое ты обвиняешь в гордом равнодушии, вечное солнце озарит своими лучами твое новое счастье. Не плачь, бедное, дорогое дитя, не плачь, время, которое я предсказываю тебе, уже не далеко.
– О, Эринна! – отвечала молодая женщина. – Какая ты сильная, и как я восхищаюсь тобой. Как бы хотелось мне иметь такое же холодное сердце!
Эринна посмотрела на свою подругу. Спазма приподняла под платьем ее своенравную грудь. Она заставила себя улыбнуться.
– Это правда, – сказала она, – у меня холодное сердце.
Она отвернула голову, и Ренайя не видела слез отчаяния, наполнивших ее глаза. Необычный шум над ними заставил их поднять голову. Заходившее солнце бросало на Акрополь тень от гигантской птицы. Ренайя в испуге прижалась к подруге.
– Я боюсь.
– Не бойся ничего, – сказала Эринна, закрывая ее своей рукой. – Час освобождения, может быть, еще ближе, чем предполагает верховный жрец.
Гигантская птица кружилась над Парфеноном. Она опускалась, суживая все более и более свои круги, и вдруг, сложив крылья, опустилась на одну из бронзовых тумб на самом верху фронтона.
– Пойдем, – сказала Эринна, – не надо пугать ее.
Она взяла Ренайю за руку и, обойдя позади храма Победы и Эректиона, направилась к дому верховного жреца.
– Отец, – сказала она, – птица опять прилетела. Это тот самый большой аист с черными крыльями, который возвестил нам о поражении.
Старец теперь двигался уже с трудом. Он медленно направлялся к двери, опираясь на руку раба.
– Лептоптилос, – сказал он, – священная птица Гидаспа и великого Нила. Она должна была вернуться… Я ждал ее. Все, что зависело от людей, у нас готово. Может быть, боги простили нас! Ты будешь наблюдать за ее полетом, – прибавил он, обращаясь к рабу. – Она улетит только завтра на рассвете. Боги за нас, если птица полетит в ту сторону, где Фивы.
На следующий день на заре лептоптилос пробудился от сна, взмахнул своими огромными крыльями и улетел. Он покружился предварительно несколько минут над храмом, а затем вдруг направился к синей линии холмов, которые закрывали горизонт на северо-западе.
Птица летела к изгнанникам…
– Надо действовать, – сказал иерофант. – Позови Ксантиаса. Пусть он выучит наизусть то, что ему будет сказано и чтобы завтра же он был уже в Фивах. Ты скоро увидишь своего мужа, Ренайя.
– О, отец мой, – проговорила молодая женщина, – сколько еще будет до тех пар сражений!
– Свобода покупается ценой крови, а счастье ценой слез. Надейся… Молись… Покоряйся.
Спустя немного времени после того, в безлунную ночь сильный свет залил берег моря.
– Это факелы возвращающихся изгнанников, – сказал иерофант.
– Боги бессмертные, защитите его! – вскричала Ренайя.
– Боги бессмертные, защитите их! – строго поправил ее верховный жрец. – Идите молиться, дочери мои, идите молиться… Их немного, увы!.. Им нужны наши молитвы. Падите ниц пред Атенайей. Молите деву войны. Идите молиться!
Это была горячая молитва, молитва двух молодых женщин у ног статуи… В такие минуты душа забывает обо всем остальном и вся отдается молитве. Она забывает о суете мирской, которая привязывает ее к земле и в которой она видит всю прелесть жизни. Освобожденная от всех земных помыслов, она трепещет в духовном экстазе, и все существо чувствует, что покидает землю на крыльях чудной птицы, – это вера.
Они держали друг друга за руки; их глаза были устремлены к небу; к небу, которое никогда не разверзается и в котором, однако, в минуты отчаяния человек еще и теперь ищет помощи и защиты.
Слышны были крики, слова команды, лязг оружия. Колесницы с грохотом катились по улицам. Свет все приближался к Афинам. Теперь сражались уже у городских ворот.
– Они идут, они идут! – воскликнул Ксантиас. – Изгнанники уже у ворот. Отец, я тоже пойду сражаться.
– Иди, дитя мое. Час наступил. Возьми с собой храмовую стражу, возьми рабов, они все вооружены. Иди, беги, благословляю тебя.
Ксантиас подошел к Эринне.
– Прощай, дорогая госпожа, – прошептал он робко.
– И ты тоже! И ты тоже! – вскричала она.
Ее голос дрожал, в глазах стояли слезы. Она опустила голову на грудь… Но это продолжалось всего только одну минуту, и уже овладевшая собой Эринна снова казалась совершенно спокойной. Она взяла обеими руками темную голову Ксантиаса и поцеловала его в лоб.
– До свидания, ты благородный и мужественный мальчик.
– О, госпожа, – вскричал преобразившийся Ксантиас, – теперь я могу умереть! Теперь я могу умереть!
– Сражайся храбро и береги себя… Береги себя. Не забывай, что он назначил тебя охранять меня. Ты долго еще будешь нужен мне. Я буду молиться за тебя. Возвращайся!
Молодые женщины сидели перед жертвенником. Они сидели обнявшись. Ренайя положила голову на колени к Эринне, которая слегка покачивала ее. Она тихо повторяла нараспев одни и те же слова: «Спаси и защити его, богиня!», и шепот ее голоса становился все слабее.
Эринна, устремив глаза прямо перед собой, смотрела в пространство. Она думала… Она думала о вечных звездах, совершавших свой путь над ее головой и безучастно относившихся к воплям горя, которые неслись к ним с земли. Она думала, что, может быть, в эту минуту Конон под другими небесами тоже смотрит на эти же самые звезды. Может быть, это ветерок, который спутывал ее волосы, навевал ей мысли об отсутствующем. Где он? Куда забросила его судьба?
…В черте города снова вспыхнули пожары. Небо пылало. Зарево кровавого цвета доходило до высоких холмов. Порой Парфенон казался совсем красным, как огненный храм, и сейчас же погружался во мрак.
Уже давно она получила от него одну-единственную весточку. Глиняная дощечка разбилась. Она не могла всего прочесть. Он поступил на службу к великому царю. Он победил для него какие-то неведомые народы, которые живут у подножья таких высоких гор, что никто никогда не видел их вершин. Он командовал большим войском… Он командовал кораблями на далеком неведомом море.
…Пламя пожара стало еще краснее… Битва несомненно приближалась. Можно было различить лязг мечей, ударявшихся о щиты. Слышались стоны раненых и хрипы умирающих… Совсем близко возле нее, при слабом свете мерцающих звезд, люди убивали друг друга, убивали из-за идеала, неясно рисовавшегося, очевидно, в глазах у большинства… Ренайя тихо спала у нее на коленях, дыхание ее было правильно и ровно, как у ребенка…
Последние слова, начертанные на дощечках, сохранились. Она знала все послание наизусть. Но эти слова, последние, она погребла их в самом глубоком тайнике своей души. Иногда, чтобы повторить их вполголоса, она извлекала их оттуда, как рука иерофанта извлекает и священной сокровищницы золотую вазу, к которой только он один и может прикасаться! Это была песнь любви, песнь любви и желания взаимного счастья, как песни, которые он говорил ей недавно на дворе Андронида… И чистая невеста станет дорогой супругой…
Никто не мог тут видеть ее… Она откинула голову; она полузакрыла глаза; она приготовила улыбку счастья. «Так, – прошептала она, – я сложу губы в ожидании его поцелуя».
Ренайя спала у нее на коленях.
Это уже крики победы! Это стук колесниц, обращенных в бегство. Этот крик, этот могучий крик, который гремит, как гигантская волна вокруг Акрополя, это крик всего народа, приветствующего освобождение.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































