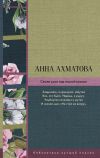Текст книги "Анна Ахматова. Психоанализ монахини и блудницы"

Автор книги: Екатерина Мишаненкова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
Сораспятая на муку,
Враг мой давний и сестра,
Дай мне руку! дай мне руку!
Меч взнесен. Спеши. Пора.
И я дала ему руку, а что было в моей душе, знает Бог и Вы, мой верный, дорогой Сережа. Оставим это.
…всем судило Неизбежное,
Как высший долг, – быть палачом.
Меня бесконечно радуют наши добрые отношения и Ваши письма, светлые желанные лучи, которые так нежно ласкают мою больную душу.
Не оставляйте меня теперь, когда мне особенно тяжело, хотя я знаю, что мой поступок не может не поразить Вас.
Хотите знать, почему я не сразу ответила Вам; я ждала карточку Г.-К. и только после получения ее я хотела объявить Вам о своем замужестве. Это гадко, и чтобы наказать себя за такое малодушие, я пишу сегодня и пишу все, как мне это ни тяжело.
Вы пишете стихи! Какое счастие, как я завидую Вам. Мне нравятся Ваши стихотворения, я вообще люблю Ваш стиль.
Тетрадь Ваших стихов у нас, и когда я вернусь домой, я вышлю ее Вам, если Андрей не предупредил меня. Я не пишу ничего и никогда писать не буду. Я убила душу свою, и глаза мои созданы для слез, как говорит Иоланта. Или помните вещую Кассандру Шиллера. Я одной гранью души примыкаю к темному образу этой великой в своем страдании пророчицы. Но до величия мне далеко.
Не говорите никому о нашем браке. Мы еще не решили, ни где, ни когда он произойдет. Э т о – т а й н а, я даже Вале ничего не написала.
Пишите мне, Сергей Владимирович, мне стыдно просить об этом, отнимать у Вас время, которое Вам так дорого, но Ваши письма – такая радость.
Зачем Вы называете меня Анна Андреевна? Ведь последний год в Царском эти церемонии уже совершенно вышли из употребления. Я – другое дело. Но ведь разница в годах и положении играет большую роль.
Пришлите мне, несмотря ни на что, карточку Владимира Викторовича. Ради Бога, я ничего на свете так сильно не желаю.
Ваша Аня.
P.S. Стихи Феодорова за немногими исключениями действительно слабы. У него неяркий и довольно сомнительный талант. Он не поэт, а мы, Сережа, – поэты. Благодарю Вас за Сонеты, я с удовольствием их читала, но должна сознаться, что больше всего мне понравились Ваши заметки. Не издает ли А. Блок новые стихотворения – моя кузина его большая поклонница.
Нет ли у Вас чего-нибудь нового Н.С. Гумилева? Я совсем не знаю, что и как он теперь пишет, а спрашивать не хочу.
Это письмо меня немного смутило. Уже в который раз я осознала, как же плохо я понимаю Ахматову, несмотря на все наши разговоры и на те выводы, которые я из них сделала. В письмах к Штейну меня шокировала не только ее откровенность, но и само понимание того, что согласие Гумилеву она дала в то время, когда еще была влюблена в Голенищева-Кутузова. Которого – я вновь это отметила – она в разговорах со мной даже ни разу не упомянула. Было это слишком тайным и личным? Или, наоборот, она стыдилась своей юношеской страсти и постаралась вычеркнуть ее из памяти и из жизни?
<Февраль 1907 г.>
Мой дорогой Сергей Владимирович, я еще не получила ответа на мое письмо и уже снова пишу. Мой Коля собирается, кажется, приехать ко мне – я так безумно счастлива. Он пишет мне непонятные слова, и я хожу с письмом к знакомым и спрашиваю объяснение. Всякий раз как приходит письмо из Парижа, его прячут от меня и передают с великими предосторожностями. Затем бывает нервный припадок, холодные компрессы и общее недоумение. Это от страстности моего характера, не иначе. Он так любит меня, что даже страшно. Как Вы думаете, что скажет папа, когда узнает о моем решении? Если он будет против моего брака, я убегу и тайно обвенчаюсь с Nicolas. Уважать отца я не могу, никогда его не любила, с какой же стати буду его слушаться. Я стала зла, капризна, невыносима. О, Сережа, как ужасно чувствовать в себе такую перемену. Не изменяйтесь, дорогой, хороший мой друг. Если я буду жить в будущем году в Петербурге, Вы будете у меня бывать, да? Не оставляйте меня, я себя ненавижу, презираю, я не могу выносить этой лжи, опутавшей меня… Скорее бы кончить гимназию и поехать к маме. Здесь душно! Я сплю 4 ч. в сутки вот уже 5-й месяц. Мама писала, что Андрей поправился, я поделилась с ним моей радостью, но он мне (увы!) не поверил.
Целую Вас, мой дорогой друг.
Аня.
Всего через несколько дней уже совсем другой тон. Забыла любовь к Кутузову и увлеклась новой игрой, теперь уже в счастливую невесту и тайную свадьбу? Или это специально, чтобы Штейн передал Кутузову, что она его забыла?
11 февраля 1907 г.
Мой дорогой Сергей Владимирович, не знаю, как выразить бесконечную благодарность, которую я чувствую к Вам. Пусть Бог пошлет Вам исполнения Вашего самого горячего желания, а я никогда, никогда не забуду того, что Вы сделали для меня. Ведь я пять месяцев ждала его карточку, на ней он совсем такой, каким я знала его, любила и так безумно боялась: элегантный и такой равнодушно-холодный, он смотрит на меня усталым спокойным взором близоруких светлых глаз. Il est intimidant, по-русски этого нельзя выразить. Как раз сегодня Наня купила II сборник стихов Блока. Очень многие вещи поразительно напоминают В. Брюсова. Напр., стих. «Незнакомка», стр. 21, но оно великолепно, это сплетение пошлой обыденности с дивным ярким видением. Под моим влиянием кузина выписывает «Весы», в этом году они очень интересны, судя по объявлению. Если бы Вы знали, мой дорогой Сергей Владимирович, как я Вам благодарна за то, что Вы ответили мне. Я совсем пала духом, не пишу Вале и жду каждую минуту приезда Nicolas. Вы ведь знаете, какой он безумный, вроде меня. Но довольно о нем. Я когда-то проиграла Мешкову пари – мои стихи. Вероятно, он поэтому спрашивал Вас о них. Я хочу послать ему анонимно маленькую поэму, которая посвящается нашим прогулкам летом 1905 г. Если случайно знаете его адрес, сообщите, пожалуйста. Мы кутим, и Сюлери играет главную роль в наших развлечениях. Отчего Вы думали, что я замолчу после получения карточки? О нет! Я слишком счастлива, чтобы молчать. Я пишу Вам и знаю, что он здесь со мной, что я могу его видеть – это так безумно-хорошо. Сережа! Я не могу оторвать от него душу мою. Я отравлена на всю жизнь, горек яд неразделенной любви! Смогу ли я снова начать жить? Конечно нет! Гумилев – моя Судьба, и я покорно отдаюсь ей. Не осуждайте меня, если можете. Я клянусь Вам всем для меня святым, что этот несчастный человек будет счастлив со мной.
Посылаю Вам одно из моих последних стихотворений. Оно растянуто и написано без искры чувства. Не судите меня как художественный критик, а то мне заранее страшно. В Вашем последнем письме вы говорите, что написали что-то новое. Пришлите, я буду ужасно (женское слово) рада видеть Ваши стихи. Вот хорошо, если бы мы когда-нибудь встретились. Еще раз благодарю Вас за карточку, Вы не знаете, что Вы сделали для меня, мой хороший!
Аня.
И опять поворот на сто восемьдесят градусов! Вновь Кутузов, «яд неразделенной любви», но… теперь это кажется каким-то искусственным.
Я перечитала еще раз – действительно, слишком много пафоса, а между тем создается впечатление, что «Незнакомка» Блока и ее собственные стихи, приложенные к письму, занимают ее мысли гораздо больше, чем неразделенная любовь к Кутузову и будущий брак с Гумилевым. Кажется, наконец я начала узнавать в этих письмах ту Ахматову, с которой беседовала в сентябре 1946 года.
Еще одно письмо я лишь пробежала взглядом – особого интереса оно не представляло, вновь стихи, чтение, и совсем немного о Гумилеве и Кутузове. И тон изменился, из него ушла та искренность, которая была поначалу, но и пафос тоже уменьшился. А вот следующее письмо без даты выглядело куда более любопытным.
<Без даты>
Дорогой Сергей Владимирович, хотя Вы прекратили со мной переписку весной этого года, у меня все-таки явилось желание поговорить с Вами.
Не знаю, слышали ли Вы о моей болезни, которая отняла у меня надежду на возможность счастливой жизни. Я болела легкими (это секрет), и, может быть, мне грозит туберкулез. Мне кажется, что я переживаю то же, что Инна, и теперь ясно понимаю состояние ее духа. Так как я скоро собираюсь покинуть Россию очень надолго, то решаюсь побеспокоить Вас просьбой прислать мне что-нибудь из Инниных вещей на память о ней. Тетя Маша хотела бы передать мне дедушкин браслет, который был у Инны, и если Вы исполните ее просьбу, я буду Вам бесконечно благодарна. Но дело осложняется тем, что это вещь ценная, и я очень боюсь, как бы Вы не подумали, что я хочу иметь украшение, а не память. Вы так давно не видели меня, и Вам может показаться, что я пускаюсь на аферу. Прошу Вас, Сергей Владимирович, если у Вас явится такая мысль, не присылайте браслета или не отвечайте мне на это письмо, и тогда я его не хочу. Надеюсь, этого не будет, ведь когда-то мы были друзьями, и если Вы изменились ко мне, то я нисколько к Вам.
Не пишите тете Маше, что я говорила Вам о браслете. Она может это неверно понять.
Не говорите, пожалуйста, никому о моей болезни. Даже дома – если это возможно. Андрей с 5 сентября в Париже, в Сорбонне. Я болею, тоскую и худею. Был плеврит, бронхит и хронический катар легких. Теперь мучаюсь с горлом. Очень боюсь горловую чахотку. Она хуже легочной. Живем в крайней нужде. Приходится мыть полы, стирать.
Вот она, моя жизнь! Гимназию кончила очень хорошо. Доктор сказал, что курсы – смерть. Ну и не иду – маму жаль.
Увидя меня, Вы бы, наверно, сказали: «Фуй, какой морд». Sic transit gloria mundi!
Прощайте! Увидимся ли мы?!
Аннушка.
г. Севастополь.
Малая Морская № 43 кв. 1.
Прежде всего я наконец поняла, кто такой Штейн – это муж сестры Ахматовой, Инны. Видимо, и друг, и родственник в одном лице. Это письмо было написано после ее смерти – видимо, овдовев, Штейн перестал почему-то поддерживать отношения со свояченицей. Ну а кто такой Андрей, я поняла практически сразу – это тот самый несчастный брат Ахматовой, который покончил с собой. Я узнавала о его судьбе вскоре после того, как она уехала в Ленинград, выясняла, правду ли она сказала мне о его самоубийстве. Оказалось, что да, все было именно так печально, как она и говорила – Андрей Горенко и его жена отравились в 1919 году после смерти своего единственного сына. Он умер, а ее откачали, и через семь месяцев она родила ребенка. Безумный поворот судьбы и действительно хорошая прививка от легкомысленного отношения к самоубийству.
Я отложила письма к Штейну, поколебалась, глядя на переписку Ахматовой и Гумилева, но решила сначала прочитать менее важные письма и взяла несколько листочков, помеченных как переписка с Блоком. Первым там лежало письмо самой Ахматовой, о котором она мне рассказывала.
<6 или 7 января 1914 г. Петербург>
Знаете, Александр Александрович, я только вчера получила Ваши книги. Вы спутали номер квартиры, и они пролежали все это время у кого-то, кто с ними расстался с большим трудом. А я скучала без Ваших стихов.
Вы очень добрый, что надписали мне так много книг, а за стихи я Вам глубоко и навсегда благодарна. Я им ужасно радуюсь, а это удается мне реже всего в жизни.
Посылаю Вам стихотворение, Вам написанное, и хочу для Вас радости. (Только не от него, конечно. Видите, я не умею писать, как хочу.)
Анна Ахматова.
Тучков пер., 17, кв. 29
18 января 1914. (Санкт-Петербург)
Глубокоуважаемая Анна Андреевна!
Мейерхольд будет редактировать журнал под названием «Любовь к трем апельсинам». Журнал будет маленький, при его студии, сотрудничают он, Соловьев, Вогак, Гнесин. Позвольте просить Вас (по поручению Мейерхольда) позволить поместить в первом номере этого журнала – Ваше стихотворение, посвященное мне, и мое, посвященное Вам. Гонорара никому не полагается. Если вы согласны, пошлите стихотворение Мейерхольду (Площадь Маринского театра, 2) или напишите мне два слова, я его перепишу и передам.
Простите меня, что перепутал № квартиры, я боялся к Вам звонить и передал книги дворнику.
Преданный Вам Александр Блок.
Офицерская, 57, кв. 21. Тел. 612-00.
Какой разный тон. Ахматова пишет очень личное письмо, немного льстит, немного заигрывает, а Блок отвечает ей сухими казенными фразами, словно отталкивая.
26 марта 1914. (Петербург)
Многоуважаемая Анна Андреевна.
Вчера я получил Вашу книгу, только разрезал ее и отнес моей матери. А в доме у нее – болезнь, и вообще тяжело; сегодня утром моя мать взяла книгу и читала не отрываясь: говорит, что не только хорошие стихи, а по-человечески, по-женски – подлинно.
Спасибо Вам.
Преданный Вам Александр Блок.
Р. S. Оба раза, когда Вы звонили, меня действительно не было дома.
И вновь странное письмо – оценка, но не своя. Положительная, но с оттенком снисходительности. Намек на то, что у него нет времени читать ее стихи (или читать женские стихи?), но вот мать оценила? Если это и не так, я уверена, что Ахматову такая похвала должна была скорее оскорбить, чем порадовать. Тем более что она всегда считала себя Поэтом, а не какой-то поэтессой.
Но меня как врача это письмо не могло не радовать – в нем я увидела именно то, что несколько лет назад предположила, анализируя разговоры с Ахматовой. Если мои выводы и не были стопроцентно верными, то уж близкими к истине они были точно, теперь я в этом не сомневалась.
14 марта 1916. (Петроград)
Многоуважаемая Анна Андреевна.
Хоть мне и очень плохо, ибо я окружен болезнями и заботами, все-таки мне приятно Вам ответить на посылку Вашей поэмы. Во-первых, поэму ужасно хвалили разные люди и по разным причинам, хвалили так, что я вовсе перестал в нее верить. Во-вторых, много я видел сборников стихов, авторов «известных» и «неизвестных»; всегда почти – посмотришь, видишь, что, должно быть, очень хорошо пишут, а мне все не нужно, скучно, так что начинаешь думать, что стихов вообще больше писать не надо; следующая стадия – что я стихов не люблю; следующая – что стихи вообще – занятие праздное; дальше – начинаешь уже всем об этом говорить громко. Не знаю, испытали ли Вы такие чувства; если да, – то знаете, сколько во всем этом больного, лишнего груза.
Прочтя Вашу поэму, я опять почувствовал, что стихи я все равно люблю, что они – не пустяк, и много такого – отрадного, свежего, как сама поэма. Все это – несмотря на то, что я никогда не перейду через Ваши «вовсе не знала», «у самого моря», «самый нежный, самый кроткий» (в «Четках»), постоянные «совсем» (это вообще не Ваше, общеженское, всем женщинам этого не прощу). Тоже и «сюжет»: не надо мертвого жениха, не надо кукол, не надо «экзотики», не надо уравнений с десятью неизвестными; надо еще жестче, неприглядней, больнее. – Но все это – пустяки, поэма настоящая, и Вы – настоящая. Будьте здоровы, надо лечиться.
Преданный Вам Ал. Блок.
Прошло два года, тон довольно сильно сменился. За это время Блок оценил Ахматову как поэта? Или помогло то, что они стали меньше общаться, и он перестал бояться попасть под ее влияние, вот и смог позволить себе ее оценить? Как бы то ни было, Ахматовой это письмо должно было понравиться гораздо больше, чем предыдущее, – в нем Блок говорит с ней как старший опытный товарищ, как поэт с поэтом, и даже, пожалуй, предостерегает ее от излишнего ухода в «поэтессы». И судя по стихам военных лет, она последовала его совету писать «жестче, неприглядней, больнее».
Глава 8
Вечером вернулся Андрей – его срочно вызывали в редакцию что-то обсуждать насчет его очерков, выдвинутых на Сталинскую премию. Судя по его довольному виду, обсуждение прошло удачно, и он явно был не прочь об этом рассказать. Но я из мелкой мстительности не стала ничего у него спрашивать, накормила его обещанным ужином и вернулась в кабинет, читать архив Ахматовой.
Тут уж Андрей не выдержал и, заглянув ко мне, поинтересовался:
– Ну как тебе письма Гумилева? Что скажешь?
Пришлось признаться, что я до них еще не дошла.
– А что читаешь? – Он заглянул в папку и пожал плечами. – Письма Блока? Зачем? Там то, что ты и так знаешь.
Вот она, разница в мышлении врача и журналиста, во всей красе.
– Теперь знаю, – пояснила я. – Мои прежние умозаключения теперь подтвердились документами. Это очень важно.
– Было бы важно, если бы ты продолжала лечить Ахматову. – Он сел на диван возле меня и взял стопку писем Гумилева. – Но она уже не твоя пациентка. К тому же вот эти письма расскажут о ней гораздо больше.
Я не стала больше возражать, тем более что мне и самой было очень интересно разобраться в странных отношениях Ахматовой и Гумилева. Хотя по правде говоря, а с кем у нее были не странные отношения?
Писем самой Ахматовой к Гумилеву нашлось всего два, и оба датированные летом 1914 года. А вот его писем было куда больше, и они были куда обширнее. Но я тут же мысленно отругала себя за несправедливые мысли. Это же естественно – письма мужа она сохраняла у себя, а ее письма были у него и могли в ее архив потом просто не вернуться. К тому же еще Фаина Георгиевна в одном из наших разговоров упоминала, что Ахматова не питала склонности к эпистолярному жанру, чувства она предпочитала изливать в стихах. А к написанию писем у нее и вовсе время от времени возникало что-то вроде фобии.
Все письма были аккуратно пронумерованы, а на тех, на которых не было даты, рукой Ахматовой были проставлены примерные числа, в которых оно было отправлено.
13 июля 1914. Слепнево
Милый Коля, 10-го я приехала в Слепнево. Нашла Левушку здоровым, веселым и очень ласковым. О погоде и делах тебе верно напишет мама. В июльской книге «Нового слова» меня очень мило похвалил Ясинский. Соседей стараюсь не видеть, очень они пресные. Я написала несколько стихотворений, которых не слышал еще ни один человек, но меня это, слава Богу, пока мало огорчает. Теперь ты в курсе всех петербургских и литературных дел. Напиши, что слышно? Сюда пришел Жамм. Только получу, с почты же отошлю тебе. Прости, что я распечатала письмо Зноски, чтобы большой конверт весил меньше. Я получила от Чулкова несколько слов, написанных карандашом. Ему очень плохо, и мне кажется, что мы его больше не увидим.
Вернешься ли ты в Слепнево? или с начала августа будешь в Петербурге? Напиши мне обо всем поскорее. Посылаю тебе черновики моих новых стихов и очень жду вестей. Целую.
Твоя Аня.
17 июля 1914. Слепнево
Милый Коля, мама переслала мне сюда твое письмо. Сегодня уже неделя, как я в Слепневе. Становится скучно, погода испортилась, и я предчувствую раннюю осень. Целые дни лежу у себя на диване, изредка читаю, но чаще пишу стихи. Посылаю тебе одно сегодня, оно, кажется, имеет право существовать. Думаю, что нам будет очень трудно с деньгами осенью. У меня ничего нет, у тебя, наверно, тоже. С «Аполлона» получишь пустяки. А нам уже в августе будут нужны несколько сот рублей. Хорошо, если с «Четок» что-нибудь получим. Меня это все очень тревожит. Пожалуйста, не забудь, что заложены вещи. Если возможно, выкупи их и дай кому-нибудь спрятать.
Будет ли Чуковский читать свою статью об акмеизме как лекцию? Ведь он и это может. С добрым чувством жду июльскую «Русскую мысль». Вероятнее всего там свершит надо мною страшную казнь Valere. Но думаю о горчайшем, уже перенесенном, и смиряюсь.
Пиши, Коля, и стихи присылай. Будь здоров, милый!
Целую!
Твоя Анна.
Левушка здоров и все умеет говорить.
Простые бытовые письма, ничего особенного, никаких сильных эмоций. Я перечитала их еще раз. Похоже, больше всего Ахматову в то время интересовали стихи, куда меньше – сын и финансовые вопросы, а сам Гумилев и того меньше. Блоку она в том же году писала и нежнее, и кокетливее.
С другой стороны, письма написаны тепло и без казенщины – так пишут не любовникам, а супругам, с которыми прожили много лет. Вот только Ахматова с Гумилевым прожили вместе совсем немного, и время это было наполнено конфликтами, обидами, подозрениями и изменами. Чем дальше, тем непонятнее…
Я взяла первое в пачке письмо Гумилева, написанное за два года до этих записок.
[Июнь 1912. Слепнево]
Милая Аничка, как ты живешь, ты ничего не пишешь. Как твое здоровье, ты знаешь, это не пустая фраза. Мама нашила кучу маленьких рубашечек, пеленок и т. д. Она просит очень тебя целовать. Я написал одно стихотворение вопреки твоему предупреждению не писать о снах, о том моем итальянском сне во Флоренции, помнишь? Посылаю его тебе, кажется, очень нескладное. Напиши, пожалуйста, что ты о нем думаешь. Живу я здесь тихо, скромно, почти без книг, вечно с грамматикой, то английской, то итальянской. Данте уже читаю, хотя, конечно, схватываю только общий смысл и лишь некоторые выражения. С Байроном (английским) дело обстоит хуже, хотя я не унываю. Я увлекся также верховой ездой, собственно, вольтижировкой, или подобием ее. Уже могу на рыси вскакивать в седло и соскакивать с него без помощи стремян. Добиваюсь делать то же на галопе, но пока неудачно. Мы с Олей устраиваем теннис и завтра выписываем мячи и ракеты. Таким образом хоть похудею. Молли наша дохаживает последние дни, и для нее уже поставлена в моей комнате корзина с сеном. Она так мила, что всех умиляет. Даже Александра Алексеевна сказала, что она самая симпатичная из наших зверей. Каждый вечер я хожу один по Акинихской дороге испытывать то, что ты называешь Божьей тоской. Как перед ней разлетаются все акмеистические хитросплетения. Мне кажется тогда, что во всей Вселенной нет ни одного атома, который бы не был полон глубокой и вечной скорби.
Я описал круг и возвращаюсь к эпохе «Романтических цветов» (вспомни Волчицу и Каракаллу), но занимательно то, что когда я думаю о моем ближайшем творчестве, оно по инерции представляется мне в просветленных тонах «Чужого неба». Кажется, земные наши роли переменятся, ты будешь акмеисткой, я мрачным символистом. Все же я надеюсь обойтись без надрыва.
Аничка милая, я тебя очень, очень и всегда люблю. Кланяйся всем, пиши. Целую.
Твой Коля.
Июнь 1912 года. Где в это время была Ахматова? Я попыталась вспомнить – кажется, она путешествовала по Италии, или, возможно, только что вернулась оттуда. Тогда понятно, почему в письме мелькают итальянские темы. В остальном же – обычное письмо любящего мужа беременной жене.
[9 апреля 1913]
Милая Аника, я уже в Одессе и в кафе почти заграничном. Напишу тебе, потом попробую писать стихи. Я совершенно выздоровел, даже горло прошло, но еще несколько устал, должно быть, с дороги. Зато уже нет прежних кошмаров; снился раз Вячеслав Иванов, желавший мне сделать какую-то гадость, но и во сне я счастливо вывернулся. В книжном магазине просмотрел «Жатву». Твои стихи очень хорошо выглядят, и забавна по тому, как сильно сбавлен тон, заметка Бориса Садовского.
Здесь я видел афишу, что Вера Инбер в пятницу прочтет лекцию о новом женском одеянии, или что-то в этом роде; тут и Бакст, и Дункан, и вся тяжелая артиллерия.
Я весь день вспоминаю твои строки о «приморской девчонке», они мало того что нравятся мне, они меня пьянят. Так просто сказано так много, и я совершенно убежден, что из всей послесимволической поэзии ты да, пожалуй (по-своему), Нарбут окажетесь самыми значительными.
Милая Аня, я знаю, ты не любишь и не хочешь понять это, но мне не только радостно, а и прямо необходимо по мере того, как ты углубляешься для меня как женщина, укреплять и выдвигать в себе мужчину; я никогда бы не смог догадаться, что от счастья и славы безнадежно дряхлеют сердца, но ведь и ты никогда бы не смогла заняться исследованием страны Галла и понять, увидя луну, что она алмазный щит богини воинов Паллады.
Любопытно, что я сейчас опять такой же, как тогда, когда писались Жемчуга, и они мне ближе Чужого неба.
Маленький до сих пор был прекрасным спутником; верю, что так будет и дальше.
Целуй от меня Львеца (забавно, я первый раз пишу его имя) и учи его говорить папа. Пиши мне до 1 июня в Дире-Дауа (Dire-Daoua, Abyssinie. Afrique), до 15 июня в Джибути, до 15 июля в Порт-Саид, потом в Одессу.
Прошел еще год, а чувства, кажется, стали сильнее? Или Гумилев чувствует вину и так оправдывается, что оставил семью и вновь отправился в путешествие? К тому же легко заметить, что в этом письме куда больше слов о поэзии, чем о быте, и этим оно сильно отличается от предыдущего.
[13 апреля 1913]
Милая Аника, представь себе, с Одессы ни одного стихотворения. Готье переводится вяло, дневник пишется лучше. Безумная зима сказывается, я отдыхаю как зверь. Никаких разговоров о литературе, о знакомых, море хорошее, прежнее. С нетерпеньем жду Африки. Учи Леву говорить и не скучай. Пиши мне, пусть я найду в Дире-Дауа много писем. И помечай их числами.
Горячо целую тебя и Леву; погладь Молли.
Всегда твой Коля.
[25 апреля 1913]
Дорогая моя Аника, я уже в Джибути, доехал и высадился прекрасно. Магический открытый лист уже сэкономил мне рублей пятьдесят и вообще оказывает ряд услуг. Мое нездоровье прошло совершенно, силы растут с каждым днем. Вчера я написал стихотворение, посылаю его тебе. Напиши в Дире-Дауа, что ты о нем думаешь. На пароходе попробовал однажды писать в стиле Гилеи, но не смог. Это подняло мое уважение к ней. Мой дневник идет успешно, и я пишу его так, чтобы прямо можно было печатать. В Джедде с парохода мы поймали акулу; это было действительно зрелище. Оно заняло две страницы дневника.
Что ты поделываешь? Право, уже в июне поезжай к Инне Эразмовне. Если не хватит денег, займи, по возвращении в Петербург у меня они будут. Присылай мне сюда твои новые стихи, непременно. Я хочу знать, какой ты стала. Леве скажи, у него будет свой негритенок. Пусть радуется. С нами едет турецкий консул, назначенный в Харрар. Я с ним очень подружился, он будет собирать для меня абиссинские песни, и мы у него остановимся в Харраре. Со здешним вице-консулом Галебом, с которым, помнишь, я ссорился, я окончательно помирился, и он оказал мне ряд важных услуг.
Целую тебя и Левика.
Твой Коля.
[10 июля 1914]
Милая Аничка, думал получить твое письмо на Царск. Вок., но не получил. Что, ты забыла меня или тебя уже нет в Деражне? Мне страшно надоела Либава, и вот я в Териоках. Здесь поблизости Чуковский, Евреинов, Кульбин, Лозинский, но у последнего не сегодня завтра рождается ребенок. Есть театр, в театре Гибшман, Сладкопевцев, Л.Д. Блок, директор театра Мгебров (офицер).
У Чуковского я просидел целый день; он читал мне кусок своей будущей статьи об акмеизме, очень мило и благожелательно. Но ведь это только кусок, и конечно, собака зарыта не в нем! Вчера беседовал с Маковским, долго и бурно. Мы то чуть не целовались, то чуть не дрались. Кажется, однако, что он будет стараться устроить беллетристический отдел и еще разные улучшения. Просил сроку до начала августа. Увидим! Я пишу новое письмо о русской поэзии – Кузмин, Бальмонт, Бородаевскнй, может быть, кто-нибудь еще. Потом статью об африканском искусстве. Пру бросил. Жду, что запишу стихи.
Меланхолия моя, кажется, проходит. Пиши мне, милая Аничка, по адресу Териоки (Финляндия), кофейня «Идеал», мне. В этой кофейне за рубль в день я снял комнату, правда, не плохую.
Значит, жду письма, а пока горячо целую тебя.
Твой Коля.
Целую ручки Инне Эразмовне.
И вновь стихи, стихи, стихи – письма Гумилева написаны гораздо нежнее, чем письма Ахматовой, но к 1914 году основной темой в них стала поэзия. Похоже, я поторопилась с выводами по двум письмам Ахматовой. Летом 1914 года Гумилев писал ей так же, как и она ему – без особой страсти, дружески, о том, что их обоих интересует, но не более.
[17 июля 1914. СПб.]
Милая Аничка, может быть, я приеду одновременно с этим письмом, может быть, на день позже. Телеграфирую, когда высылать лошадей. Время я провел очень хорошо, музицировал с Мандельштамом, манифестировал с Городецким, а один написал рассказ и теперь продаю его. Целую всех. Очень скоро увидимся.
Твой Коля.
[До 6 сент. 1914. Кречевицкие казармы под Новгородом]
Дорогая Аничка (прости за кривой почерк, только что работал пикой на коне – это утомительно), поздравляю тебя с победой. Как я могу рассчитать, она имеет громадное значение, и, может быть, мы Новый Год встретим как прежде в Собаке. У меня вестовой, очень расторопный, и, кажется, удастся закрепить за собой коня, высокого, вороного, зовущегося Чернозем. Мы оба здоровы, но ужасно скучаем. Ученье бывает два раза в день часа по полтора, по два, остальное время совершенно свободно. Но невозможно чем-нибудь заняться, т. е. писать, потому что от гостей (вольноопределяющихся и охотников) нет отбою. Самовар не сходит со стола, наши шахматы заняты двадцать четыре часа в сутки, хотя люди в большинстве случаев милые, но все же это уныло.
Только сегодня мы решили запираться на крючок, не знаю, поможет ли. Впрочем, нашу скуку разделяют все и мечтают о походе, как о царствии небесном. Я уже чувствую осень и очень хочу писать. Не знаю, смогу ли.
Крепко целую тебя, маму и Леву и всех.
Твой Коля.
[Около 10 октября 1914 г., Россиены]
Дорогая моя Аничка, я уже в настоящей армии, но мы пока не сражаемся и когда начнем, неизвестно. Все-то приходится ждать, теперь, однако, уже с винтовкой в руках и отпущенной шашкой. И я начинаю чувствовать, что я подходящий муж для женщины, которая «собирала французские пули, как мы собирали грибы и чернику». Эта цитата заставляет меня напомнить тебе о твоем обещании быстро дописать твою поэму и придать ее мне. Право, я по ней скучаю. Я написал стишок, посылаю его тебе, хочешь продай, хочешь читай кому-нибудь. Я здесь утерял критические способности и не знаю, хорош он или плох.
Пиши мне в 1-ю действ. армию, в мой полк, эскадрон Ее Величества. Письма, оказывается, доходят очень и очень аккуратно.
Я все здоровею и здоровею: все время на свежем воздухе (а погода прекрасная, тепло), скачу верхом, а по ночам сплю как убитый.
Раненых привозят не мало, и раны все какие-то странные: ранят не в грудь, не в голову, как описывают в романах, а в лицо, в руки, в ноги. Под одним нашим уланом пуля пробила седло как раз в тот миг, когда он приподнимался на рыси; секунда до или после, и его бы ранило.
Сейчас случайно мы стоим в таком месте, откуда легко писать. Но скоро, должно быть, начнем переходить, и тогда писать будет труднее. Но вам совершенно не надо беспокоиться, если обо мне не будет известий. Трое вольноопределяющихся знают твой адрес и, если со мной что-нибудь случится, напишут тебе немедленно. Так что отсутствие писем будет обозначать только то, что я в походе, здоров, но негде и некогда писать. Конечно, когда будет возможно, я писать буду.
Целую тебя, моя дорогая Аничка, а также маму, Леву и всех. Напишите Коле маленькому, что после первого боя я ему напишу.
Твой Коля.
6 июля 1915. Заболотце
Дорогая моя Аничка, наконец-то и от тебя письмо, но, очевидно, второе (с сологубовским), первого пока нет. А я уж послал тебе несколько упреков, прости меня за них. Я тебе писал, что мы на новом фронте. Мы были в резерве, но дня четыре тому назад перед нами потеснили армейскую дивизию и мы пошли поправлять дело. Вчера с этим покончили, кое-где выбили неприятеля и теперь опять отошли валяться на сене и есть вишни. С австрийцами много легче воевать, чем с немцами. Они отвратительно стреляют. Вчера мы хохотали от души, видя, как они обстреливали наш аэроплан. Снаряды рвались по крайней мере верст за пять от него. Сейчас война приятная, огорчают только пыль во время переходов и дожди, когда лежишь в цепи. Но то и другое бывает редко. Здоровье мое отлично.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.