Текст книги "Уроки русского"
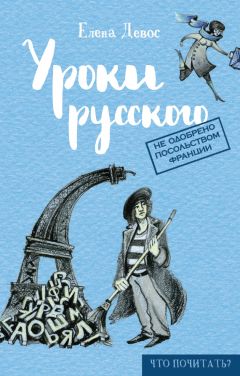
Автор книги: Елена Девос
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
– Мне так неловко… – сказала я. – Из-за поезда все.
– Из-за поезда у женщин много чего случается, – сказал он. – Возьмите хотя бы Анну Каренину.
Холодок пошел у меня по лопаткам.
– Сашенька, – тихо сказала я, и моя рука замерла, прежде чем опустить синюю шаль на офисную вешалку. – Вы начали читать? Правда? Как обещали?
– Пятую главу уже. Знаете что, – вдруг протянул он руку к моему платку, взял его и передал мне обратно, – ведь я уезжаю в воскресенье. Все-таки последний урок. Все-таки целый год вместе. Давайте сегодня займемся русским устно, давайте пройдемся, такая погода сейчас…
Мы шли куда глаза глядят, по светлой, наскоро умытой дождем улице, и так остро пахло сиренью из сквера, наверное, последней в этом году. На окраине города был июнь, но такой, что напоминал чем-то Москву той самой, мандельштамовской поры:
Немного красного вина,
Немного солнечного мая
И, тоненький бисквит ломая,
Тончайших пальцев белизна.
Немного красного вина мы и решили выпить за его отъезд в небольшом кафе «У трех дорог».
– Вы помните, кстати, как мы встретились?
Я покачала головой. Он стер пальцем пылинку с теплого бокала.
– А я вам скажу. Вы сидели за столиком в приемной, и вот эта шаль была у вас в руках, и мама нас познакомила… Потом вы прошли в переговорную, и, пока я раздевался, мне было слышно, что вы ходите вдоль стены и плачете. А потом я открыл дверь – смотрю, вы развешиваете картинки на этой стене и носом шмыгаете – дождь был холодный на улице, а платка у вас не было. И я тогда принес платки бумажные, помните?
– Да, действительно.
– Вам мама ничего не говорила тогда?..
– Нет. Ничего такого. А что?
– Что она удивилась. Ведь я же не хотел никаких уроков, я против был. А встретился с вами – и согласился. Мне стало легко. Мне стало легко говорить. Вот скажите, когда я пропускал урок, когда?
– Один раз, кажется… – подумав, сказала я.
– Да. В феврале. Я тогда совсем охрип, и мама сказала: «Не смеши Светлану, куда ты собрался?» А то бы я пришел все равно.
– Все равно?
– Да. – Он глотнул светло-красное Brouilly и аккуратно поставил недопитый бокал на обшарпанную стойку бара.
Как идет это вино по цвету теплой, влюбленной погоде, кто бы знал. На розоватом стекле играет солнце, цветочник поливает свои цветы на тротуаре, и распахнуты двери булочной, где только что испекли свежий хлеб.
Гарсон, пролетая мимо, приподнял один из бокалов и подложил под него тонкую бумажную полоску – счет. Саша остановил мою руку, которая потянулась было за бумажником, сгреб бумажку дрожащей пястью и ушел рассчитываться в бар.
Мы не спеша пошли к перекрестку, за которым начиналось шумное царство пригородных поездов.
– Все равно. И знаю, что нельзя, что, если скажу, наверное, больше никогда не увижу вас, а все-таки… – Он подбирал слова с трудом, но это усилие никакого отношения к уроку уже не имело. – Должен сказать. Понимаете? Я, наверное, больше вас никогда не увижу… потому что я вас люблю. Я никому не говорил: «Я вас люблю». На «вы». И я хочу, чтобы вы это знали.
Я почему-то не могла на него взглянуть. Действительно, должен был сказать, иначе задохнется, и все.
– Я же уеду. – Он шагал быстро и твердо, его темно-серая тень летела по земле и останавливалась, когда мы переходили светофоры. – Я уеду туда, где все будут говорить, как вы. Так, как вы меня учили. И все-таки никто так не будет говорить. Вы понимаете? Не надо, не говорите сейчас ничего. И не сердитесь только, ладно?
Мы спустились по лестнице к турникетам. Я даже не заметила, как он меня поцеловал.
– До свидания, Светлана Васильевна, – сказал он.
– До свидания, – сказала я и так и осталась в синеватой прохладе подземного перехода, а он, повернувшись на каблуках, взбежал вверх по лестнице и растворился в полуденном солнце навсегда.
Гроза в Париже
Как только я зашла в комнату, на улице начался дождь. Окна, как всегда, были закрыты тяжелыми черными портьерами, но робкий топоток капель по стеклу не мог обмануть ни меня, ни тем более Белогорскую, которая слышала гораздо лучше зрячих.
Так что она кивнула, улыбнулась и сказала:
– Светлана Васильевна, друг мой, пойдите откройте окно – я думаю, вы справитесь.
Я справилась.
Духота, которая мучила город все утро, отступила, и по парижским бульварам бежала, обгоняя автомобили, теплая дождевая вода. Дождь пошел плотнее, в тучах там и здесь сверкало горячее лезвие молнии. Люди хмурились и смеялись, торопливо раскрывали зонты, перебегали дорогу, накинув пиджак на голову, прятались под куцые козырьки витрин. Выпорхнула из сквера, как стая колибри, группа дошкольников в разноцветных дождевиках, рядом бежала их толстая воспитательница с развившимися волосами и совершенно невозможным, поломанным зонтом, похожим на цветок «ванька мокрый». Аккуратные банковские клерки, которых ливень застал на выходе из ресторана, уплотнились втроем под один зонтик и, быстро перебирая лакированными ботинками, этаким осьминогом доплыли обратно до места работы.
– Какая погода… – медленно сказала Анастасия Павловна. – И что же мы будем читать теперь? Я хотела было из Блока что-нибудь, да раздумала. У Пушкина все мои любимые стихи – зимние. Что скажете, Светлана Васильевна?
Я подумала и решилась:
– А что, если «Первую грозу», Тарковского?
– Ну, давайте, давайте Тарковского. А Блока мы потом откроем.
…Лиловая в Крыму и белая в Париже,
В Москве моя весна скромней и сердцу ближе,
Как девочка в слезах. А вор в дождевике
Под дождь – из булочной с бумажкой в кулаке.
Но там, где туфелькой коснулась изумрудной,
Беречься ни к чему и плакать безрассудно;
По лужам облака проходят косяком,
Павлиньи радуги плывут под каблуком…
Тут гром взял свое слово, а потом наступила тишина – эта самая летняя, умытая тишина, которая и возможна в городе только на несколько мгновений и только благодаря дождю.
Я не знала, никогда не знала, слушает ли она меня или чтение окончено и мне пора уйти. Она редко приглашала меня – появлялась в моем календаре, как приходят лето или осень, и я не знала, когда она в следующий раз захочет услышать меня, было что-то вроде негласного договора: захочет – пригласит.
– По лужам облака… – сказала вдруг она, даже не сказала, а вздохнула, и так было гораздо лучше, намного лучше моего.
– Красиво, правда? – осторожно спросила я и приготовилась к тому, что ответа не будет.
– Красота… – сказала она и помолчала немного. – Красота – пустое слово. Слишком, я думаю, наружное, слишком нарочитое. Даже не знаю, должна ли поэзия быть красивой. Она, безусловно, может быть красивой, но не в этом суть. Посмотрите на человека. Красота – не суть человека. Это драгоценность, которую он на себе носит. Небо подарило – и все… И это твое, и делай с ним что хочешь. Красота – это кольцо на ладони у ребенка.
Мне было нелегко в тот день расстаться с ней. Словно не отпускало что-то. Я не люблю примет и суеверий, но это правда.
Через неделю Маша позвонила мне и сказала, что Белогорская умерла. Скончалась во сне.
Отпевали ее в большой и гулкой церкви Александра Невского, что на улице Дарю.
Я до сих пор помню блекло-синюю закладку в стихах Тютчева и то, как она укладывала волосы высоко на затылке, и ее тонкие седые брови, как они все точно улыбались кому-то на потолке, и удивительную брошь – золотую стрекозу с малахитовыми глазами, которой всегда был подколот кружевной воротничок на ее строгом черном платье.
Космическая мята
Где-то во мне ютился этот отчаянный садовод, и ждал, ждал, курилка, когда настанет его день. День настал. То был пасмурный, холодный вторник, и, как только начали заносить коробки в грузовик, хлынул дождь.
– Переезжать в дождь – к счастью, – сказала Груша миролюбиво.
Груша – кладезь поговорок и примет на всех языках мира, включая французский. Это от нее Сережа перенял восхитительные: ноблесс оближ; бегу и падаю; глаза боятся, а руки делают; не у шубы рукав; по себе людей не судят; чья бы корова мычала; баба с возу – кобыле легче; копейка евро бережет.
И это она с ласковым укором напоминала мне, что: нельзя здороваться через порог; пришивать пуговицу перед дорогой; отрезать от целой буханки хлеба кусок, если солнце уже закатилось; хранить одежду наизнанку; снимать обувь с правой ноги; мыть пол поперек половиц; надевать на новый год старые чулки; есть с ножа; сидеть на столе; оставлять книгу открытой и считать деньги на ночь.
* * *
После обеда Груша отправилась с Сережей к себе на квартиру – подальше от бедлама, как она дружелюбно объяснила Сереже, который недоумевал, почему ему вдруг разрешили провести целую ночь и утро с хвостиком в гостях у Груши.
Груша вообще была первой Сережиной защитницей и другом, и не было, поверьте, такого праздника и таких хлопот, которые она не разделила бы с ним совершенно. Я не думаю ревновать, мне просто кажется – памятуя и Ванечкины капризы тоже, – что Сережа больше слушался няню, чем маму, а уж сказки ее безоговорочно признавал лучшими в мире (Сережа на комплименты женщинам не скупился).
Так что я почти всерьез однажды назвала ее Аграфеной Родионовной, но Груша возмутилась.
– Ивановна я! – с суеверным ужасом сказала она.
И никакие мои уверения, что это от восхищения, что с ней сравнится разве что няня Пушкина, не помогли нисколько. Отца Груша чтила и нежно помнила, так что другого отчества даже представить не могла.
– Ивановна, прекрасно, очень хорошо, – сказала я. – Но вот ты скажи мне, открой секрет: почему ты Аграфена?
Она, быстро смахнув ладонью крошки со стола, поставила на него свою кружку, уселась, обняла кружку пухлыми пальчиками, посмотрела на тоненький чайный пар и сказала:
– Так папа захотел. – И добавила: – Она ему жизнь спасла, наверное.
И теперь уже никто никогда не узнает, как действительно звали эту темноволосую медсестру, которая навестила Грушиного отца во время медосмотра в сорок втором году.
Иван лежал с ранением ноги в палаточном госпитале и ждал, когда начнется утренний обход. Еще не рассвело, только-только начали посвистывать в придорожных кустах мелкие пташки. Наконец подошла медсестра, откинула одеяло, перебинтовала изуродованную щиколотку и сказала: «Не давай резать. Не соглашайся, кричи, проси изо всех сил, они могут отступить от общего правила, а прогноз у тебя хороший».
Он упросил.
И потом его с первой партией раненых перевезли в другой госпиталь, а тех, кто перенес ампутацию, оставили, и все они погибли под бомбежкой. Отец недели через три увидел ее во сне, и она сказала ему, что ее зовут Аграфеной.
Что сталось с прекрасной Аграфеной далее – выжила ли она, и была ли она вообще, – отец Груши так и не узнал. «Грушей девочку назовем», – только и сказал он решительно своей юной жене, которая отличалась своевольным характером, но, посмотрев мужу в глаза, возражать не стала.
Он всегда ходил, чуть прихрамывая, но купил свою первую трость только ближе к шестидесяти – прогноз и вправду оказался хорошим.
* * *
– Ну что с них взять, тропический климат! – Володя заглушил мотор у грузовичка, на котором его фирма перевезла весь наш скарб по новому адресу. Дождь лил как из ведра, или, как говорят французы, веревками.
Фирма перевозок была самая что ни на есть местная, и менеджер вежливо сказал мне «оревуар», записав мой адрес и телефон, а в назначенный день переезда я вдруг услышала родную речь, и четверо огромных украинских парубков позвонили в мою дверь. Оказывается, хозяин фирмы, коренной парижанин Эмиль («Да турок он, турок!» – добродушно поправили меня парубки), всегда отправлял их на «сложные объекты».
Видимо, мы и правда оказались сложным объектом, с нашим неразобранным диваном, пианино и старинными ширмами, еще от французской прабабушки. Коробки грузили на асфальт, дождь зарядил внезапно, козырек у подъезда был махонький, я путалась в номерах на мокром картоне, грузчики смотрели на меня выразительно: вот ведь, надо же, русская, а полная дура.
Наконец все отнесли наверх.
Водрузив пианино в столовой и оставив мне какую-то копию «акта по приему работ» с подозрительным крестиком вместо подписи, они ушли.
А я теперь должна была решить проблему с постельным бельем, и стиркой, и ужином, и сборкой мебели… и еще какую-то, но я про все забыла, потому что настало время Чашки Чая.
Как я обрадовалась – и тому, что нашлась розетка для электрочайника на пустой кухне, и заварке в рюкзаке, заботливо упакованной в жестяную коробочку, и лепестку жасмина, когда он наконец распустился в темной кружке.
Сделав восхитительный первый глоток, я подошла к большой стеклянной двери, открыла ее и увидела там все, что нужно садоводу: две клумбы и королевство пустых и заброшенных террас (одна смотрела строго на север, а другая ласково – на юго-восток).
Так что надо было там что-нибудь посадить. Учитывая юг, восток и север. И в начале следующей недели мы отправились в цветочный магазин «Ферма радости» – Сережа, Груша и я. Груша советовала ромашки розовые, по гривеннику за двенадцать рассадышей, и рододендрон, который сидел, как нищая люля, у самого входа в магазин.
«Ну, заглядение!» – сказала Груша и потащила горшок с рододендроном к пустой тележке.
Я задержала ее руку, объяснила гороскоп на неделю, согласовала бюджет.
В результате на «Ферме радости» мы купили семена незабудок, маленькую розу в кадочке, вишневое варенье и два кило яблок. А в плане озеленения, учитывая юг, восток и север, я пошла другим путем.
Я нашла Космическую Мяту.
У меня до сих пор нет никаких сомнений, что этот вид мяты был заслан к нам инопланетными пришельцами, брошен с их тарелки в бесхозный двор около начальной школы, где я ее в буквальном смысле и откопала. Во-первых, она росла с фантастической скоростью, и команда ее крепких голубовато-белых корней, похожих на рыльце землеройки, в считаные дни жадно прорыла себе норы между другими цветами и пронизала клумбы насквозь. Во-вторых, она цвела огромными сиреневыми сережками, куда крупней и душистее, чем серые скромные лапочки всех остальных представительниц мяты обыкновенной.
В-третьих, она оказалась не просто жизнестойкой, а практически неистребимой. В цветочные горшки по соседству пришли и ушли: анютины глазки, пионы, колокольчики, розы, акация, жасмин, анемоны, чабрец (простой и лимонный) и таки рододендрон (Грушин подарок мне на день рождения) и «ванька мокрый».
Мята смотрела на всю эту чехарду снисходительно, размножалась и цвела. У нее была простая и ясная задача – захватить планету Земля, метр за метром. Она постепенно занимала пустеющие горшки и клумбы, где не хотели жить капризные и бесцельные представители земной флоры.
С тех пор мы переехали три раза. Мята до сих пор со мной. Думаете, я специально ее взяла? Конечно нет.
Она вселилась нелегально, прописавшись в горшке с настурцией в виде невинного отростка, и через три месяца, как в старые добрые террасные времена, заполонила собой всё.
По имени-отчеству
Да, Аграфена Ивановна – это одно.
А Наталья Ивановна – это другое. Благодаря Наталье Ивановне я влилась в коллектив! И не в какой-нибудь, а в учительский. Шестнадцать прекрасных дам и один джентльмен – Владимир.
Наталья Ивановна, директор небольшого частного образовательного центра с лаконичным названием «Русская школа», в день нашего с ней знакомства пребывала в состоянии крайнего нервного возбуждения. Дело в том, что у нее одновременно слегли с токсикозом средней тяжести три учительницы и совершенно некому было заменить будущих матерей и броситься на амбразуру, то есть провести в пятницу занятие с дебютантами. Десять человек, все капризные парижане, на повестке дня – творительный падеж. А пятница – послезавтра.
По счастливой случайности мимо учительской в ту среду проходила отличница и активистка Мари-Клер, которая знала повара Франсуа, будучи большой поклонницей его кухни в ресторане на улице Ласточек. И Мари-Клер рассказала Наталье Ивановне о моем существовании.
– Да, конечно, Франсуа – мой лучший ученик… из поваров, я имею в виду, – отозвалась я, придя на собеседование.
– Вот и он о вас сказал примерно то же самое, – вздохнула Наталья Ивановна. – Ну, что, вроде обо всем договорились, все дипломы проверили… В пятницу в семь?
– В пятницу в семь! – сказала я.
– Отлично. В семь тридцать – начало занятий. А если удастся, приходите за час до начала – познакомитесь с коллегами. Не пожалеете.
Вот уж это точно. Я не пожалела.
* * *
Войдя в крошечную светлую комнатку, вы сразу упирались в прямоугольный стол, который, вот как сейчас, был накрыт клетчатой бумажной скатертью для «скромного торжества», как любезно пояснил мне Владимир.
– А что это у нас тут? – Обернувшись на голос, я увидела, как сияюще-рыжая девушка, стряхнув дождевые капли с зонтика прямо в открытое окно, повесила плащ на вешалку около окна.
У противоположной глухой стены, в углу, красовался великолепный шкаф, набитый словарями и учебниками, а рядом с ним, до самого потолка, точно клетки для кроликов, маленькие локеры, вроде тех, что бывают в раздевалках у детей. Только на этих наклеены были белые этикеточки с фамилиями:
Надежда Хмельницкая
Аксинья Снегирева
Наталья Антипова
Галина Рожкова-Дюплесси
Владимир Воронков —
и так далее.
Фамилии принадлежали учителям в штате, золотой гвардии русского центра.
* * *
– Для праздника, – тонко улыбнулся Владимир, – как всегда, масса причин. У Аксюты в эти выходные был день рождения, у Натальи сегодня, Марина, как вы знаете, сама родила месяц назад и передает всем пламенный привет вместе с коробкой шоколадных конфет… Плюс разное: Галя переехала на новую квартиру, а Надя завела золотую рыбку. Вот и отмечаем.
Тогда новопришедшая провальсировала к самому верхнему крайнему ящику с надписью: «Ольга Говорун», распахнула дверцу, которая и на замок-то закрыта не была, и вытащила внушительную бутыль великолепного коньяка «Камю» самой благородной, янтарной расцветки.
Учительская наполнялась преподавателями могучего языка. Я с трепетом и восторгом увидела, что все они, узнав о торжестве, делали то же самое, что и Ольга, – на столе появились разнообразные бутылки, от лимонада до лимончелло.
– Ребята, не пугайте новенькую, – шепнул Владимир, увидев мой полный смятения взгляд. – А то она подумает, что пришла на собрание тайных алкоголиков. Света, – строго сказал он мне, – вам известно, что такое день рождения Александра Сергеевича Пушкина здесь, в русской школе?
Я отрицательно покачала головой.
– Это большой праздник, – с упреком сказал Владимир, – для всего человечества. Но для очага славянской письменности в Париже, коим мы являемся, особенно. В этот день у нас всегда проходит утренник, на котором ученики пишут диктанты, читают стихи и разыгрывают пьесы. Учителя пекут пироги, а ученики, по традиции, приносят цветы, конфеты и шампанское… Так вот, соответственно, и надарили… Никак домой не отнесем! Девочки свою дневную смену уже закончили, им можно наливать смело, а для вечерников, и вас в том числе, вот, газировка…
– А где же Аксинья? – удивленно спросила Ольга. – Без нее нельзя начинать.
– Не придет, и не жди! – весело отозвалась Галина. – На киносъемку уехала.
– Какую такую киносъемку? – спросила Ольга, и было видно, что она немножко завидует.
– Ты же знаешь Аксинью, дитя богемы. Ее попросили поработать на студии денек, – ответил Владимир, любуясь реакцией Ольги.
– Что, в кадре? – уточнила та.
Но тут на пороге появилась сама Аксинья.
Никаких сомнений в том, что это она, быть не могло.
«Дитя богемы» носило черную, расшитую бисером блузку, аппетитное декольте которой украшали янтарные бусы самой разной длины и калибра. Сережки у Аксиньи тоже были янтарные, тяжелые и яркие. Янтарь удивительно шел замечательному хриплому голосу и волосам Аксиньи, которые она, хитроумно подоткнув шпильками на висках, носила в виде кудрявой рыжей гривы с небольшими завитушками на лбу. Она выглядела именно так, как должна выглядеть актриса, посвятившая свой день великому искусству кино. Обведя всех усталым, но счастливым взглядом, Аксинья уселась на заботливо пододвинутый ей стул, достала пудреницу, посмотрелась внимательно в затуманенное зеркальце и начала рассказывать:
– Ну, друзья мои… Готовы слушать? Чур, не перебивать, потому что не поверите, что со мной было. – Она остановила все вопросы властным жестом пухлой руки, унизанной перстнями.
Она выдержала паузу, в зале была абсолютная тишина. Тогда Аксинья, удовлетворенно кивнув головой, заговорила:
– Как вы знаете, эти киношники позвонили мне месяц назад, сказали что-то невразумительное про работу с молодым актером… И пропали. Я, честно говоря, уже и забыла. И вдруг – звонок! «Алё, мадам. И знаете, вот голос несерьезный какой-то, цыплячий… «Мадам, я Сесиль, ассистентка режиссера, подписываем контракт». А я как раз здесь сидела, Владимир свидетель, в учительской. Я говорю – о чем идет речь, объясните хотя бы, кого учить, и скажите, сколько платите. Сесиль отвечает: «Сколько платим, не знаю, какая работа, не знаю, режиссер сказал подписать, а сам в отпуске». Я ей говорю: «Вот если бы вам так предложили работать, вы бы что ответили?» Она мне говорит, и причем эмоционально так, с жаром: «Я бы ответила, что это полный бардак!» Я говорю: «Так вот я вам отвечу то же самое». И положила трубку. Через минуту звонит режиссер, со своей дачи на Мальдивах. Владимир, не перебивай. Я знаю, что на Мальдивах, потому что он мне сегодня сам сказал. Звонит и говорит: «Страшное недоразумение, мадам, называйте цену, все устроим». Владимир, который все слышал, говорит: «Аксюта, не мелочись, это киноиндустрия, страшные деньги!» Я говорю – рабочий день у меня с вами вылетает в трубу, если это устный перевод, то или триста евро, или я никуда не поеду. Режиссер говорит ОК, давайте немножко поменьше, но мы за вами пришлем машину, все будет в лучших традициях Голливуда. Ну или как там у них называется? Неважно. Я говорю, мсье, никто не может мне внятно объяснить, в чем суть работы. Режиссер: работа деликатная. Я думаю, мужу не скажу, наверное, надо им в кадр русскую, с красивым декольте. Говорю: «Выкладывайте все как есть».
Он выложил. Никаких русских в кадре, все прозаично: они дублируют боевик. Одна банда, американская, нападает на другую. И в этой другой банде – пара русских. Актер должен продублировать русскую речь, а я – научить его этому. И еще перевести, легкомысленно добавил этот режиссер. Когда? Через неделю. На студии и подпишем контракт.
Ну, через неделю приезжает машина, я надеваю костюм – нет, Владимир, конечно, не этот, я дома переоделась. Едем. Все какие-то леса и озера, местность сельская. Ну, думаю, Голливуд, тоже мне. Приехали, выходим в парк, белочки прыгают по газону, особняк кирпичный, но студия такая стеклянная, многоэтажная, все культурненько. Актер уже на месте. Включают оригинал, я слушаю.
Аксинья сделала паузу, и налила себе газировки.
– Давай не томи! – попросил Владимир, зная, что Аксинья ждет именно этого. – Что происходит дальше?
– А именно это и происходит! – с удовольствием сказала Аксинья. – Молчание происходит. Я сижу в студии, молчу и не знаю, что делать. Речь в фильме, безусловно, русская, но я не понимаю НИ-ЧЕ-ГО.
– Почему? – прошептала Ольга.
– Потому что, мои дорогие, американцы, играя страшных и злых бандитов из России, пытаются материться на каждом слове. Как им кажется, по-русски.
Воробьи, подлетевшие было на открытое окно за крошками, живо спорхнули прочь. Аксинья, насладившись восторгами публики, продолжила:
– Я осторожно говорю ассистенту: давайте еще раз прокрутим. Она бровки нахмурила, но послушалась. Тогда я говорю: давайте еще раз. Она говорит: это что, не русский язык? Я говорю, это особый русский, да еще с иностранным акцентом. Если вы сейчас окажетесь во франкоязычной части Африки, то, наверное, не все поймете, особенно ругань. Когда людям объяснишь доходчиво, все становится на свои места. Да. Ну, а потом – тяжелая работа, постановка звуков у молодого дарования, чай с пирожными…
– Особенно чай с пирожными тебя замучил, я думаю, – сочувственно вздохнул Владимир, улыбаясь одними глазами. – Да еще и молодое дарование!
– Нет, он способный оказался паренек… «Твою мать» стал произносить гораздо лучше оригинала! А перевела я им все, как интеллигентный человек, намеками. Так что он отлично озвучил, да еще и узнал, что Ибица – это не только пляж в Испании. – Аксинья допила лимонад и встрепенулась: – Да что же это мы, урок через минуту начинается!
И так я опоздала на свое первое занятие – потому что запуталась в аудиториях и не сразу нашла нужный класс. Но вы же знаете поговорку. На первый раз прощается.
* * *
Ученик и учитель – один на один, за книгой, как за шахматной доской.
Вопрос – ответ – вопрос. Услышал – понял – повторил. Послушал – продолжил сам. Непрерывный диалог, вечная игра словом, мяч мысли через сетку – на ту сторону, для одного-единственного Другого.
Учитель и класс – другой спорт, другая империя, на вид вроде как монархия, а на самом деле…
Тут тебе и собрание сенаторов, и чужой монастырь, и – привет Спартаку – цирковая арена. «Пока молодая – я слишком уж худая, когда я потолстею – они меня съедят», – и лучше Горбовской об этом, наверное, никто не скажет. Горбовская, кстати, не только писала стихи, но еще и преподавала в Лондоне русский для иностранцев. Но сейчас не об этом.
Я, признаться, думала, что с классом даже легче: как навалятся на одно упражнение, эй-ухнут, дубинушка сама пойдет – все прочитают, обменяются мнениями… Да пока запишут текст, пока ответят на все вопросы… вот тебе и все! Урок окончен! А класс – многоголовая, остроумная, скучающая, смешливая, разговорчивая гидра – взглянул на меня с нескрываемым любопытством и начал говорить, и возражать, и спорить… И я поняла – все, хана мне, если только на миг отпущу руль корабля.
Во время урока в классе учителю совершенно невозможно сосредоточиться на чем-либо, кроме задачи, которую ученики в данный момент выполняют.
Вы, например, решили: «Помучаю-ка их сейчас упражнением на сравнительные степени прилагательного, а сама в это время найду в другом учебнике хорошенький рассказик, который они и прочитают мне потом». В восторге от собственных организационных способностей, вы запускаете по кругу примитивное задание: «Прочитайте предложения, подбирая по смыслу нужную форму…» – и хотите заняться своими делами.
Не тут-то было. Без вас работа не идет: фразы, как тяжелый многосоставный поезд, толкаются и наезжают друг на друга, потому что никто ничего не скажет без вашего ободряющего: «Хорошо, Амели. Теперь Кристофф, пожалуйста. Спасибо, Кристофф. Эвелин, ваша очередь. Прекрасно, Эвелин! Теперь Алиса…»
И поезд идет от первого предложения к последнему, и жгучий вопрос «Почему так?» у каждого разный, требует вашего ответа. И вы в результате говорите столько, сколько на индивидуальных уроках не говорили вообще никогда.
Поскольку вы буквально не сводите со студентов глаз, у вас есть прекрасная возможность запомнить до невероятных подробностей их внешность, привычки и манеру говорить. Вот розовощекая Амели, которая всегда носит светло-синие джинсы и черные кеды «конверс», пишет левой рукой, а чертит – правой, имеет привычку закладывать русую прядь за ухо, когда до нее дойдет очередь читать, и смеется над своими же ошибками легким, колокольчатым смехом. Вот Кристофф, до удивления похожий на молодого Гоголя, с едва заметными усиками, печальными темными глазами, экземой на левом запястье, которую он расчесывает, когда волнуется, и хорошо развитым чувством юмора – оно приходит ему на помощь каждый раз, когда он не знает ответа. Вот Эвелин в деловом костюме и фривольных блузках, душистая и шумная, до которой в последнюю очередь доходит весь смысл того или иного грамматического исключения, но если уж доходит, то намертво, так что она подсказывает другим во все горло, «как это будет по-русски». Вот Алиса, хорошистка выпускного класса в пятнадцатом округе Парижа, которая забирает светлые волосы в непослушный шиньон и всегда говорит: «Я думаю», прежде чем ответить… но в учебник смотрит не очень внимательно и больше любит поболтать с Константином. Вот и Константин, студент первого курса Science Po, который уверенным баском рассказывает Алисе, что за чудь эта высшая математика, и уже в начале урока трет уставшие глаза – вчера отмечал день рождения одного из своих многочисленных друзей…
Домашнее задание проверено. Вы начинаете разбирать на доске теорию.
Перед вами вздымается белая, как айсберг, вертикальная гладь, на которой черным маркером вы медленно пишете французские и русские слова.
Это самое удивительное упражнение для человеческой руки из всех, которые я знаю.
Я никогда не принадлежала к этой когорте избранных, к этому невероятному клану педагогов, которые везде пишут одинаково, до ужаса красиво и правильно: в классном журнале, в тетради последнего двоечника и первого ученика, на черной доске скрипучим мелом и на четвертушке ватмана – заголовок в стенгазету, где будет опубликован список отличников третьей четверти. То есть я – нормальный человек. Я пишу так, что иногда мое «л» не отличишь от «г», а «к» от «н».
И вот оказывается, что мне надо писать быстро, но разборчиво, легко, но аккуратно, повернувшись спиной к двадцати глазам-револьверам, которые контролируют каждое движение пересохшего маркера по доске.
И к чему это привело? К тому, что я задумалась пару раз, как написать привычные слова моего родного языка.
Я словно увидела их заново.
Есть несомненная, тесная, телесная связь между поверхностью, инструментом для письма и твоей подслеповатой, отвыкшей от работы дланью. Ручное письмо – особое таинство. Японские врачи говорят, что правильное написание иероглифов уменьшает риск болезни Альцгеймера. Аплодировать не буду, но уверена: действительно, что-то особое происходит в голове в тот момент, когда рука пишет слово.
Именно классная доска научила меня этому нудному упражнению, которое всегда помогает при легком сумбуре в памяти и в мыслях. Все, что хочется молниеносно вбить в привычную форму мейла или сообщения, я прописываю вручную, и чем важнее письмо, тем медленнее его пишу. Увы, я простой смертный человек, и мои демоны еще как скрежещут зубами и показывают когтями на страшные настенные часы – все это, мол, отнимает время. «Какое время, – смеясь, отвечает старый князь Щербацкий в бессмертных строках Толстого. – Другое время такое, что целый месяц за полтинник отдашь, а то никаких денег за полчаса не возьмешь».
И мне становится хорошо, и перо скользит дальше.
Говорят, авторских редакций романа «Война и мир» столько, что никто не может назвать количество наверняка.
Да еще потом Софья Андреевна переписывала весь текст вручную.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































