Текст книги "Уроки русского"
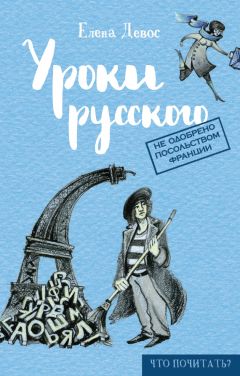
Автор книги: Елена Девос
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
Суп с котом
Но самым-самым все-таки был, конечно, не Бастьян, не Шарль и даже не Жак.
Не Жак раскрыл мне глубины родного, великого и могучего. Не Жак показал мне, на что способен ученик в рамках эпистолярного жанра.
«Мама
Я пешу тибе патамушто ти сказал што мне нелзя тибя видить…»
Далее текст был насыщен ошибками столь же однородно, то есть «ложка стояла», как говорила тетя Люся применительно к деревенской сметане, но все-таки не могу не отметить, что одно слово всегда было написано правильно – «мама».
С этого все и началось.
Письмо умещалось на одной небрежно выдранной, лохматой странице из школьной тетради во французскую клеточку: похоже на нашу миллиметровку, только линейки водянистые, синенькие.
В переводе на грамотный письмо выглядело так:
«Я пишу тебе, потому что ты сказала, что мне нельзя тебя видеть.
А я просто очень хочу тебе сказать: прости меня! Я правда не знал, что ты будешь обедать дома со мной. Гувернантка мне ничего не сказала! Мама, любимая, прости, я хотел сразу сказать „прости меня“, но ты же знаешь, какой у меня характер – какашка, я не мог сразу, прости!.. Прости, прости меня еще только один раз! Ну, или два.
Мама, я тебя очень люблю, я скажу тебе это прямо в лицо, когда мне можно будет тебя видеть.
Ваня».
* * *
– Вот, понимаете? – обратилась она не ко мне, а куда-то в глубину своей сумки, откуда минуту назад и достала письмо, по-курьи откопав его в завале дорогих и непонятно для чего предназначенных вещей.
– Начинаю, – ответила я. – Кажется.
Мы сидели в чайном салоне отеля «Паллада» на авеню Монтень.
Монтень – улица фешенебельная, холодная и блестящая, да и отель я раньше видела только снару жи, но, надо сказать, он как-то умилял прохожего – может быть, кудрями красной герани на верхних этажах и красными же зонтиками на балкончиках, или бестолковой толпой ясноглазых туристов, или стоянкой для такси, где дивные средства передвижения всегда напоминали мне морских котиков своей гладко-черной окраской, передвигались коротко и стремительно, ловили незримый мячик в какой-то похожей на водное поло игре, замирали, начинали снова. Остальное – серебро, хрусталь, органза – как-то смутно, точно облачные кущи, грезилось в оконных рамах, когда я проходила мимо.
Обозревать теперь все изнутри было непривычно и, конечно, не лишено приятности. Свежезаваренный «дарджилинг» пускал золотой сок в полупрозрачном фарфоре моей чашки. Телерепортеры, посверкивая вспышками и баджами всемирно известных газет, буквально внесли в холл местную ушастую кинознаменитость. В потертом кожаном кресле напротив барной стойки бизнесмен, приложив ладонь к царапинам от торопливой бритвы, что прошлась на рассвете по его щеке, доверял своему мобильнику конфиденциальную инфу о росте каких-то акций.
А рядом прогуливались другие экзотические птицы. Одна из них, в розовом пиджачке а-ля Джеки Кеннеди, и стала моей собеседницей. И соотечественницей – об этом мне лучше всяких бумаг говорили ее бирюзовые туфли, по-кошачьи выступавшие скулы, громадная коса цвета топленого молока и оленья шея, на которой она то и дело теребила яркий рубиновый кулон.
– Так. Главное, Света. Теперь главное. Давайте определимся с расписанием, – быстро открыла она блокнот. – Потому что у него еще конная школа, теннис и бассейн, и я прямо не знаю, куда мне вас приткнуть.
– Во-первых, даже если мы будем знать, куда меня приткнуть… – начала я.
– Н-нет – нет, – сказала она, быстро вскинув на меня светло-голубые глаза, – мы, конечно, учтем, когда вы сами можете – это же только полчасика. Думаю, больше вам не выдержать… – И тут же добавила, домысливая за меня все реплики и возражения: – Ну, нет, если вам этого мало, то остальное время вы можете заниматься со мной. Да. Я после Испании думала, все буду со своим сносным испанским понимать по-французски, а оказалось, это какой-то кошмар! А, да, и потом, мне необходимо знать, по каким учебникам вы будете… что надо приготовить, о чем предупредить Натали…
Я поняла, что пришло время скорректировать беседу и как-то перехватить микрофон из ее ухоженных когтей хотя бы на две минуты.
– Во-первых, – перебила ее я, – на сегодня встреча окончена. Мы больше общаться не будем.
– То есть… – удивленно произнесла она и замолчала, и в монологе образовался благословенный хиазмус.
И я сказала:
– Вы прочли письмо, и вам ясно: настала пора для уроков русского. Письмо мне нравится. Но этого мало. Чтоб принять решение, мне не хватает автора письма, потому что решение в данном случае – наше с ним общее. Я ученика не видела. Вы говорите, ему семь лет?
– Будет восемь на следующей неделе, – сказала она.
– Отличный возраст, чтобы принимать решения. Я должна с ним поговорить, понимаете? Чего он хочет сам и с кем. Понимаете? У меня не школа, не военное училище, не пионерский лагерь. Он вот тут пишет, например, что хочет вас видеть… Может быть, вы и сами могли бы с ним позаниматься русским… основы основ?
– Ой, нет! – поднесла руку к сердцу она, и странно было видеть, что такая волевая женщина умеет отвечать испуганно. – Я, знаете… педагог еще тот. Муж тоже говорит, что я сама могу! Не понимает, как это сложно. У нас тоже в этом плане конфликт мнений, прямо деремся. Подушками, – шепнула она.
М – да, помимо бизнес-мамы и ничего не подозревающего Ванечки, мне предлагался еще и конфликт мнений в родительской спальне.
Но такие письма все-таки на дороге не валяются.
Поэтому мы договорились, что я приду к Ване в гости, в следующую пятницу, и там мы все окончательно и решим.
«Господи, какое счастье, – подумала я, летя домой на крыльях любви и гордости. – Какое счастье. Мои дети пишут грамотно. Стараются. Говорят на родном языке, школьные годы чудесные не тратят на ерунду, и вообще… У меня все сложилось по-другому, у меня хватило сил научить, показать, объяснить… Заложить основы. Это главное. Главное».
– Привет! – сказала я, залетая в дом.
– Салю, – сказала Катя. – Са ва?
Моя сумка налилась свинцом, я опустила ее на пол и посмотрела на дочь, уплывающую разболтанной, уже подростковой походкой к телевизору. А там, на экране, меня приветствовал не шедевр российского кинематографа, нет (оставила им сегодня с утра, с письменным одобрением на просмотр). Незнакомые мне буки и зяки носились по экрану, плюясь междометиями.
Какой там русский…
Язык в целом отсутствовал как таковой.
– Надо сказать: «привет» и «как дела», – сказала я каким-то негнущимся от обиды голосом.
– Ой, да ладно. Все исправляешь, исправляешь. С тобой уже не поговорить нормально. Учебник на ножках, – огрызнулась дочь… на правильном французском языке.
И вышла из комнаты, распахнув дверь настежь.
* * *
У Ванечки были качели в детской, бассейн на минус первом этаже, и карамельного цвета пони по имени Микадо, со звездой во лбу, на котором он катался по средам и пятницам в правильных жокейских сапожках и твердой круглой шапочке. У него были рояль «Steinberg» в гостиной, два игрушечных поезда, которые пускали настоящий едкий дым, когда ехали навстречу друг другу по спирали роскошной железной дороги, установленной в коридоре, и крошечный вертолет, что летал, где хотел, периодически падая в проем кружевной кованой лестницы, между первым и вторым этажами. У него были профессорских размеров библиотека и письменный стол, на зависть многим взрослым писателям и журналистам. У него не было только одного – желания сидеть за этим столом и писать буквы.
У него вообще ко многому не было только одного – желания.
Мы встретились как раз накануне его дня рождения, когда другие дети, пуская слюни, предвкушают заветные подарки и большущий кусок торта со свечой, что дрожит на серебряной лопаточке, перед тем как качнется набок и развалится на тарелке. Мне было достаточно один раз взглянуть на Ванечку, чтобы понять – ничего этого он не хотел, про все подарки уже знал заранее, и сама мысль о торте вызывала у него легкий приступ тошноты.
Началось все, впрочем, довольно чинно. Мы уселись за тот самый роскошный письменный стол и открыли букварь с картинками. Не знаю, откуда он приехал к Ванечке – может быть, любящая бабушка заказала специальное издание в какой-нибудь серии «Любимым внукам-наследникам».
Во всяком случае, я при виде этой книги подумала о Екатерине Второй и ее внуке Александре Первом. Тяжелая, царственная, обитая замшей колода с коваными уголками, с ручной росписью на каждой красной строке и объемными картинками, которые надо было разворачивать, чтобы увидеть: колобок катится по тропинке в лес; белка прыгает с елки на елку; ворона каркает во все малиновое горло, и сыр ее, по виду точно пармезан, подпрыгнув на хитроумной, почти невидимой блесне, летит читателю в руки.
Ванечка зевнул.
Тут в коридоре зародилась какая-то звуковая волна: хлопнула одна дверь, вторая, третья и пошла перкуссия шагов – мужских, внушительно, и рядом женских, испуганно и мелко, стекляшечками. А потом раздался такой русский мат, что я не знала, чем бы закрыть уши – себе и Ванечке. Человек выдавал его без пауз, только переводя дыхание. И приличное междометие переходило в неприличное еще на вдохе.
Я не могу вам передать, какое чувство возникло у меня при этих звуках, что неслись из коридора с персидскими коврами и раззолоченными окнами с видом на Марсово поле. Примерно о таком чувстве, наверное, и хотел сказать в своей теории абсурда гениальный житель Парижа Альбер Камю.
– А это кто? – спросила я шепотом.
– Так это мой папа, – не шепотом, но довольно тихо ответил Ваня.
– Так он что, русский?! – полнозвучно изумилась я.
– Наверное, – сказал он и стал ковырять моторчик в игрушечной «феррари».
– Почему «наверное», зайка? – Я наклонилась ближе – так жалко мне стало его, и так глухо звучал его голос.
– Не знаю, – еще ниже наклонил он голову, потеряв к беседе интерес. Или сделал вид, что потерял. Потому что его там все-таки интересовал один момент. Так интересовал, что по-французски он добавил: – Он говорит, что я и с мамой могу учиться русскому. Что русский никому не нужен. Что ему этот русский только мешает. А вот если б он говорил по-французски, как я, и еще бы по-английски, вот тогда он был бы супергерой. Но у него, говорит, таланта нет к языкам. У него была учительница, но он ее стукнул учебником по голове, и она ушла.
* * *
Супергерой Александр Васильевич Мякишев сделал свой первый миллион на молочных сосисках – это потом уже начались ветчина, сервелат, колбаса любительская, сырокопченая, докторская и разные фантазии. Заводики Александра Валерьевича работали как часы – по крайней мере, доклады об этом он получал круглосуточно по всем средствам связи, которые были к нему присоединены, подключены и пристегнуты от мочки уха до пупа.
Для ведения дел русского ему вполне хватало, учитывая, что ненормативной лексикой он владел виртуозно. Однако за границей начались некоторые сложности: с местным банком, ресторанами, шоферами такси и тренерами по гольфу, хоть Александр Васильевич и нанял секретаря, девочку Миру, незамужнюю и понятливую, которая старательно переводила и объясняла туда-обратно, – все-таки общение шло с трудом.
И потому Мякишев завидовал тем, кто говорил на другом языке свободно. Завидовал он той же Мире, секретарю, и своим дизайнерам и архитекторам, и поварам, и парикмахеру русскому, который стриг его в модном салоне, около бутика машин BMW, и даже своему сыну Ванечке. И две собачки, любимицы Мякишева, Вава и Зюзя, отзывались, казалось ему, с большей готовностью на французский оклик гувернантки, чем на его мелодичный русский свист. Собачки появились у него пару месяцев назад, потому что держать таких пестреньких, похожих на обувную щетку, стало модно – и было о чем поговорить во время кофейной паузы на переговорах с Валентином Петровичем, и Сергей Овсеенко тоже взял себе кобелька, и даже, сказали Мякишеву, сам Перышкин заинтересовался терьерчиками, а это многое значит.
Но вот досада: собачек надо было воспитывать согласно инструкции – и вышел пренеприятный спор с магазином, в котором он стоял полгода в очереди на щенков и, наконец, их получил. Магазин упрямо отказывался отдать животных без расписки, что Александр Васильевич обязуется кормить их так, как указано в медицинской карточке. Александр Васильевич расписки давать принципиально не хотел, потому что собачки должны были, по его мысли, следовать образу жизни хозяина – а хозяин, колбасный король и повелитель всех молочных сосисок в родной и двух соседних республиках, был убежденный вегетарианец.
* * *
Признаюсь, я по мере сил избегала встречи с Александром Васильевичем. Но все-таки этот день настал.
Вбежала Мира, незамужняя и понятливая, и шепотком пригласила меня в особый кабинет, где Александр Васильевич проводил аудиенции, когда был к тому расположен.
Он предложил мне ромашковый чай – другого Александр Васильевич по четвергам не употреблял. Так мы и начали: я по правую сторону мраморного стола, он по левую, а на столе чайник и чашки с крылышками.
– Вы знаете, Светлана, – прищурился он на чайную ложечку. В ложечке отразились нос Александра Васильевича и его аккуратный золотистый чубчик.
– Я думал, ни к чему эти уроки русского заводить, конечно. Вам Лариса ведь уже сказала, наверное. Но сейчас я хочу поговорить с вами. Сколько вы минут занимаетесь?
– Час, иногда сорок пять минут, если ученик устает. Тогда я просто читаю книжки вслух, или мы разговариваем.
– О чем?
– О чем? Ну, когда как. О том, какие он любит игрушки, какой у него пони, кто построил Эйфелеву башню, какие башни есть в Москве. Обо всем.
– И ему интересно?
– Когда как. Моя работа в том и заключается, чтобы понять, что интересно. Чтобы показать, что и почему интересно. Дети сами не всегда могут это сделать.
– А что, если так, Светлана… полчаса русского, а потом полчаса английского ему? – вдохновенно сказал папа. – Английский же полезнее.
Я знала, что как-нибудь это всплывет. Я знала. Я знала, что сейчас, наверное, он выдаст мне что-нибудь нецензурное или позовет охранника, ну и шут с ним.
Я все равно сказала ему:
– Хотите говорить по-английски – выучите сначала русский. Языки нельзя рассматривать только с точки зрения пользы, коммерческой выгоды, инвестирования туда-сюда. И еще неизвестно, какой язык будет Ванечке нужен через двадцать лет. Нельзя просчитать все заранее. Вы же не смогли просчитать каких-то двадцать лет назад, как сделать так, чтобы сейчас сидеть со мной на Елисейских Полях, пить чай из сервиза «Версаче» и говорить о пользе языка. Тем более если язык родной. Ребенку нужен час в день на родной язык, это минимум, Александр Васильевич! И баста. Час, чтобы узнать, и потом практиковать, играючи, слушать, говорить. Он же ни с кем не говорит по-русски. Даже с вами, – наугад рубанула я.
– Даже, – повторил он мрачно.
И мне, хотя я угадала, почему-то стало грустно.
– Ладно. Будет ему час на русский. Я, если честно, хотел отменить эту ерунду. А потом смотрю – он книжку достал, разлегся на полу в спальне с тетрадью, с азбукой, что вы ему написали… И говорит мне: «Света завтра точно придет?» И мне захотелось взглянуть, на что вы похожи.
Я оставила его слова без комментариев.
– Только вот что. – Мякишев встал и смахнул сахарные крупинки со стола. – Если хорошая погода, езжайте на свежий воздух, оки-доки? Нечего здесь в четырех стенах киснуть. Машину я дам.
Я, разумеется, возражать не стала.
И не сказала Мякишеву, в какое изумление меня повергли его слова о том, что Ванечка ждет завтрашнего урока. Видите ли, в чем было дело…
* * *
Дело было в том, что Ваня глубоко и успешно скрывал все свои симпатии и ожидания. Урок с ним я проводила по самой щадящей шкале – выдержит или нет? Выражения типа «ждет», «понравилось», «просит повторить еще» – я решила, думая о его реакции на мои уроки, истребить и забыть. Больше того, я поначалу ждала, что мне позвонит Лариса и скажет: сын больше не хочет заниматься русским, извиняйте, Света, мерси.
Но, видимо, мне очень хотелось, чтобы что-то изменилось. И что-то изменилось. Правда.
Когда мы встретились, Ванечка не умел читать. Ни по-русски, никак. А после нашей встречи – научился. У меня не повернется язык сказать, что его научила я. Это он сам – как-то так подбросил в воздух свой бумеранг, свои правила чтения и письма, что они вернулись к нему сторицей, и наконец-то из слогов появилось слово.
Я просто помогала бросать бумеранги.
Пробовала то одно, то другое. То одно, то другое.
Ведь в случае с ребенком никогда нельзя знать наперед, что сработает, а что нет. Что понравится, а что не будет интересно. И уж если не будет интересно, раздастся моментально «фу-у-у!..» – и ты узнаешь, где сидит фазан и какого он на самом деле цвета. И в этой чудовищной искренности и скрыта вся мука и прелесть уроков с детьми.
Я в восторг приходила от новой сказки, выкладывала ее перед носом Ванечки, а он отворачивался.
Он прятал от меня новый отличный учебник, и говорил: «Не знаю где». Он на глазах у меня разорвал домашнее задание, когда я сказала, что все неправильно! У меня было чувство, что я его сейчас ударю. Вот просто закололо иголочками в правой ладони, и все.
Мне стало страшно. Я вышла за дверь, посмотрела на маслянистый пейзаж в позолоченной раме прямо напротив окна – какие-то косари и бабы.
Ванечка высунулся за мной, шмыгнул носом, сказал по-русски:
– Ну это шутка, ну прости. Ну прости, очень! Хочешь, мы сейчас все-все соберем и склеим?
…А этот морозный день, когда у дочери началась ангина, и мы с Грушей, посоветовавшись, оставили Катю дома и сварили ей куриный бульон, и я примчалась к Ванечке на этот час совершенно без всего, ну ничегошеньки в руках, и перед глазами только Катино горло красное. Ваня мурыжил на столе две спичечные коробочки и резинку. И я вспомнила, как можно объяснить на коробочках с резинкой чтение слогов.
На один коробок пишется один слог.
На другой – второй.
Потом в коробках прокалывается дырочка, и продевается резинка.
И объяснила ему, и он вдруг загорелся, защелкал резинкой и начал стягивать слоги сам.
Наконец он чуть с ума не свел меня, отказываясь запоминать «Дама сдавала багаж»…
– Картинакорзинакартонка, – говорил Ваня в именительном падеже, хотя я сказала – я же четыре раза сказала, – что это винительный, кончается на «у»!
– Почему? – спросил он и начал прыгать на диване.
– Потому что потому, кончается на «у» – сурово ответила я.
– Ура! Тоже на «у», – хитро заметил он и запрыгал еще сильнее. – А потом?
– А потом – суп с котом.
– Суп с котом! Суп с котом! Суп с котом!!
Тумц. Тумц. Тумц.
Пенополиуретан дорогущего дизайнерского дивана пружинит, как хороший батут, и подбрасывает двадцать два килограмма человеческой глупости на немыслимую высоту. Сейчас лопнет или диван, или мое терпение, или все вместе одновременно.
Я отошла на всякий случай от дивана и стала смотреть, как над прозрачными серыми яблонями в зимнем саду пролетает маленький, похожий на кристаллик снега самолетик.
Письмо тесно связано с работой головного мозга.
Упражнениями на мелкую моторику рук развивается речь ребенка. Мелким массажем и работой с пальцами рук и ладонями лечатся инсульты.
Письмо тесно связано с работой головного мозга.
Письмо – массаж.
– Иди-ка сюда. Слезай, сейчас будет фокус, – сказала я.
Совершенно потеряв контроль над своим отчаянием, не успев даже спросить себя, что я делаю, я подвела Ванечку к столу, взяла его тоненькую влажную ладонь и стала писать на ней синими чернилами окончания падежей.
Он посмотрел, как переливается на его руке фиолетовая надпись, потом на меня. Бесценный взгляд, незабываемый. Смесь ужаса и восхищения. По всем правилам древнегреческого театра.
– И в следующий раз, если не запоминается, запиши себе на руке сам.
– А что скажет мама? – шепотом спросил он.
– А мама скажет: «Молодец, Ванечка». – сказала я. Когда ты ей прочитаешь стишок.
Он прочитал.
Магическая флюта
Что мне было ответить на слова дочери? Сказать вам, что я изменила ситуацию в тот же вечер, доходчиво объяснив ей колоссальные возможности любого человека, владеющего двумя языками, в будущей взрослой жизни, – значит соврать самым наглым образом. Я не нашлась что ответить. Вернее, хуже. Ответила. Сорвалось и выскочило, и выпрыгнуло, и понеслись клочки по закоулочкам…
Я закричала, что они не понимают, какое сокровище я впихиваю в них бесплатно и ежедневно, сокровище, за которое другие люди предлагают мне деньги и время, а это время им, людям, уже надо отрывать от кучи взрослых и важных дел…
– Да, мои хорошие, русский им нужен теперь, а вот раньше рядом никого, кто бы научил ему, не было! – кричала я.
А дочь закричала в ответ, что ей СКУЧНО делать тупые задания, скучно читать дурацкие книжки, которые я с умным видом кладу ей на стол, что моя привычка поправлять ее катастрофы (так и сказала) в устном языке давно уже переросла в невротический тик, что я старая, вздорная, занудная женщина, помешанная на своих учебниках, тетрадках, на своих вонючих уроках.
Я почувствовала, что…
* * *
Тридцать минут в ванной комнате с коробкой бумажных носовых платков в обнимку лучше пропустить.
* * *
Через тридцать минут старая, занудная, вздорная женщина вышла навстречу дому, где ждали еще разные хозяйственные дела, стирка, готовка, уборка, где ждало много чего, но все-таки в первую очередь ждали дети. В тот вечер я впервые услышала, как мы общаемся: за столом, в детской, над письменным столом, я вдруг услышала их – два прозрачных потока милой семейной болтовни, на русском и на французском, которые текли себе бок о бок, но никак не пересекались.
За столом мы все говорили быстро и много, а чтобы так говорить, дети чаще всего седлали самое легкое средство общения – доминантный язык, на котором ехало все: соседи и друзья, школа, звонки приятелям, дни рождения и праздники, любимые мультфильмы, комиксы, видеоигры – в общем, мы везем с собой кота, чижика, собаку…
– А мы пойдем в опера? – вертелся за столом Сережа, услышав по радио кусочек арии, который ему особенно нравился. – А когда мы пойдем в опера? Когда, папа?
– В оперу, Сережа, – аккуратно поправила я. Эффекта не последовало.
– В опера – без меня, – сказала Катя и зевнула. – Я один раз еле-еле выдержала, три часа, был там какой-то принц Грегор…
– Князь Игорь, – сказала я.
– Ну так это одно и то же. Зачем только ты меня туда водила, маман, я была еще меньше Сережи – и ничего не поняла!
Я промолчала. Сережа не унимался:
– Нет, а мы в опера пойдем, пойдем, пойдем!!!
– Что ты хочешь увидеть, Сережа?
– Мозара!
– Моцарта?
– Моцарта! Опера Моцарта! – довольно отозвался он.
– А какая твоя любимая? – спросила я.
– Эта… «Магическая флюта».
– «Волшебная флейта», Сережа, – автоматически поправила я.
– Ну, ведь есть «магический»? Почему же тогда нельзя для флейты сказать магический? – упрямо вставила Катя. – И вообще, по-французски «La flute enchantée». Да, Сереж?..
Соотношение французского и русского языков в их речи наконец-то поразило меня. И я впервые поняла, как уверенно и привычно они говорят по-французски между собой.
Я решила, что нужно просто продолжать делать свое дело.
Но как вам передать, какое чувство беспомощности, какое бессилие находило на меня, как только я встречала ее взгляд, полный отвращения и неведения, с которым она смотрела на светлую страницу тетради по русскому языку, домашней веселой тетради – обложка с пингвинами, сто страниц на пружинках, – которую я с такой радостью выбрала для нее в канцтоварах этим летом.
Корчак говорил: не ругай себя за то, что не можешь сделать. Ругай, когда можешь, а не делаешь.
И я знала, что должна что-то сделать, потому что могу.
Но не знала что.
* * *
А потом произошло чудо.
Чудо, потому что случилось это как-то само собой.
Я просто чувствовала, что это может произойти, и тянула туда изо всех сил всё, что знала и умела.
Я перестала исправлять устные ошибки детей. Я стала их слушать – активно. Я, как мсье Журдан, сама о том не зная, заговорила прозой: я нечаянно обнаружила, что говорить правильно – это самый забавный метод исправления чужих ляпов.
Способ прост, как яйцо: ошибка другого игнорируется, но ты сразу же повторяешь правильный вариант, чуть видоизменяя фразу.
– И куда он так бегает? – смотрит Катя в окно на сердитого дядечку в зеленом шарфе, который, толкая прохожих, целеустремленно семенит к светофору, закинув рюкзак на плечо.
– Я не знаю, куда он бежит, думаю, что боится опоздать на работу, – осторожно говорю я.
– Да, видимо, сильно боится, раз так бежит, – задумчиво повторяет дочь.
Я поняла, что лучше всего Катя делает творческие задания, вроде нарисуй пару рисунков к тексту, допиши историю. Дала ей кусочек из «Детства Никиты», попросила придумать, что будет дальше.
Когда я почитала написанное, то поняла, что она давно переросла уровень своего учебника – не по уровню грамматики, а по… жизненным интересам, что ли. Я стала осторожно, по чайной ложке, давать ей страницы Тургенева, Толстого, Шмелева, Чехова в оригинале. Я просила выписывать только незнакомые слова. Она, конечно, с ленцой выполняла и это задание – она думала, с дурацким подростковым апломбом, что знает гораздо больше, чем знала на самом деле… Но все же, все же! Стала читать с интересом, пусть даже, возможно, понимая часть истории по-своему. Из неохотно переписанных слов мы разбирали, может быть, пятую часть – перед сном, невзначай, играючи… Ну, скажем, почему говорится «миндальничать» и «паче чаяния», и что значит «изморозь», и в какой момент человек может «опростоволоситься», и как сказать по-другому «в огороде бузина, а в Киеве дядька»? И это дало свои плоды – но не сразу, о нет, не сразу.
Полгода или около того в моем домашнем русском не происходило ничего. Вернее, я ничего не видела, и в детской речи не было никаких перемен, никто со мной по-русски больше, чем раньше, не говорил. А потом – полезли русские фразы, распустились подснежники, и вот я уже застала баталию подушками, где Катя теснила Сережу и приговаривала:
– А вот сейчас как стукну! Мало не покажется!
И Сережа кричал:
– Вредная Лелища! Это я стукну!
– Хватит! – разняла их я. – Прекратите. Ты не можешь звать Катю Лелищей. Это у Зощенко так написано, потому что его сестра на самом деле – Леля.
– Катища! – радостно крикнул Сережа.
– Ах ты букашка! – закричала Катя. – Таракан!
– Ну, ну… – сказала я.
А у самой рот – до ушей. Посмотрела в зеркало – счастливый папа Карло. Здесь, в этой комнате, без взрослых, учебников и надзора, – здесь, на их территории, дети говорили на моем языке.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































