Текст книги "Уроки русского"
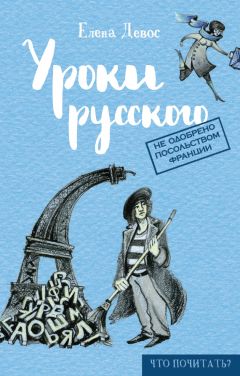
Автор книги: Елена Девос
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
Семь раз.
Por una cabesa
Как-то раз, в конце апреля, после очередного урока недалеко от Ла Дефанс, терзаемая диким отитом и горячей болью в проперченном ангиной горле, я мечтала только об одном – чашке черного чая с молоком.
А самый лучший чай с молоком готовили в «Старбаксе», в большом торговом центре на La Defense, на третьем этаже около кинотеатра. Славное место: терраса, мрамор, стеклянные двери, плюшевые кресла.
Солнце в тот день оживило мраморный пол до зеркальной глубины. И я вдруг заметила, что там отражается какая-то своя жизнь, в которой разновозрастные и по-разному одетые люди живут тем не менее в унисон, под одну мелодию, и, похоже, счастливы, и, похоже, очень.
Мимо них шли на ланч бизнесмены в галстуках, семенили продавщицы, торопливо доедая рассыпающиеся в руках сэндвичи, рядом командированные пираты – галстук набекрень – катили свои сундуки на колесиках в ближайшие отели, а поодаль загорелые гламурные консультанты вальяжно пили кофе в тех самых плюшевых креслах.
Но эти странные люди на мраморной площадке не продавали, не покупали, не стояли в очереди, не обедали. Они танцевали. И больше их не интересовало ничего.
Мучительно знакомый ритм… Спроси вас, и вы тоже видели, ну уж точно слышали, но вот где?
Я еще не знала тогда, что «Cumparcita» – это самое известное аргентинское танго в мире. Я просто замедлила шаг, потом остановилась и закрыла глаза. Музыка сделала все остальное. За один взмах ресниц черная Венера сошла с пьедестала, ожила и воплотилась из музыки и слов, и я спросила, глядя на нее с изумлением, случайный ли это концерт.
– Нет, – улыбнулась она нежно, и точно китайский колокольчик лизнул мои воспаленные уши, – здесь каждый день танцуют в полдень, но танго только по пятницам, так что приходите, если любите.
«Что именно любите?» – хотела спросить я, но тут ее пригласило нечто в джинсах и небритое, и добавить бы еще что-нибудь, но у памяти ломается хрупкий карандаш, а Венера, плавным жестом заводя свою тонкую бемольную руку на мужское плечо, улыбается мне на прощание, поворачивает голову в сторону моря и скользит прочь.
* * *
В следующую пятницу, за десять минут до начала музыки, я пришла – в полной, по моему разумению, готовности к тому, чтобы сделать первый шаг по направлению к танго.
Готовность выражалась в том, что я надела туфли на каблуках и заколола волосы повыше, чтоб не мешали, если партнер начнет меня крутить (со стороны очень впечатляет) и откидывать назад (впечатляет еще больше, но страшно – как они оба не падают?). Я умирала от любопытства, на что это будет похоже, и страха, что меня никто не пригласит.
Только-только закончилась третья кортина: кусочек пестрой, инородной музыки, когда танцоры отдыхают, перекидываются приветствиями и меняют партнеров. Диджей сменил диск. В динамиках зарыдал Гардель.
– Вот этот танцует хорошо, и тот, справа, тоже… Этот скажет тебе, что ты не умеешь танцевать, он всем так говорит. Этот потеет так, что лучше до него не дотрагиваться. А вот обалденный танцор, но он никогда не приглашает дебютанток… – говорила она, мой темнокожий Вергилий, в этом полнозвучном танговом аду.
На сей раз она явилась в джинсах, что мне было немного странно, и, более того, в кедах. Впрочем, я увидела, как она опустила на мраморный пол шелковую серую сумочку, на которой было мелко набрано серебром: Buenos Aires Authentic Tango Shoes. Затем Венера присела на корточки, шнурки на ее кедах моментально развязались и, как зеленые гусеницы, расползлись по земле.
За минуту моя знакомая переобулась в очень простенькие с виду туфли на тонких черных иглах – назвать их каблуками язык не поворачивался. И подошва у простеньких была подозрительно шелковистая, и серебряные пряжки защелкнулись так быстро, и перламутровые ремешки так ладно обхватили ее тонкую черную щиколотку, что все это дело было ближе к меркуриевым сандалиям, чем к обычной обуви, и соответствовало именно тому, что девушку сюда и привело, то есть танго. И я вдруг увидела, что у меня не каблуки, а так, кочерыжки… И ремешков нет, и подошва не скользит…
Но было уже поздно. Справа появился невысокий плечистый парень с удивительно живыми черными глазами и сказал:
– Хочешь потанцевать?
И я, проглотив что-то большое и твердое, застрявшее в горле, как таблетка валидола, сказала правду:
– Очень хочу.
И он улыбнулся, посмотрев на мои туфли, и задал правильный вопрос:
– А ты умеешь?
И я сказала:
– Я не знаю, это первый раз в моей жизни.
– Ну, давай попробуем. – И тут он поднял левую руку ладонью вверх, точно ожидая, что туда упадет яблоко.
И туда, на эту теплую живую клепсидру, и опустилась моя правая рука. Моя левая рука уже без всякой подсказки нашла его правое плечо. А дальше для всех остальных, так называемых окружающих, наше движение прекратилось, и для мира снаружи мы почти застыли на месте.
Но мы все-таки танцевали, только где-то там, внутри, на уровне музыки, и никто этого не видел – никто, кроме нас, разумеется. А мы видели и слышали все. И все начиналось с другого человека в твоих объятиях. Потому что главная заповедь танго – слушать другого. Оказалось, что для этого не надо было маршировать, отматывать круги по танцзалу, даже говорить – для этого нужно было всего лишь обнять, но обнять правильно, следуя притяжению звуков и земли. Обнять не мужчину, не женщину, обнять не для флирта, эстрогенов и тестостеронов. Обнять партнера в танце.
– Для первого раза очень даже ничего, – одобрительно кивнул он, когда музыка растаяла в воздухе. – Только купи себе приличные туфли, найди учителя и начни брать уроки. Я бы взял тебя, но у меня уже класс под завязку, и год учебный почти прошел…
– Понятно, – ответила я.
Мы так мало сказали друг другу, что он даже не услышал моего русского акцента. И похоже, он единственный из всех моих учеников – забегу вперед, – кто сначала даже не понял, что я русская.
Скажу честно, мне было не до уроков танго, и над его мудрыми словами я тогда не задумалась. Я купила туфли, проверила, где еще идут милонги, и решила, что как-нибудь, тихой сапой, выучусь понемногу сама по себе искусству счастья на каблуках.
И сходила на полуденные танцы еще пару раз…
И пару раз на вечерние.
И вот тогда…
Тогда я с ужасом поняла, как по-разному танцуют люди. Я увидела, что есть жестокие профессионалы и боязливые новички. Я услышала, как некоторые из них смеются и откровенно издеваются над ошибками женщин, я встретила многих учителей – трое из них дали мне три совершенно разных урока, после которых у меня только одинаково болела голова.
И потому-то месяц спустя, только завидев знакомую белую рубашку, я пробралась через лес других плеч и торсов, поймала его за рукав, заглянула в живые черные глаза и спросила, не сможет ли он провести, в виде исключения, пять-шесть уроков, ну, пожалуйста. Или он, или никто. «Как пела Мэрилин Монро», – уточнила я, чтобы он не очень испугался.
Он улыбнулся, развел руками:
– Понимаешь, времени нет совсем… У меня тут еще один проект… Пойдем поговорим.
Он вздохнул мечтательно, носки его туфель покрывал тальк, он только что оттанцевал свою десятую милонгу – блаженство полное.
Мы вышли из игры – за стеклянные двери, на тротуар. Занимательная партия на мраморной доске шла теперь без нас, фигуры двигались по кругу, и Сезария Эвора просила о чем-то мягко, вполголоса, но так, что мой будущий учитель сдался.
– Хорошо, – вздохнул он, – но вот условия: приходишь в мой класс в восемь двадцать, на сорок минут, два раза в неделю. Пока учишься, на практики не ходи. На милонги тоже не ходи, только если туда иду я. Времени мало, но давай сконцентрируемся на золотых основах… Тогда танцевать с тобой точно будет легко. И смеяться никто не будет. Я надеюсь, до июля мы успеем. А там я еду в Россию.
– Что?! – воскликнула я.
– Да… – кивнул он, еще не зная, чему я удивилась. – В этом-то все и дело. На мастер-классах в Москве буду работать четыре месяца. Вот сейчас надо русский учить, а как это сделать, ума не приложу…
Тут он снова вздохнул и провел рукой по темным, коротко стриженным волосам, там, где они курчавились на чуть вспотевшем затылке.
– Ты знаешь, – сказала я, – я, наверное, тоже могу тебя научить золотым основам. Кое-каким. Не всему, но смеяться никто не будет. Я учитель русского языка.
– Вот это да! – опешил он.
Бумага чернил не боится
Вероника, еще в марте проклинавшая систему трудоустройства во Франции, в мае была извещена о согласии АССЕДИК (центра помощи безработным или недовольным своей работой французам) на ее дерзкий проект по смене профессии. Так Вероника стала превращаться из незаметной сотрудницы одного из бесчисленных офисов мобильной связи в учителя музыки. Согласие АССЕДИК означало, что Вероника получает свою обычную зарплату, но на работу теперь не ходит, а каждое утро трусит в консерваторию – брать уроки сольфеджио и хорового пения.
Вероника всегда хотела учить музыке детей, но это было несерьезно, а ужасная система трудоустройства во Франции вдруг превратила несерьезное желание мечтательной тридцатилетней парижанки в три года счастья.
Что будет дальше, пугало Веронику.
– Уж не знаю, как и устроюсь потом, – вздыхала она, – ночей не спала, собирала это досье, ты знаешь, сколько бумажек надо было подшить! Школу найти, учителей! Три экзамена сдать! Рекомендации собрать! А теперь… Понимаешь, интерес к музыке неуклонно падает. Падает!!! Из общеобязательных предметов ее скоро исключат. И вот люди вокруг говорят, что в цирке больше вакансий…
– Ты и в цирке смогла бы, – искренне сказала я, – но знаешь, доучись в консерватории сначала, а потом увидишь.
– Я лошадей люблю, – невозмутимо ответила Вероника. – Но с лошадьми не разучишь песни хором. Я думаю, уж возьмут меня куда-нибудь, хотя бы в частную школу…
Пела она очень недурно, а на гитаре играла еще лучше. Я бы никогда не узнала об этом, если бы не Клуб американских женщин и жен граждан США, в который музыкальная Вероника меня и пригласила как-то майским утром.
При том, что ни американкой, ни тем паче женой гражданина США Вероника не была, в упомянутом клубе она верховодила весьма активно и даже время от времени собирала на квартире своей тети-художницы собрания КАЖЖгСША – так милые женщины попытались упростить название своей организации в письмах и мейлах.
Упрощение, понятное дело, привело только к тому, что никто не мог его произнести. Поэтому француженки обычно говорили, что идут «к американкам на чай», а самим американкам некогда было разговаривать – они сосредоточенно разливали лимонад, выжимали сок, нарезали фрукты и раскладывали на вавилонские башни подносов уйму кексов и пирожных, которые каждый член клуба испекал собственноручно.
Темы докладов КАЖЖгСША обычно собирали толпы феминисток и защитников природы, но все-таки не в последнюю очередь дамы шли туда, чтобы посмотреть на место встречи и сервировку стола – они того стоили.
Бывает, что избыток красоты вызывает в сердце почти болевое ощущение – вроде того, что описано в синдроме Стендаля, но там, кажется, предусмотрены еще дрожь и обморок. До обморока у меня в то утро не дошло, но открыть кованые ворота, которые были аккуратно вшиты в кружево чугунной ограды, я все же не смогла без помощи той же Вероники – внезапная слабость от увиденной красоты лишила меня сил.
За оградой начинался частный сад – огромный для восьмого округа сад, с яблонями, терновником и мраморными богинями, совсем беззащитными среди яркой зелени лужайки и зарослей чайных роз около крыльца. Особняк рядом с богинями казался не белым, а сероватым и был похож на скалу, на которой почему-то нарисовали окна, а в них – людей, цветы, люстры и клетку с попугаем.
По северной прохладной стене плющ карабкался к маленькому балкону, на котором, судя по высокому птичьему щебету голосов и звону чего-то стеклянного и медного, вовсю шло приготовление к началу ученых дамских бесед.
Внутри в чопорную раму интерьера были аккуратно вписаны картины и канделябры, рояль и грубая африканская циновка на стене, огромный ковер в салоне и букет махровых красно-белых тюльпанов на эбеновом столе – словом, всему было найдено свое место.
Когда все наговорились и лектор закончила громкую презентацию своей книги «Американские школы в Париже и Иль-де-Франс», Вероника заняла место лектора, уселась на стул, обняла гитару и запела.
Прекратился говор ложек, затихла женская речь, осталось в воздухе только немного шершавое сопрано и уверенные басы гитары, и мне стало ясно, что у Вероники сегодня удачный день, очень удачный день, и в американской школе ей, вполне возможно, тоже найдется место.
Опомнилась я на пресловутом балкончике, где хоть какая-то тень беспорядка – кофейная клякса на шахматном столе, запотевшие очки одной из слушательниц (она выползла из кухни, где помогала выпекать очередную партию блинчиков) – привела меня в чувство.
– Мило, правда? – спросила она по-французски, сняла очки и улыбнулась, как только близорукие улыбаются в этот момент – быстро и доверчиво.
Потом, протерев стекла краешком клетчатой длинной юбки, опять водрузила их себе на курносый нос. На щеке у нее была родинка, губы она красила типично американской киноварью, а глаза подводила под цвет шоколадно-рыжей радужки мягким диоровским карандашом.
Джессика приехала в Париж из штата Миннесота двенадцать лет тому назад. История началась с лекций по французской литературе в Сорбонне, на которые Джессика ходила в течение года, а закончилась тем, что она вышла замуж за машиниста скорого поезда TGV (тут мне быстро была показана фотография – милого, чернобрового, немного снулого парижанина), который жил в основном между Парижем и Авиньоном, так как именно по этому маршруту он и гонял свои блестящие пассажирские составы.
Джессика показалась мне успешным гибридом французской и американской культуры: любила буйабес, пекла сногсшибательный творожный чизкейк и каждое лето ездила в Калифорнию к двоюродной бабушке. Язык своей новой родины она знала хорошо, у нее был этот особенный американский акцент, о котором французы отзываются «шарман» – ну, более или менее «шарман» акцент был у всех присутствующих. Неудивительно, что мы даже не пытались говорить по-русски, пока речь не зашла о моих далеких школьных каникулах в Феодосии.
Тут поток французского прекратился, и Джессика просияла:
– А ты была в Одессе?
* * *
В Одессе Джессика прожила год, поехала туда сразу после трех курсов университета, работать учительницей английского в спецшколе. Жила в украинской семье – вернее, для нее это была просто родная семья (Джессике очень нравился эпитет «родной», с которым она в одесские годы и познакомилась): бабушка еврейка, дедушка украинец, их дочь Лера родила дочку от москвича и недавно вышла за грека, а сын женат на армянке и собирается, но пока не может уехать в Израиль.
Все они обитали вместе, на одном этаже удивительного дома, который вроде бы давно уже решили снести, но все никак не сносили. Окна выходили в полукруглый, заросший акацией и бересклетом двор, где рядышком болтались на бельевой веревке спортивные костюмы и кружевное белье самого разного калибра, где кошки охотились на безмозглых горлинок и по вечерам курил на скамейке трубочку инвалид, одноногий Матвей Михалыч. Как уже сказано, результатом любви Леры к москвичу стала Даша, длинноногая пава пятнадцати лет, она ходила в ту самую школу, где Джессика работала. Джессику научили в Одессе практически всему: варить борщ, тушить синенькие, ругаться непечатными словами, загорать на крыше, обливаясь водой из садовой лейки, покупать черешню на базаре, кормить дельфинов и верить в любовь.
* * *
Любовь нахлынула на Джессику одновременно с тугой волной в закрытом на выходной дельфинарии, где Лера, выпускница биофака, показала ей место своей новой работы, искупала ее в бассейне с дельфинами и познакомила с Игорем. В дельфинарий Игорь приехал тем летом из Питера, чтобы изучать поведение тихоокеанских дельфинов, афалин, в неволе. Зимой он собирался защищать диссертацию на более скучную тему, что-то там о непредельных… полиненасыщенных… Джессика вздохнула. Да что теперь вспоминать… как переехала в Питер и писала, помогая Игорю, названия этих карбоновых кислот на гладком ватмане, формат А3, цветной тушью в полутемной спальне с оранжевой ночной лампой… Как темно и ветрено было на берегах Невы зимой, какой длинной и жаркой оказалась та пневмония, что свалила ее с ног в начале марта. Что вспоминать…
Уехали они из Питера, прожив там полтора года, уже мужем и женой, уехали в Миннесоту – отец Джессики готов был взять Игоря к себе в университетскую лабораторию, а сама Джессика, признаться, беззаветно верила в американскую медицину – американская медицина, говорила ей мама, любую женщину может сделать беременной. Медицина, наверное, и смогла бы, но только Игорь сразу засел за докторскую, разослал свои резюме по всем штатам и получил немыслимое предложение от одного из университетов в Мэриленде. Поехал туда один, писал ей письма какое-то время. Какое-то время не писал. Потом позвонил и сказал, что, Джеся, понимаешь, какие дела… Встретил студентку, и, наверное, это серьезно. Хорошо, что у нас нет детей, сказал он.
– Вот как можно так?.. – Она проводила бабочку, взлетевшую к нам на окно, длинным, темным взглядом и покачала головой. – Хорошо, что нет детей. Не то что сказать, а подумать так?
Я была уверена, что мы сейчас перейдем на другой язык, что ей будет больно бередить свою жизнь по-русски. А она вдруг стала обсуждать со мной возможность уроков русского и сказала, что готова встречаться два раза в неделю в Люксембургском саду.
– Ты же прекрасно говоришь, зачем тебе?! – воскликнула я. – Купи учебник…
– Мне нужно не просто говорить, – ответила Джессика, – я должна написать об этом историю. Понимаешь?
Я растерялась и кивнула в ответ.
Джессика, ободренная этим, продолжила:
– Взяла и пошла на курсы «Как стать писателем». Вообще, я, знаешь, исключение из правил, меня так и звали в доме. Сама посуди: папа – химик, мама – пианистка, а я, четвертый ребенок из пяти, ни в химии, ни в музыке ни в зуб ногой… Не знаю почему. Честное слово, я хотела! Но, может быть, потому что братья и сестры все схватывали легче, чем я… Мне было стыдно показать, что я хуже, чем они. Уж лучше не открывать учебник совсем, говорила я себе, будет хоть какое-то оправдание, вроде как будет двойка, потому что ты просто не учил, а не потому что тупой…
Я завороженно молчала.
– Зато сочинения, – она удивленно развела руками, – только давай! Маму даже в школу вызывали: мол, у Джессики проблемы с литературой. Мама заходит в класс, не знает, что и думать, а моя учительница ей и говорит: «У девочки буйная фантазия, каждый раз изводит бумагу не по теме… Вы ее сводите к психологу».
– И сколько ты уже изучаешь, – робко спросила я, – как стать писателем?
– Два месяца! – радостно ответила Джессика. – Есть такие курсы для англоязычных, недалеко от улицы Кота-Рыболова. Учитель – американец, странный немножко, так что в классе я молчу как рыба… но знаешь, когда я домой прихожу и пишу, мне так хорошо. Жить сразу легче.
«Интересно», – подумала я, глядя на беспечную, румяную, вполне счастливую с виду Джессику. Но сказала только:
– Ну, так когда начнем?
– Давай утром во вторник, – ответила она.
* * *
И так начались наши утренние прогулки по Люксембургскому саду, еще свободному от туристов и попрошаек, прохладному и полусонному точно пустой школьный класс.
Я было распечатала для наших бесед пару злободневных статей из российской прессы, но потом махнула рукой – Джессика не прикасалась к ним, если у нее были свои, личные, темы для разговора, а они у нее были всегда.
Помахивая ежедневником, точно отмеряя длину своего короткого упругого шага, иногда останавливаясь около статуи какой-нибудь королевы Матильды или святой Женевьевы с голубем на голове, иногда потянув ноздрями дымок от подгоревших каштанов, Джессика излагала мне свои мысли о семье и браке. Излагала к тому же не просто так, а напирая на трагическую несхожесть России и Франции в этих вопросах (про Америку она почему-то вообще не говорила, Америка для нее была безнадежна по умолчанию). Впрочем, представительницам прекрасного пола, начиная с Груши и заканчивая Джессикой, похоже, не терпелось поделиться со мной своими идеями на этот счет.
По словам Джессики, выходило, что наша модель семьи изначально правильней и стабильнее французской: семья ставится в основу всего и не заканчивается на кособокой трапеции «муж – жена – двое детей», как во Франции, нет… в русской семье не менее важны бабушки, дедушки, братья, сестры, дяди и тети! Джессика, вообще не знавшая своих бабушек, была очарована дружбой, которую она увидела в Одессе между Дашей и Бусей («бабусей»), старшей женщиной в ее мифическом одесском доме. О том, во сколько у Даши будет свидание и когда она вернется домой, знала прежде всего Буся. Когда Буся готовила на семью еду, Даша сидела рядом с ней на кухне и болтала о самых разных людях и вещах, от американского актера Джона Траволты до последнего писка одесской моды – босоножек на платформе.
– И ведь это у вас так всегда! – Джессика даже не думала меня спрашивать, она просто констатировала факт.
– Ну… – вздохнула я, подумав, стоит ли взваливать себе на плечи миссию по разрушению идеалов. – «Всегда» – слово опасное. Бабушки и дедушки в России и во всем постсоветском пространстве, возможно, вовлечены в семейную жизнь гораздо серьезней, чем здесь, во Франции, спору нет. У нас бабушки многократно предложат тебе свою помощь в воспитании внуков, будут готовы забирать их на лето, жить с ними на даче, ходить с ними в школу, учить с ними уроки… а потом скажут тебе, что ты не умеешь их воспитывать… что если бы не они… Да… – И я задумалась, вспомнив тетю Люсю.
– С тобой все в порядке? – удивленно спросила Джессика.
– Абсолютно, – сказала я. – О чем я говорила… Да. Ты не забудь, что порой этот симбиоз был и бывает мерой вынужденной, когда люди все живут в одной квартире просто потому, что не могут себе позволить жить отдельно… А что из этого получается? Ссоры, дрязги, разводы, даже преступления… Другое дело, что самостоятельно не должно означать «безразлично». Здесь, как и во всем, должна быть определенная мера… «Меру надо знать», – мудро предупреждает русская поговорка. Вот она и будет идеалом семейной гармонии. И Франция к этому идеалу, возможно, ближе…
– Неправда, во Франции они все друг другу чужие, – вдруг решительно сказала Джессика. – Живут, друг друга не видят, о чем говорить с родителями – не знают… И вообще. Ты посмотри на их дома для пенсионеров! В Одессе мне говорили, что сдать родителя в дом престарелых – позор. А французы этим гордятся, как будто отправили своего старичка на курорт.
Джессика во многом была права, но почему-то опять, как в учебнике по грамматике, мне хотелось скорее закрыть страницу с общим правилом и сунуть нос в исключения, ведь и сама Джеся, по ее собственным словам, именно им и была. И мне только милее стала история врача Жака, который говорил, что его мама практически не живет дома, а делит свою жизнь между четырьмя детьми: весной живет у одного, летом – у другого, осенью приезжает к третьей, и у каждого бывает желанной гостьей, и помогает каждому – воспитывать детей, следить за садом и даже стричь овец. «Она забронирована на месяцы вперед, как дипломат какой-нибудь, – сообщил мне Жак. – Я, наверное, встречусь с ней только в Рождество, потому что я холост и практически без дома, так что, соответственно, честь увидеть маму мне может достаться только на общем семейном обеде…»
– Семейные обеды – это русская традиция! – убежденно ответила Джессика. – Франция понятия не имеет, что это такое.
– О чем ты говоришь, ты же знаешь, что такое французское Рождество, – возмутилась я.
Тут Джессика пошла в наступление и сказала, что свекор со свекровью, французы из Бургундии, у нее и так непростые люди, а в Рождество особенно. Они с мужем приехали пару раз к ним на 25 декабря, и Джессика решила, что этого ей вполне достаточно.
– Это не обед, понимаешь, – с ужасом сказала она, – это марафон. Общение отсутствует. Десять часов подряд люди говорят только о еде, о том, что они ели и пили, и что они будут есть и пить, и что у них самая лучшая кухня в мире. Мое мнение отрицается в принципе. Если они что-то предлагают, я обязана это есть. Я не хочу это есть! Устрицы эти мокрые! Требуху в мадере! Белые грибы в каком-то соусе… Рассказали, как собирали, как варили, и накладывают мне. Я отказалась – Винсент затолкал меня под столом ногой, чтоб я молчала, а я взяла и еще раз отказалась, мне было наплевать, что они подумают: я грибы терпеть не могу! Сказала, что у меня на все аллергия.
– Просто «Москва слезам не верит», – проговорила я.
– Это что? – удивилась Джессика.
– А это фильм такой, там тоже про обед есть история… я тебе принесу. С мужем посмотрите… Хотя, наверное, муж у тебя по-русски не говорит?
Она вздохнула:
– Я говорю по-русски и по-французски. А у них в семье по-английски никто… И все это время они жалеют, что он связал судьбу с бескультурной американкой. Когда он позвонил домой и сообщил, что мы подали документы в мэрию, они ответили: «Ну имейте в виду, мы все равно на свадьбу не приедем». И удивляются, как мы до сих пор вместе живем…
– А как вы живете? – спросила я и, опомнившись, прикусила язык.
– Мы? – тихо переспросила Джессика. – Живем. Он тоже белые грибы не любит.
* * *
Поскольку Джессика собиралась через месяц наведаться в гости к московской подруге, а Квентин впал в ступор при виде своей анкеты для российской визы, в посольство мы собрались втроем – я решила помочь им заполнить бумажки, а заодно и разузнать, что мне нужно будет сделать, чтобы получить для Кати новый загранпаспорт.
Так они и встретились.
Джессика никакого понятия не имела об аргентинском танго, но два часа в российском посольстве, пока они мотались из одной очереди в другую, были тем минимумом, который требовался Квентину чтобы провести краткий экскурс в историю танца и получить еще одну ученицу на свой мастер-класс в Москве. И вообще, покидая посольство с заветным квиточком на будущую визу в руках, Джессика, похоже, больше радовалась тому, что познакомилась с курчавым тангеро, чем тому, что у нее приняли документы. У Квентина надежды на визу было меньше – факс, который отправила ему приглашающая сторона, не подошел ворчливой тете в окошечке номер шесть, она отправила его в номер три, а номер три открывался только завтра утром.
– Значит, до завтра? – спросил меня Квентин по-русски.
– Хорошо говоришь! – моментально ответила Джессика. – Давно учишь?
* * *
При том, что танцевал он великолепно, Квентин постоянно делал на уроках русского ошибки именно в том, что касалось пространства и движения. Впрочем, возможно, это и был его своеобразный ответ, переходящий в протест, – ответ профессионала на то, как эти пространство и движение были организованы в другом языке.
Ведь, как это ни странно, ошибка рождается не оттого, что ученик не следует логике. Наоборот, он старается следовать логике – той логике, которую уже знает. Чаще всего ошибка – это аккуратное, упорное, самозабвенное следование уже усвоенному правилу, где А=Б, Б=С, значит А=С.
И возможно, оттого Квентин говорил: «Цветок сидит на окне». Потому что цветок напоминал ему сидящего человека или кота, и если кот сидит на окне, значит, и цветок тоже. Для него было естественно сказать: «Кровать лежит в спальне». Ведь речь шла о чем-то, расположенном скорее горизонтально, чем вертикально, значит, кровать стоять не может!
Я имела неосторожность открыть с ним глаголы движения чуть раньше, чем следует, и мы пережили трудный момент, когда идти в русском языке привело нас к ходить и пойти. Квентин узнал, что ребенок ходит, если мы хотим подчеркнуть, что до этого он вообще только ползал, а человек идет на работу, если мы его видим и просто хотим описать момент, когда человек идет на работу. Но при этом человек ходит на работу мы скажем, если он это делает каждый день. Я ходил на работу будет почему-то означать, что я был на работе и вернулся обратно, а я пошел на работу – что я ушел из дома с намерением идти на работу, но никто никогда не узнает – без соответствующего контекста, – на работу ли я пришел. При этом, разумеется, есть глаголы вернуться и уйти, но они не настолько удобны, как пойти и идти в ежедневном, даже ежечасном употреблении. Я иду – это фраза, которую русский скажет человеку, который его зовет к себе, а я пошел – тому, кто остается там, откуда русский уходит.
– Если вы, русские, так думаете о движении, то вообще непонятно, откуда у вас взялась знаменитая на весь мир школа классического танца – у вас все время должно уходить на то, чтобы объяснить ученику, как и куда шагать, идти и ехать. Вот как знать, когда я ЕДУ, а когда – ИДУ?! – отчаялся Квентин.
– Едут всегда только на чем-нибудь. На лошади или на колесах, – уточнила я.
– А на коньках? – озабоченно спросил он.
– А на коньках катаются, – вздохнула я.
И тут он почему-то обрадовался и сказал, что первый глагол, который ему надо будет запомнить, – это кататься на коньках. Чтобы потом объяснять ученикам на своем мастер-классе в Москве, что он от них требует. Потому что, видите ли, танго – это фигурное катание, не отрывая носка, по теплому льду танцпола. Когда вы танцуете танго, у вас всегда одна нога скользит, а другая нога – опорная. Строго говоря, вы никогда не стоите на двух ногах – это совершенно точно касается танцовщицы, то есть ведомой в танце. У того, кто ведет, немного другие правила, но закон скольжения для всех непреложен.
* * *
Квентин вырос в пригороде, где летние воскресенья люди проводили у реки, и на берегу этой реки был сквер, и в сквере танцевал отец. Ему казалось, что отец всегда танцевал лучше всех – на вечеринках, семейных праздниках, в этом сквере на маленькой мраморной площадке по воскресеньям.
Квентин видел, что девушки приглашают отца, а мама смеялась, что мужу даже не нужно утруждаться – дама сама подойдет. Мама сидела на скамейке под старой магнолией, вязала или вышивала что-нибудь, улыбалась и смотрела на отца. Он выходил на фокстрот с блондинкой в синем, и высокая мулатка отплясывала с ним ча-ча-ча, и была одна, рыжеволосая, которой он всегда целовал руку после вальса. Мама, возможно, танцевала бы лучше всех этих женщин, вместе взятых, но полиомиелит, который она перенесла в семь лет, оставил ее хромой на всю жизнь, так что свадебного танца у них не было. Отец вообще, когда они поженились, сказал, что больше танцевать не будет. «Не говори так, – серьезно ответила мама. – Я люблю тебя, понимаешь? И я вижу: когда ты танцуешь, тебе очень, очень, очень хорошо. Ты счастлив. А любить того, кто счастлив, всегда легче».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































