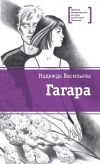Текст книги "Ведьмины круги (сборник)"

Автор книги: Елена Матвеева
Жанр: Детские приключения, Детские книги
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
Глава 34
МАМА
Время умеет сужаться и растягиваться. Мне показалось, что летние каникулы длились целую вечность. Я очень соскучился по дому, но понял это только сейчас. Мне очень хотелось посидеть с мамой на кухне, предвкушая встречу с Катькой. Казалось, электричка еле тянется, а от вокзала я почти бежал.
Вся наша лестница пропахла жареным мясом, и я бы очень разочаровался, если бы запах шел от соседей. Позвонив, приложил нос к дверной щели. Разумеется, готовка шла у нас! Мама меня ждала. Она тут же открыла и застыла на пороге с неопределенной улыбкой.
– Это ты?
– А ты кого-то другого ожидала увидеть? – спросил я язвительно.
Мы поцеловались, и она убежала в кухню. И только тут я сообразил, что на ней выходное платье, купленное еще при отце. В последнее время она надевала его только по торжественным дням в школу. Я прошел за ней. Стол застелен скатертью, в длинной вазе – бордовый гладиолус.
– Кто-то должен прийти?
Мать вытерла руки о передник, обняла меня и положила голову мне на грудь.
– Что происходит? Ты можешь сказать?
– У нас будет ребенок, – прошептала она мне в ухо и беззвучно засмеялась.
– В каком смысле? – изумился я. – Какой ребенок?
Я уже не понимал, смеется она или плачет. Я испугался, а она наконец сказала:
– Наш ребенок. Настичка нам родит.
– Господи, так что же ты плачешь?
– От радости и плачу. Она меня мамой называет.
– Настичка, что ли?
– Ну конечно.
– У тебя крыша поехала?
– Поехала, поехала. У нее нет матери. Она теперь ко мне все время приходит. Игорь наш, сам знаешь, человек хороший, положительный, но ласковости не хватает. Молчком всё, – сбивчиво говорила мама. – А Настя обещает, если мальчик родится, Сережей назовем, в честь нашего папы. Мы с ней к папе на кладбище ходили, я показала могилку Н. Ж., мы туда цветочки положили. Настя неглупая! – Мать почему-то погрозила мне пальцем. – Ты это учти! Она не ревнует к Люсе, но ей тоже нелегко. Игорь-то Люсю не забыл.
– Откуда ты знаешь?
– Настичка говорит. В свой день рождения, помнишь, он выпил? В кухне заперся. Утром он спал, а на столе – письмо. Люсе!
– И что в письме?!
– Сам понимаешь.
– И куда он его послал? – с подозрением спросил я.
– Куда ж он мог его послать? В пустоту. Порвал да выбросил.
– Откуда известно, что выбросил?
– Настя говорит. Порвал и выбросил в помойное ведро. Понял, что она прочла, и ни слова не сказал. И это не первое письмо. Она и раньше замечала, уж если он выпьет, то обязательно пишет эти письма. Ну, ладно о грустном. Игорь с Настей скоро придут. Ты умираешь с голоду? Ты ничего не сказал про тетку и телевизионный дом отдыха…
– Как я мог сказать? Ты же ни на минуту не умолкаешь!
– Ты рад, что у нас будет ребенок?
Конечно, я был рад, но пока не мог осознать этого. Теоретически – да. Я же понимал, что потери в жизни должны восполняться. Когда уходит что-то важное, на смену должно приходить другое. Пусть это будет Сереженька. И мама окажется пристроена – при любви. Честное слово, эгоистического облегчения у меня не было, я даже испытывал легкую грусть. Не помню, когда и как ушло мое детство, но по этому поводу я не грустил. Когда сам оторвался от маминой юбки – тоже не грустил. Но она оторвалась от меня только сейчас. Она выпустила меня на свободу. Я не испытывал от этого радости.
– Тебе Катюха звонила, и не раз.
– Кто? – не понял я.
– Катя Мелешко, – сказала она как ни в чем не бывало. – Она и в школу заходила, славненькая такая стала. Мне показалось, она похудела, постройнела, вытянулась…
Чудеса, да и только! Пока мать возилась на кухне, я умылся и позвонил Катерине. Только стал разбирать свою сумку – звонок в дверь.
– Ну, иди открывай, – сказала мать. – И поласковее с ней, я тебя очень прошу. Поласковее…
Посмотрел я на нее. Медленно развязывает передник. Полуседая. Глаза светлые-пресветлые, счастливые. Улыбается. И я пошел открывать дверь.

ВЕДЬМИНЫ КРУГИ
Повесть


Яркое солнце, и душно. Пыль в воздухе. Можно подумать – середина июля. А было уже тридцать первое августа. Воскресенье.
Окна и двери сельмага задвинуты железными рифлеными ставнями. Толпа у входа. Будто чуда ждут, сгрудились тесно под дверями.
Здесь я впервые увидел Динку. Нельзя сказать, что она мне сразу, с первого взгляда, так уж понравилась. Но я все время держал ее в поле зрения. Я и по шоссе погулял, и почитал на столбе приглашение сельского Дворца бракосочетания и объявление о продаже кирпича, дома с участком в десять соток и о новых кинофильмах. Потом сидел на задворках сельмага, где свалены ящики и бочки, смотрел, как из машины выгружают хлеб. Динка не уходила, как будто тоже ждала открытия магазина.
Мама не настаивала, чтобы я сюда тащился. Но у нее уборка, обед на плите, да и лак тяжелый. Ей кто-то сказал, что в сельмаге есть лак для полов. Мы живем на окраине, до сельмага – две автобусные остановки. В городе лака нет: все помешались на лаковых полах, а в селе, наверно, полы не лакируют.
В сельмаге лака тоже не оказалось. Был, да сплыл.
Пока я ждал открытия и болтался в магазине, кругом потемнело. Прямо на зеленую автобусную беседку ползла густая черно-синяя туча. Все притихло, только над магазином с криками носилась стая ворон. Урчало что-то в небесах затаенно и очень грозно. И уже было понятно: как хлынет сейчас, как ливанет!
В автобусной беседке я снова встретился с Динкой и рассмотрел ее.
Конечно, это была всего лишь дворняга. Возможно, какая-то помесь с лайкой. Хвост пушистый, бубликом. Окрас чепрачный: низ золотисто-рыжий, а по спине и по носу будто сажей кто мазнул. Морда понятливая, славная. Глаза большие, влажные, чуть навыкате и черным контуром обведены. А между бровей вертикальная складка.
Она подошла ко мне, но тут же удалилась, затрусила через шоссе к магазину, а с первыми каплями дождя вернулась. Как-то беспокойно себя вела: прохаживалась по беседке, садилась, ложилась и тут же вставала. Сначала я подумал, что ее тревожит надвигающаяся гроза, ведь животные очень чувствуют такие вещи и волнуются. Но потом заметил, что она следит за теми, кто выходит из автобуса. Может быть, хозяина потеряла?
Тут полило. Молнии раскалывали небо на куски. А я уже автобусов пять пропустил из-за Динки. Сначала просто наблюдал за ней, когда подумал о потерянном хозяине, а потом она показалась мне симпатичной. Даже очень. И я никак не мог понять: что ей надо, чего она мается?
Я тихонько свистнул, а когда она села рядом, положил руку на ее голову. Стерпела, не шелохнулась. Голова у нее теплая, шелковая, не круглая, на макушке – шишка. Она легла у моих ног, положив морду на лапы.
– Ты будешь моей собакой?
Она посмотрела на меня. В выражении глаз, во всей ее позе мне почудилось согласие и готовность.
Гром уже не гремел, но дождь не кончался, и стало очень прохладно. Я снова погладил ее угловатую черепушку и сказал:
– Идем.
Она пошла рядом, пристроившись у левой ноги.
Я сейчас же промок до трусов. Брючины отяжелели, липли к коленям и шлепали по щиколоткам. А физиономия сама по себе разъезжалась в улыбке. Собака тоже была грязная и мокрая, но бежала весело, не отставала, вперед не забегала, а если я останавливался – садилась.
Я не знал, как привести ее домой.
Я всегда хотел иметь собаку. В детстве мальчишки нагружали песком игрушечные грузовики и играли в войну, а я сидел на скамейке и держал на веревочке, будто на поводке, плюшевую собачку. Ее звали Динка, потому что так звали мою единственную знакомую собаку, старого спаниеля дяди Саши, моего соседа и тезки.
Спаниель, когда был молодым, ходил с дядей Сашей на охоту. Дядя Саша, когда был молодым, выучился на инженера. Дядя Саша советовал мне после школы поступать в ветеринарную академию, в Москву, и утверждал, что сам бы туда пошел, если бы жизнь начать сначала. Когда на прогулках со спаниелем мы останавливались, чтобы подождать его – он еле ноги волочил и не поспевал за нами, – дядя Саша говорил: «Старость не радость». Спаниель смотрел на мир усталыми, затравленными глазами, шерсть его напоминала паклю, а к весне на спине и ляжках появлялись авитаминозные раны.
Мама была недовольна, что я общаюсь с дядей Сашей. Из-за спаниеля. Она боялась, что я заражусь от собаки кожным заболеванием, и ни за что не хотела верить, что это не заразно.
Дядя Саша давал мне читать хорошие книги про животных. Он подарил мне Сетона-Томпсона, а позднее две книги Лоренца. Когда я кончал восьмой класс, весной, умер спаниель, а осенью, приехав из лагеря, я узнал, что не стало и дяди Саши. И тогда я понял, кем он был для меня. Со временем понял. В комнату дяди Саши въехали новые жильцы, а у меня в душе уголок, где он жил, «комната» его, так и осталась опечатанной. Никто туда не вселился.
Пока я помогал лечить спаниеля дяди Саши и смотрел с ним по телевизору «В мире животных», мама сражалась с грязью. Впрочем, с грязью она сражалась и в любое другое нерабочее время. Жили мы тогда в центре города, в двухэтажном деревянном доме. Полы здесь были старые, с большими щелями, и туда забивался песок. У нее невроз на почве чистоты и уюта.
Папа в бытовом отношении полностью зависит от мамы. Как известно из семейной истории, он только в тридцать пять лет научился ставить на газ чайник. В институте он заведует сектором, считается ценным специалистом и помнит все подробности, которые, наверно, и помнить не нужно. Если, например, ему с работы звонят домой по делу, он тут же начинает объяснять, в какой именно бумажке или программе все, что нужно, написано, и всякие-разные детали добавляет. Зато по утрам отец наивно спрашивает маму, не видела ли она его бритвенный прибор. А этот прибор лежит всегда в одном и том же месте, в ванной, на полочке. На работе отец – начальник, но дома он – подчиненный. Мамино слово – закон.
Конечно, о собаке у нас в семье и речи быть не могло – это негигиенично! Время от времени я упрашивал маму завести щенка и даже давал всякие обещания. Но что особенного может обещать пай-мальчик и отличник?
Собаку мама не хотела, кошек она терпеть не могла. А я бы и кошку завел. Птицы, говорила она, действуют ей на нервы щебетом и суетливостью. Ежика и черепаху тоже не разрешили держать. Мама предлагала заняться филателией и разведением кактусов. Однако в пятом классе я выпросил аквариум. Рыбами я занимаюсь до сих пор. А когда я буду совсем взрослым и буду жить один, то обязательно заведу собаку и кота и еще каких-нибудь зверюшек. Моим детям не придется сидеть во дворе с плюшевой собачкой на поводке и быть посмешищем в глазах ребят.
Бедная мама не догадывалась, что не лак для полов я ей несу. Я же удивлялся отчаянию и уверенности в себе. Сейчас у нас с мамой произойдет очень серьезный разговор. И победа будет за мной. Подбадривало и то, что отец в командировке – поддержки у мамы не будет.
Мы с Динкой миновали железнодорожную насыпь, которая перерезала шоссе и была границей города. Честно сказать, с приближением к дому настроение мое падало, уверенность таяла. А Динка продолжала послушно идти рядом, будто всегда была моей собакой. И я сказал ей, а больше – себе:
– Я тебя не брошу, не предам.
По лестнице я еле плелся. Мокрая одежда стала тяжелой, отвратительно липла к телу. Меня пробирала дрожь. Перед дверью я остановился, и Динка присела, выжидающе поглядывая на меня. Тогда я позвонил.
Многие, особенно пожилые, люди любят говорить: «В молодости моя мама была красавицей». И фотографии показывают. Посмотришь… Сказать нечего. Пусть так считают, если это их утешает.
Но моя мама объективно красива. И в юности была красива, и сейчас, и всегда будет видно, какой она была. Она и злая – красивая. Только голос делается тонким, глаза сужаются. Лицо становится недобрым. И это сочетание красоты и недоброты какое-то пугающее. Не нравится она мне такой.
Увидев меня с Динкой, мама на секунду опешила – не ожидала такой наглости. И сразу же все поняла. Реакция у нее моментальная: встала в дверях, глаза сузила и язвительно спросила:
– Надеюсь, попрощаетесь на лестнице?
– Это моя собака, она будет жить у нас, – выдавил я из себя.
Первая фраза далась с трудом, потом пошло легче.
Мама кричала. Шепотом. Чтобы соседи не услышали.
Я тоже орал шепотом:
– Она будет жить в моей комнате, я достаточно взрослый человек, чтобы меня уважали и считались со мной!
– Ты не взрослый – ты щенок! И комнаты у тебя своей нет, у тебя пока нет ничего своего!
– Тогда я уйду вместе с собакой. А ты еще тысячу раз вспомнишь и пожалеешь. Мы же не понимаем друг друга! Мы же говорим на разных языках!
– Ты хочешь, чтобы понимали тебя, а понимать и считаться с другими не хочешь. – Мама заплакала и закрыла у меня перед носом дверь.
Я опустился на ступени. Там, где я стоял, натекла лужа. Мне было холодно, я сник и почувствовал, что очень устал.

Динка все это время сидела у порога с таким видом, будто знала, что решается ее судьба. Теперь морда у нее стала виноватой, она встала и выжидающе смотрела на меня: она поняла, что я уже во всем раскаиваюсь и ей нужно уйти. Я похлопал рукой по ступеньке рядом с собой, и она опять села.
О чем я думал, когда брал с собой собаку? Не знаю, но наш с мамой скандал я, видимо, воображал в каком-то романтическом свете, вышло же грубо и даже оскорбительно.
На верхнем этаже щелкнула дверь. Ба-бах! – ахнуло в мусоропроводе. А вскоре и наша дверь открылась. Мама была тихо-дел овитая.
– Давай поговорим по-хорошему, – предложила она. – Я обещаю тебе купить настоящего породистого щенка, какого-нибудь дога или водолаза. Или кто тебе нравится? Только уведи эту блохастую дворнягу. Наверняка она больная.
Я представил, как иду по улице с догом или водолазом мимо одноклассников и знакомых. А главное, мимо тех, кто помнит меня во дворе нашего дома с плюшевой собачонкой.
В мыслях я уже предал Динку. О настоящем водолазе (а лучше всего немецкая овчарка!) только мечтать можно. Но как же эта дворняга, которая шла у моей ноги, которая выбрала меня? Выгнать ее на улицу?
Мы снова ругались с мамой, но уже как-то устало, почти без эмоций и не повышая шепота. Я видел, что Динка настороженно следит за нами. Умная, она все понимает.
Опять ни о чем не договорились, мама ушла, а мы остались на лестнице.
А ведь не случайно я привел собаку в тот день, это я уже потом сообразил. Я боялся завтрашнего первого сентября, был совершенно растерян, не знал, на кого, на что опереться.
В июле мы переехали на окраину города, в новый благоустроенный дом. А раньше жили почти в самом центре в деревянном, двухэтажном. У нас была отдельная квартира с кухней, но уборная была общая для двух квартир в коридоре. Ванной, конечно, не было. И вообще я рвался оттуда уехать.
Девятый класс я окончил с отличием. В последний день Ленка Маркова сказала мне:
– Интересно знать, как бывает на душе у отличника. Наверно, тепло и сыро, никаких проблем, кроме боязни, что благополучия немного убавится.
В великом изумлении я что-то промямлил в ответ. За что же она меня так не любит? Что я ей сделал? Дались ей мои пятерки! Я же не тщеславный петух, отметки для меня не главное в человеке…
Все лето меня беспокоили странные Ленкины слова. Что же она имела в виду?
Наверное, ничего, говорил я себе в сотый раз. А на душе у отличника покоя не было, отвратительно было. Я чувствовал себя скучным, никому не нужным ничтожеством. Впервые мне опротивели рыбы. Я с отвращением смотрел на три ухоженных аквариума, и хотелось гвоздануть по ним молотком. Я сомневался в себе и правильности своей жизни.
Мы с мамой не могли дождаться переезда, а въехав в новую квартиру, месяц исправляли недоделки строителей, покупали новую мебель, потому что старую мама не захотела везти с собой. Я насилу упросил ее не покупать мне письменный стол, потому что люблю свой старый, – он крепкий, а я со своими рыбами и всякими опытами все равно испорчу крышку стола.
Я твердо решил перейти в ближнюю школу, мама была против, она говорила, что в десятом классе никто не меняет школу и учителей, тем более если идет на золотую медаль.
Мамино упрямство феноменально, но я знал, что в старую школу ни за что не вернусь. Мама держалась как скала, а сдалась внезапно и трагедий больше не разводила, сказала только:
– До твоей школы час и обратно час. В переполненном автобусе. А новая под боком. Надо же в этой глупой затее найти хоть какие-то преимущества? Хотя в твоем положении родная школа – самое большое преимущество.
– А какое такое у меня положение? – игриво спросил я.
– «Интересное»! – язвительно сказала мама. – Ты беременен золотой медалью.
Я попытался сострить, что рожать придется в новой школе, но она не поддержала. Ее мой переход очень беспокоил. Однако документы мы забрали и переправили на новое место.
Боялся я новой школы, класса, и поддержки искать было не у кого. Кроме собаки. Вот и клюнул на нее, схватился в последний момент, как за соломинку, и уже чуть не променял на дога.
Я совсем промерз на каменных ступенях и стучал зубами. Мама несколько раз выглядывала и опять появилась, ужасно раздраженная. И я вдруг понял: победа! А нужна ли эта победа, эта собака – уже не знал. Тупость и равнодушие.
– Ты с ума сошел? Заболеть хочешь? Тебе завтра в школу. Или ты собираешься здесь до утра сидеть?
– От тебя зависит.
– Я уже ответила: нет!
А я по голосу чувствовал: да! По лицу.
– Тогда я буду ждать здесь отца.
– Я теряюсь перед твоей наглостью. Завтра ты крокодила приведешь, послезавтра гюрзу принесешь! Иди домой, и пусть эта блохастая собака не лезет в комнаты. Переоденься и вымой ее.
Наконец мы вошли и закрыли за собой дверь. Я приказал Динке:
– Сидеть. Ни с места.
Она не отходила от порога, только иногда вскакивала на минуту, будто приплясывая, помахивала хвостом: поняла, что ей разрешили остаться.
– Господи, на какой помойке ты ее нашел? За что мне это? Где ее мыть? В ванне? Я двадцать лет мечтала о ванне, теперь она есть, будем в ней мыть приблудных собак!
Мать ожесточенно гремела в кухне крышками, кастрюльками, громко вздыхала. Но уж если у нее появляются иронические нотки, дело идет на лад.
Динку я мыл в тазу шампунем. Мама заглянула и простонала:
– Не могу на это смотреть! Учти, чтобы на полу не осталось ни одной капли!
И ушла. И снова заглядывала, брезгливо морщась. А когда мокрая Динка вздумала отряхнуться, мама чуть в обморок не упала.
Таз я вымыл порошком, но после меня мама долго возилась и с тазом и с ванной. Я вычесывал собаку старой гребенкой. Блохи у нее, разумеется, были, я понял это по расчесам на теле, а осмотреть внимательно боялся: мама увидит и опять заведется.
– Потерпи, Динка, потерпи! – говорил я, вырывая колтуны и выбирая колючки из шерсти, хотя она стояла не двигаясь, только кожа на боках подергивалась.
– Оригинально, – комментировала мама. – Значит, это чучело зовут Динкой? А почему бы не назвать ее Жучкой? Шариком? Бобиком? Ей подойдет. – И вдруг с печальным недоумением: – А как же лаковые полы? Я так мечтала жить по-человечески в своей отдельной чистой квартире, и когда наконец-то… Все кувырком…
Я молчал, чтобы еще больше не злить ее. Уже давно нужно было привести собаку, мать всегда так – будет проявлять нечеловеческое упрямство, кричать, а потом согласится и успокоится.
– Ты думаешь ее кормить? – спросила она. – Чем кормят собак?
Мне почему-то стало жалко маму. Разве я отношусь серьезно к обидным ее словам? Поглаживая Динку, я думал: подойти к маме помириться или еще не время?
В Заречье, куда мы переехали, задуман большой новый район, но пока выросло всего несколько домов-башен. Вокруг низенькие каменные и деревянные домики и частные дома в частных садиках, где к сентябрю вызревают крупные зеленые яблоки.
С одной стороны наш район замыкает железнодорожная насыпь, с другой – речка, только в центре города одетая в набережную, у нас же с зелеными травяными берегами и шеренгой старых серебристых тополей. Их верхушки полощутся на ветру, совсем белые, потому что вертятся листья с белым пушистым подкладом.
Здесь много бродячих псов. Почти все они убоги внешне, и такое впечатление, что умственно – тоже. Они крупноголовы, туловища длинные, вихлястые, ноги короткие, кривые, и каждая нога будто в кулачок сжата. Так и бегают на кулачках. Наверное, почти все они в родстве.
По сравнению с Динкой – день и ночь. Она умная и воспитанная собака. Она почти сразу же усвоила свое новое имя, поняла, что спать должна в прихожей на старом половике. В комнату родителей она не входила, к маме не совалась и старалась не встречаться у нее на пути. Она реагировала на команды: «сидеть», «лежать», «место», «ко мне», «апорт», «фу», «дай». Я забыл думать про догов и немецких овчарок. Только меня немного смущало: почему Динка так просто и быстро приняла мою дружбу? Наверное, не надо допускать таких мыслей, не сомневаться надо, а радоваться дружбе, как подарку. Но подозрение было. И я решил проверить Динку.
Третьего сентября с утра я вывел Динку, но не накормил, а после школы подослал домой своего соседа по парте, Игоря. Он должен был открыть дверь моим ключом, сманить Динку колбасой и увести.
Когда Игорь вошел в прихожую, Динка уже стояла перед ним. Не лаяла. Но чуть он сделал попытку продвинуться дальше, оскалилась и зарычала. Он показывал Динке колбасу, причмокивал, посвистывал, но пройти дальше дверей не смог.
Динка не всегда была бродячей собакой. Я это знал и раньше. Но она оказалась хорошей, неиспорченной собакой, она защищала дом, в котором прожила всего несколько дней, она слушалась меня. Не могла она подарить дружбу кому попало. Но почему она выбрала именно меня?
Животные помогают человеку жить. Особенно собаки. Может быть, и раньше, будь у меня собака, все было бы иначе. С новым же классом отношения сложились просто и естественно, мне кажется, потому, что я не сильно старался там понравиться, «показаться», а занимался Динкой. Игорь Инягин, с которым я сижу, тоже приехал в новостройку и перешел из другой школы. И еще в нашем классе трое таких.
Учебный год начался хорошо, режим дня железно наладился. Раньше мама с трудом вытаскивала меня из постели за полчаса до школы. На ходу я жевал бутерброд, со звонком влетал в класс. Теперь я поднимался в полседьмого без всяких понуканий и выходил с Динкой на улицу. Мы шли к речке, а потом по набережной до того места, где Динка в первую нашу прогулку поймала мышь, оттуда же мчались как угорелые. У нас уже складывались свои привычки, традиции. Мы уже кое-что знали друг о друге.
После того случая, когда Игорь не смог войти в дом, мама явно подобрела к Динке. Даже за колбасу, взятую из холодильника для эксперимента, не ругалась. Принесла домой тюбик с противоблошиным шампунем для животных, и под ее руководством я снова вымыл Динку. Потом еще раз, после того как мама заметила, что Динка почесала задней ногой шею. Я сказал ей: «Люди тоже чешутся. Даже чистые. Что ж, собаке и почесаться нельзя?»
Приехал отец. Удивился, сказал Динке:
– Здравствуй, собака. – И мне на всякий случай: – А ты подумал, что, заводя собаку, берешь на себя ответственность? Еще Экзюпери в «Маленьком принце» написал…
– Что «ты навсегда в ответе за всех, кого приручил», – досказал я.
– Как ее зовут? – спросил отец. – Динка? Хорошее имя.
Вот такие у меня родители.
Я хочу быть биологом.
Долгое время моим кумиром был Жак Ив Кусто. Тогда я намеревался связать свое будущее с океанологией. Но море я видел только в кино. Когда же прочел первую книгу Даррелла, то понял: все, что летает, что бегает и ползает по суше, мне явно ближе.
А потом отец подарил книгу Фабра, французского энтомолога. Она меня потрясла. Рядом с нами находился совершенно доступный, необычайный по красоте, невероятный, фантастический мир паукообразных, чешуекрылых, жесткокрылых существ. В фантастике меня обычно привлекает не сюжет, а описание придуманного мира. Описание жизни пчел, ос, долгоносиков, кузнечиков, навозников оказалось не менее сказочно и намного интереснее, это было реальностью, а не выдумкой.
Фабр был беден, поэтому занялся именно энтомологией. Жуки, бабочки, пчелы – вокруг нас. Не нужно никаких особых средств, чтобы иметь опытный материал и возможность его наблюдать. Если бы мне разрешили держать дома морскую свинку, кролика, кошку, собаку, птиц, я бы вряд ли стал помышлять о насекомых.
Оказалось, что не так уж хорошо изучены паукообразные или многоножки, например. Вот ими и следовало бы заняться. Но у меня уже к тому времени обнаружилась совершенно определенная склонность к пресноводной фауне.
Трудно объяснить, почему именно водомерки, ручейники, плавунцы и моллюски, а не красавицы бабочки, кузнечики и сверчки привлекали меня. Сам не знаю. Правда, существовало одно детское воспоминание, хотя его, наверное, нельзя расценивать как причину.
Я закончил первый класс и почему-то сидел в городе, – видимо, ждал, пока у родителей отпуск начнется. Тут мать моего друга Лешки, тетя Тоня, предложила мне поехать к ним на дачу. Лешка жил там с бабушкой. Утром она меня забрала, а часа через два мы уже были на месте.
Не помню, что мы там делали. Не помню даже, воскресенье было или будний день. Только очень мы с Лешкой обрадовались друг другу и пошли гулять. Нас предупредили, чтобы недолго, потому что нам с тетей Тоней вечером возвращаться.
Куда мы шли, тоже не помню. Сачок для бабочек у нас был и картонная коробка из-под фильмоскопа. Наверное, по шоссе сначала, потом по дороге какой-то, и вдруг – вот, начинается! – все помню очень хорошо. Было жарко, а стало прохладно, влажно: мы вошли в зеленый полумрак. У деревьев длинные голые стволы, и высоко, где-то там, в вышине, кроны шевелятся. Еще выше солнце золотом разливается, птицы поют и летают. К нам же солнце проникает только пятнышками, словно монетками все позабросано, а из песен – настораживающе, чисто и тонко – комариный голос.
А потом пруд. Как бублик. Посередине пышный круглый островок. Палкой проверили канаву – глубоко. Вода черная, а островок – очень зеленый, даже неестественно. Мы думали переправиться на островок, но широка канава. Тогда мы сели возле ее черных илистых берегов, стали воду сачком баламутить, потом черпнули поглубже и такое достали – мама родная! – что ни в сказке сказать, ни пером описать!
Оно выползало из черной жижи сачка, оно было разное и ужасное. Мы бросили сачок со страху на траву, но потом осмелели и стали выуживать животных веточкой и совать в коробку. Теперь я догадываюсь, даже знаю, кто там был. Но тогда они делились для нас на два вида: жуки и страшилища. Жуки – понятно, с панцирем и ногами, обтекаемые, лаковые, черные с желтой обводочкой по краю. А страшилища – рогатые, с клешнями, с раздвоенными хвостами, где, мы подозревали, было жало. А один палочкой притворился, а потом оказался живой.
Если я когда-нибудь связываю с собой слово «свобода», то для меня это тот пруд. Говорят еще: «интересно жить», «наполненная жизнь». Так вот эти слова у меня тоже ассоциируются с тем волшебным прудом-бубликом. Мы выбрались оттуда грязные, с грязным сачком и тяжелой полуразмокшей картонкой. Солнце уже почти село. Обратно бежали, тоскливо предчувствуя взбучку. Нас, оказывается, искали, нас ругали, сказали, что меня больше не привезут к Лешке. (Больше и не привезли.) Мы размазывали слезы по грязным щекам, а потом я, как побитый щенок, плелся за тетей Тоней на автобус.
В город вернулись поздно. Я прижимал к себе тяжелую мокрую коробку со страшилищами. Я не знал, куда ее деть. Поставил в подъезде возле лестницы. А наутро нас разбудил крик тети Сони, дворничихи. Она вопила как резаная. Сокровища были вынесены на помойку, но кое-что уцелело, расползлось. Мне было грустно, что сокровища погибли. Никто так и не узнал, что принес коробку я. А комары потом летали в подъезде до зимы.
Вот такие светлые воспоминания. Конечно, они не каждому понятны. Я же никогда не написал про свою волшебную канаву в сочинениях «Самый счастливый день», «Как я провел лето» и т. д. Учительнице литературы мои радости доступны не были, но хуже, что меня не поняла и биологичка. Не получилось у нас с ней контакта. Не встретил я пока в жизни такого человека, который мог бы мне помочь, научить тому, что мне было интересно. А достать определитель, даже краткий, каких-нибудь животных очень трудно. Так что определял я всякую живность по всем попадавшим в руки книгам, даже по энциклопедии.
Всякую нечисть, как называет это мама, я стал таскать домой, прочитав Фабра. А вскоре мне попалась книга Ханса Шерфига «Пруд». Колоссальная книга! Она мне очень помогла.
Шерфиг – датский писатель, биолог-любитель. Он наблюдал жизнь маленького пруда в течение года, познакомился с массой научных работ. Его пруд находится на острове Зеландия, недалеко от Копенгагена, на той же широте, что и Москва, правда, климат там немного другой, но флора и фауна похожи на нашу.
Мне понадобился микроскоп, стеклянные трубки, пинцет, спиртовка, эфир, формалин и еще много разных вещей. Маленький школьный микроскоп я купил в комиссионке. Самодельные аквариумы у меня систематически загнивали, и мама, пока я был в школе, выливала их в уборную. Туда же она спускала моих личинок и куколок, которые сидели в отдельных банках в ожидании превращения.
Дарреллу мама предпочитала Диккенса, Конан Дойла и Дюма. В свое время и я запоем прочел «Трех мушкетеров», но делал себе не шпаги, а сачки.
Мама воспитывала меня, а я ее. С воспитательной целью я уговорил ее прочесть Даррелла «Моя семья и звери». Она одолела книжку подозрительно быстро, за вечер.
– Вот видишь, – сказал я, – в каких условиях жил Даррелл, а в каких – я и какая у него была мама.
– Ты не Даррелл, – отвечала мама, – а у меня нет большого дома и прислуги.
Ничего полезного для меня мама не вынесла из этой книги. Она вообще была трудновоспитуемой. Она ездила в Москву и сходила в зоопарк, а потом ужасалась: «Несчастные животные! Они вынуждены жить в неволе, есть и спать на своих испражнениях. Горные бараны скачут по цементным горкам. Но ужаснее всего – обезьяны. Я на них смотреть не могла. Во-первых, к клеткам не протолкнуться. А во-вторых, меня потрясли люди. Они кривлялись и передразнивали бедных животных. Они были отвратительны и карикатурны. Может быть, зоопарки вообще вредная затея».
Я объяснял, что люди, очеловечивая зверей, пытаясь их представить по своему подобию, ошибаются. Доказано тысячу раз: не страдают волки и медведи в клетках. А зоопарки необходимы. Сейчас положение в мире так тяжело для животных, что некоторые из них только в зоопарках и сохранились. Только так их можно размножить и запустить в прежние места обитания.
Книгу Джой Адамсон мама мурыжила-мурыжила, но, мне кажется, так и не прочла.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.