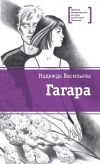Текст книги "Ведьмины круги (сборник)"

Автор книги: Елена Матвеева
Жанр: Детские приключения, Детские книги
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц)
Глава 11
КОНЕЦ ИГРЫ
В семь часов вечера, прихватив фотоаппарат, я направился к автобусу на Картонажку. В общем, я оклемался, только тело приобрело какую-то странную невесомость, что было даже приятно, а голова продолжала побаливать – вот это мне совсем не нравилось, и я машинально тер виски и глаза.
На горбатой улице меня обогнала машина. Я уже не сомневался, куда она следует. А потом я увидел рыжеволосую.
В коротком сарафанчике, с гривой волос, сверкающей огненными искрами, она шла прямо мне навстречу. Впервые я увидел ее так близко и страшно разочаровался. Физиономия, руки, грудь и даже ноги были обсыпаны у нее бежевыми веснушками. Лицо открытое и простоватое. Издали она выглядела куда эффектнее и загадочнее. Внезапно я с ужасом подумал: «Может, и она?! Может, и она из такого дома, как мой поднадзорный?! Но не все же здесь торгуют зельем: на Картонажке домов двести или больше. И что мне за дело, из какого она дома, кто ее родители и чем занимаются?»
Она прошла мимо, я оглянулся. И она оглянулась. Я поймал ее странный взгляд, словно она узнала меня. Тут же мы отвернулись, и каждый пошел в свою сторону. Не могла ли она заприметить меня на наблюдательном пункте или видеть, как я туда забирался? Возможно, и на подоконнике она сидела в купальнике для меня?
Я залез в черемуховую пещерку, прислонился к развилке ствола и, скрытый ажурной занавесью, с остервенением круговыми движениями стал тереть виски. Прошло порядком времени, пока приехали наркоманы. Я прицелился объективом и стал выжидать, пока откроется окно. Мужик-покупатель расположился чрезвычайно удачно, так что мужик-продавец, тот самый, старый, которого я знал в лицо, нарисовался в раме лучше некуда. И тогда я нажал спуск.
Фотоаппарат был дрянной. Ну не то чтобы совсем дрянной, я был бы счастлив иметь и такой, но для моих нынешних целей нужен был телевик. Впрочем, я надеялся, можно будет как-нибудь напечатать середину кадра, увеличив ее, и отсечь окружающий пейзаж с заборами. То, что в кадр попала машина, тоже неплохо. А еще следовало бы взять карандаш и записывать номера машин.
Для чего я все это делал, до сих пор не знаю. В милицию идти с уликами я не собирался. Видимо, рассчитывал придумать позже, как ими распорядиться.
Солнце лениво спускалось к горизонту, когда наехало на него очень красивое синее облачное рванье, и закапало. В моем укрытии можно было спрятаться и от ливня, а этот неосязаемый, почти пылевидный дождик оседал вокруг золотой пылью, так что даже железо и шифер на крышах почти не потемнели, зато вся зелень стала ярче и наряднее. Моя сень, составленная множеством листиков, засверкала мельчайшими бриллиантами. Потом будто кто подтолкнул меня, чтобы я обернулся, – там, за часовней, возникла водянистая радуга. На глазах она наполнялась сочным цветом, как ворота в иной мир.
Я снова подумал о своих потерях: отце, Люсе, Борьке. Каждого не хватало мне по-разному, но это были именно те люди, с которыми я мог бы обсудить теперешнюю ситуацию. Другим я довериться не мог, и никого нового не заводилось, с кем можно было поговорить о сокровенном, странном, может быть глупом.
Дождь сеялся, сеялся, а прекратился в один миг. Радуга налилась до полной зрелости, а потом начала бледнеть, растворяться, как свежая акварель, смываемая водой.
Пока я не вспоминал про свою несчастную голову, боль сама по себе утихла. Зеленый мир напитался запахами и свежестью, все еще весенней светлой чистотой и непривычно легкой печалью об ушедшем. Я смотрел на дом, о котором знал правду, но не мог придумать, нужно ли использовать это и как? На глазах гасли алмазы в траве, на кончиках листьев и головках белого клевера.
А еще я подумал тогда, что пора завязывать с бессмысленной слежкой. Игра закончена. Пусть она была чистой воды ребячеством, но просто так ничего не случается. Значит, она тоже была нужна. Мне нравилась моя зеленая пещера. Здесь я думал про разные разности, рассматривал махровые, притрушенные яично-желтой пыльцой круглые подушечки одуванчиков, их многочисленные тупые лучики и пушистые сердцевинки. Здесь я следил за жизнью жучков и паучков, чего, мне кажется, не делал с детства, изучал прожилки листьев, складки коры, шелковую гладь молодых веток.
Мои сентиментальные размышления неизвестно сколько бы продлились, если б не был я изъят из зеленой пещеры неведомой грубой силой, которая выкинула меня на свет Божий за шкирку. Только на улице я разглядел, что вихрь, вырвавший меня из укрытия, не кто иной, как молодой парень из наркоманского гнезда. Может, он и был на четыре-пять лет старше меня, однако я сразу ощутил, что сильнее он в двадцать раз. Словно клешней схватил меня повыше локтя и волок к дому, приговаривая:
– Ах ты, гаденыш поганый! Что ты там вынюхивал-высматривал? Дай-ка сюда эту штуку.
Он вырвал у меня фотоаппарат, в который я отчаянно вцепился. Под злобный собачий лай я влетел в калитку, тут же получил сзади ребром руки сокрушительный удар по шее и, еще не успев почувствовать боли от первого удара, схлопотал второй – кулаком в живот. Шея у меня подломилась так, что подбородок брякнулся о грудь и лязгнули зубы, а сам я скорчился и рухнул на колени, держась за живот. Все это случилось мгновенно, так что я и страха особого не успел ощутить, но зато враз понял, что попал в прескверную историю. Еще перед глазами плавали кровавые пятна и рот судорожно открывался, хватая воздух, а я уже знал: дело дрянь, самому отсюда не выбраться.
Парень протащил мое скрюченное тело по двору, и я пересчитал на крыльце ступеньки. В комнате он бросил меня на пол, где я так и остался лежать, думая о том, что испытанное унижение – ерунда, все равно о нем никто не узнает, как и о моей судьбе. Из глаз катились слезы. Парень еще несколько раз ударил меня ногой, пока его не остановил старый мужик:
– Полегче! Сам разберусь. Это что?
Я не думал, что вопрос обращен ко мне, и не поднял головы, поэтому молодой сам ее запрокинул, схватив за волосы. Надо мной стоял старый, в руках держал фотоаппарат.
– Онемел? – ласково-угрожающе проговорил он.
– Я… – Голос был не мой, а может, и вообще не было голоса, так что пришлось откашливаться, отчего я снова сложился пополам. Кашлять было больно. – Я… Девочка… Рыженькая… У нее очень красивые волосы… На подоконнике сидит…
– Это он про Таньку. Ну, Танька, Тарасовых дочка, – услышал я откуда-то сзади женский голос и догадался, что это старуха, которую я тоже знаю.
– Девку, значит, караулил? – Старик раскатисто засмеялся. – Девку, говоришь, Таньку? Влюбился? – Мне показалось, он поверил и развеселился, только рано я обрадовался. – А если врешь? – спросил он, резко оборвав свои «ха-ха-ха». – А если врешь? Как проверить?
– Проявить пленку, – сказал молодой ледяным голосом.
– Дело это долгое, – решил старик. – А потому мы и так узнаем. Я догадываюсь, откуда уши торчат.
Теперь я сам попытался поднять словно перерубленную и стеклом набитую голову, чтобы посмотреть на старика правдивыми глазами.
– Это чужой фотоаппарат, я взял его у друга. Он может подтвердить. Я говорил ему, куда и зачем пошел. – Про друга сказал специально, чтоб старик призадумался. Зачем ему убийство на себя вешать?
– Я, случаем, не знаю твоего друга? Сдается мне, знаю.
– Вы его не знаете. Он мой одноклассник.
– Ну, ладно, батя, не тяни резину, – встрял молодой.
Может, он собирался лишь поддать мне, но не рассчитал, и я крепко ударился головой об угол печки. Надолго ли я потерял сознание, трудно сказать, но, вероятнее всего, ненадолго, а может, вообще на миг. Когда я сообразил, кто я и где нахожусь, то рассудил, что выгоднее в себя и не приходить. Мне ничего не стоило лежать с закрытыми глазами, не подавая признаков жизни, – свинцовые веки открываться не хотели, а малейшее шевеление причиняло боль.
– Кретин ты, Вовка, – сказал надо мной старик. – За что ни возьмешься, все испаскудишь.
Грубые пальцы осторожно потрогали мою щеку, потом меня перевернули на спину.
Я с трудом сдержал стон. Что-то тяжелое опустилось на грудь: старик слушал, бьется ли у меня сердце.
– Отнеси-ка его в заднюю комнату и положи на кровать, – приказал старик. Я почувствовал сильный рывок, но старый тут же рявкнул: – Сказано – отнести! Поосторожнее!
Далее был полет, во время которого молодой цедил сквозь зубы гнусные ругательства. Женского голоса после того, как было сказано о соседской Таньке, я больше не слышал, хотя надеялся, что старуха недалеко, и рассчитывал на ее жалость и помощь. Молодой, исчезнув из поля зрения отца, вывалил меня на постель, как куль с дерьмом. Снаружи лязгнула задвижка. Я разлепил глаза и обнаружил, что нахожусь в темноте.
Сколько прошло времени с тех пор, как я попал в этот страшный дом? Уходил я часов в семь вечера, около восьми был на месте, часа полтора просидел в укрытии. Сколько длилось все последующее, не мог определить. В любом случае не могло быть больше одиннадцати-полдвенадцатого.
В доме слышались голоса и громыхание посуды. Если б пришла ко мне бабка! Я не надеялся на это. Мать уже беспокоится. Интересно, когда она заявит в милицию о моем исчезновении – утром? Сравнимая с физическим страданием, меня пронзила мысль: если со мной что-нибудь случится, ей не пережить! Я бы ради нее сделал что угодно, но я и для себя ничего не мог сделать, даже пошевелиться не мог: казалось, у меня раздроблены все кости, включая черепные. Кажется, я плакал и молился Богу о спасении и в то же время, ощупав языком зубы, с удовлетворением отметил, что все на месте.
Конечно, я предполагал и надеялся, что убивать меня не станут. Они трезвые, соображают же. Еще я слышал, что продавцы наркотиков сами их не употребляют. Зачем им такие заморочки, как убийство? С проявлением пленки они подождут до утра, если вообще станут ее проявлять. А может, проявят прямо сейчас, ночью?! Сказал же Сусолов: у них все куплено. Что им стоит проявить пленку в любое время суток? Плохо, что я успел сделать кадр с домом, стариком в окне и машиной.
Мысли, словно в тумане, носились в моей голове, пока совсем не смешались, превратились в какую-то тяжелую кашу. Видимо, во сне я стонал, потому что и проснулся от своего стона. Все случившееся сновидением, к сожалению, не было.
Открыл глаза. Ничего не изменилось, кроме того, что вокруг стояла мертвая тишина. Попробовал пошевелиться, потом сесть на кровати, потом встать. Мучительно. Но, по крайней мере, кости у меня были целы и шейные позвонки не сломаны, хотя голову я мог повернуть только вместе с туловищем, а при каждом движении непроизвольно шипел сквозь зубы. Стонать боялся.
Сначала я постоял прислушиваясь. Потом, держа перед собой руки, чтобы не наткнуться на что-нибудь и не произвести шум, пошел на тонкую, как ниточка, полоску света – здесь было окно, закрытое ставнями. Ощупал ставни: они висели на петлях и закрывались на обычный крючок. Тихо-тихо и очень медленно вынул крючок из петельки и открыл ставни.
За стеклом в легком полусумраке застыл старый фруктовый сад. Птиц слышно не было. Я предположил, что часа два ночи. Не найдя шпингалета на окне, испугался: мне показалось, что оно не открывается совсем.
Потом увидел внизу рамы дверную ручку. Рама поднималась. Я поднял ее.
Поскольку неизбежные шумы, которые я производил, никого не разбудили, я осмелел, решил даже обыскать комнату, но раздумал: некогда глупостями заниматься, пора уносить ноги. Да и не было в комнате ничего, кроме кровати, двух стульев и комода. Однако, окинув прощальным взглядом свою тюрьму, я потерял всякое благоразумие.
На комоде, прислоненная к стене, стояла икона. Я поднес ее к свету. Сомнений не было: я держал в руках Люсину Владимирскую Богоматерь!
Люся мне объясняла, что есть иконы, писанные художниками, а есть напечатанные на бумаге, дереве и даже металле. Такие стали делать в прошлом веке. Она показывала мне одну напечатанную. Я бы и не заподозрил, что это печать, но, как оказалось, на ней были такие точечки – от печатной машины. «А здесь, – говорила Люся, – все сделано рукой и душой». Она ткнула пальцем в какую-то неверную линию, завиток, утверждая, что он случайный, наверняка художника кто-то окликнул, он вздрогнул, и кисточка у него сделала каракульку. Наверное, он мог ее исправить, но не стал. Он увидел, что хорошо вышло, естественно.
Да что линия! Я помню лицо Богородицы, ее нежные руки, прижатую к щеке щеку Младенца. Все цвета помню. У меня хорошая память на изображения.
Прыгать невысоко, первый этаж, но прямо под окном рос матерый шиповник, а икона была не маленькая, да еще облаченная в массивную глубокую ореховую оправу – киот. Я сразу понял, что заберу ее с собой, но киот следовало оставить. Там крошечные такие крючочки, как игрушечные. Я открыл их, икону вынул, но из коробки вывалилась какая-то сложенная бумажка. Подумал – записка, но читать было некогда, я ее даже не развернул, а сунул в карман, сел на подоконник, морщась от боли, перекинул ноги на другую сторону окна и соскользнул вниз, прямо в колючие кусты.
Собака молчала. Была она на привязи или на ночь ее спускали бегать по участку, я не знал. Птицы тоже не подавали голос, значит, ночь была в полном разгаре. Я прокрался до забора, который выходил на улицу, пересекавшую горбатую. Забор был сплошной, дощатый и выше моего роста. Подтянуться я и в здоровом состоянии вряд ли сумел бы. Оглядевшись, не увидел ничего подходящего, чтобы использовать как ступеньку. Шляться по участку в поисках подставки было самоубийством. Надеяться, что в заборе есть доски, которые можно сдвинуть или без шума отодрать, не приходилось: забор был новый. Ближние к забору деревья оказались молодой облепихой, остальное – малинник.
В полном отчаянии я ухватился за верх забора и, подтянувшись из последних сил, водрузил туда подбородок. Показалось, что голова отрывается от шеи. Неимоверным усилием мне удалось уложить на забор локоть и перенести тяжесть чугунного тела на руку. Долго висеть таким образом я не мог, но и любое дальнейшее движение было невозможно. На груди, под рубашкой, лежала большая выгнутая доска.
Чертова сентиментальность! Зачем мне нужна была эта икона? Я ведь не граф Монте-Кристо или мушкетер какой-нибудь. Это в книжках с неприступных башен спускаются, рвы переплывают и скрываются на коне от преследователей. Я же хилый и трусливый подросток, из которого брат хотел сделать человека, да так и не смог. Я не занимаюсь спортом, не закаляюсь, я даже утреннюю гимнастику не делаю.
Как мешок я свалился вниз и лежал, обессиленный, под серебристыми деревцами облепихи. С иконой мне было не выбраться отсюда, поэтому я перебросил ее на улицу, сжав зубы и поскуливая, снова подтянулся, положил на верхушку забора подбородок, поволок туда же локоть, за ним второй. Я уже почти достиг успеха, но тут залаяла собака, и от неожиданности я снова чуть не свалился. Даже не понял сначала, что это не здешняя собака, а соседская. Она вскоре замолкла, а я продолжал висеть, как вареная сосиска, пока не почувствовал, что сейчас сорвусь. Представив, что придется снова подтягиваться, я стал от полной безнадежности брыкаться как сумасшедший, пытаясь затащить наверх второй локоть и забросить туда колено. Несколько раз чуть не рухнул. Не знаю, каким образом удалось мне вползти наконец на забор животом, перевалить туловище и брякнуться на другую сторону, не поломав костей.
Если штурмовать забор мне помогло отчаяние, то встать после падения – радость. Почувствовав свободу, я побежал, хромая, держась за поясницу, виляя задом, стараясь не шевелить головой и бодро постанывая, подальше от своего застенка.
Икона опять лежала у меня на груди. Фотоаппарат остался в страшном доме, но мне в тот момент было на него плевать. Я с облегчением нащупал в кармане ключ от дома, хотя надеяться, что мать спит, было просто глупо. Разумеется, в кухне горел свет.
Дверь я открыл сам, икону тихонько поставил между вешалкой и стеной. Нужно было видеть лицо моей матери, которая тут же появилась в прихожей и, опершись на косяк, язвительно спросила:
– Явился?
И вдруг губы у нее запрыгали, глаза заморгали, она отвернулась, заплакала и ушла. Я отправился за ней, обнял, она вся дрожала.
– Ты хоть видел себя? – спросила наконец. – Почему ты так странно держишь спину?
Я удалился в ванную и осмотрел одежду. Джинсы еще как-то можно было залатать, чтобы использовать в качестве рабочей одежды, а рубашка превратилась в грязное рванье. Из зеркала на меня смотрело поцарапанное, в ссадинах лицо с заплывшим правым глазом. Разделся. На теле тоже были ссадины и кровоподтеки. Помылся под горячей водой, постоял под холодной и почувствовал себя значительно лучше.
Мать ждала меня в кухне с яичницей, которая показалась мне замечательно вкусной. Далее я произнес, как мне теперь кажется, весьма высокопарную речь о том, что подобного больше не повторится, в случившемся виноват я сам, но спрашивать меня ни о чем не надо. А закончил я тем, что в жизни каждого человека, особенно мужчины, бывают такие моменты, обойти которые невозможно. Отец понял бы меня и не расспрашивал. После этого мать заплакала снова, лицо у нее было несчастное-пренесчастное.
Чем я мог ее утешить? Да я уже утешил ее. Тем, что пришел. Я просил прощения, она махнула рукой и устало констатировала, что уже полшестого, а ей на работу к девяти.
Глава 12
С ШЕРЛОКОМ ХОЛМСОМ
Кто бы мог подумать, что проснуться в своей постели – счастье? И хотя повернуться было больно, я наслаждался, ощущая, какая постель мягкая, уютная, излучающая покой и безопасность. Вообразил, как мои тюремщики нашли утром пустую комнату, и засмеялся. Смеяться тоже было больно. Зато сотрясения мозга я явно избежал, иначе была бы тошнота. Голова болела не больше, чем в похмельное утро накануне.
Раскорякой я навис над умывальником, шея не гнулась, зубная паста текла по подбородку. И это меня тоже насмешило. Лицо за время сна разукрасилось еще больше. Ссадины стали свекольного цвета, а опухоль под глазом посинела.
Следующий раз я засмеялся, когда не смог снять банку с заваркой, стоявшую на верхней полке кухонного шкафчика. Что вызвало мое веселье потом, уже не помню. Я бегал по квартире с прискоком, словно краб, – разбитое тело диктовало, как легче двигаться, – постанывал и смеялся в голос, держась за диафрагму. Наверное, это была реакция на пережитый страх.
С удовольствием я пил горячий чай, с удовольствием ел хлеб с вареньем и читал «Три товарища» Ремарка, пока очередной кусок не застрял у меня в горле: я вспомнил про икону и записку, которая выпала из киота. Как я мог забыть про них?!
Икона спокойно стояла под вешалкой, мама ее не заметила. Я запихнул доску под свой матрас. Одежда моя тоже лежала там, где я ее вчера вечером оставил, в уголке ванной. Карманы джинсов были пусты. Я все их вывернул, осмотрел каждый шовчик и повторил процедуру, понимая ее бесполезность. Я сидел на полу ванной и чуть не выл от досады. Записка была важная, иначе ее бы не спрятали. Что же я сразу ее не прочел? Может, сунул ее мимо кармана? Или потерял в саду? А вдруг она лежит по ту сторону забора, на улице?
Одному идти туда не хотелось – похоже, опять нужна была Катькина помощь. И отправляться нужно было тотчас: записку мог кто-нибудь подобрать, ее просто-напросто мог унести ветер.
Отшвырнув ногой джинсы под умывальник, я послал было туда и рубашку с носками, как вдруг блеснула надежда. Кармашек на рубашке! И хотя я не помнил, как клал туда записку, хотя заползал на забор грудью, вырвал с мясом пуговицы и клок материи – она была там!
Какое облегчение я испытал! Я держал вновь обретенное сокровище и боялся развернуть. Мне пришла в голову мысль, что там, вероятнее всего, написана молитва или вообще ничего. Сложенная в несколько раз бумажка могла быть и подкладкой, чтобы плотнее зажать икону в рамке киота.
У меня дрожали руки, когда я развертывал бумажку. То, что на ней оказалось, повергло меня в полное изумление. Вот что там было:

Похоже на письменность древнего африканского племени. На детские рисунки, баловство – вряд ли, тут чувствовалась система. Шифровка? Шифрованное письмо? Но кому? От кого?
Я долго сидел над загадочным посланием и понял, что здесь без консультации сведущего человека не обойтись. Таких людей я, естественно, не знал. А у вас есть знакомый шифровальщик, а вернее, дешифровальщик? Вот то-то и оно. Если такие люди и существуют, то в недоступных организациях, а может, даже сама их профессия зашифрована для окружающих. И все же я вспомнил одного человека и подумал: вдруг он в таких делах разбирается?
Я не видел дядю Славу с похорон отца. Они вместе работали, и раньше я нередко бывал у него дома. Дядя Слава был в нашем городе самым известным, маститым кроссвордистом. Он не только разгадывал их, но и сочинял для нашей газеты, а также рассылал в другие – петербургские.
Человек, который придумывает кроссворды, должен иметь представление о многих вещах. Такой человек наверняка любит загадки, и, возможно, моя не покажется ему такой уж трудной, просто я не знаю, как к ней подступиться. Но хотя у меня и не было никакого опыта, я догадался: фразы написаны в столбик, а не в строчку. Буквы над столбиками, вероятно, ключ к шифру.
Днем дядя Слава был на работе. Как я дождался вечера, трудно рассказать. Время от времени подходил к зеркалу, чтобы узнать, не спадает ли опухоль у глаза, не бледнеет ли боевая раскраска. Опухоль не спадала, а к вечеру под глазом выступила желтизна. Впрочем, я уже свыкся со своим новым лицом и даже воображал, будто с подбитым глазом у меня более мужественный вид.
Открыла дверь мать дяди Славы. Она меня узнала, по поводу моего лица комментариев не последовало. Проявила сдержанность и гостеприимство. Была она невысокой полной женщиной с жидкими вьющимися волосами. Дядя Слава был на нее очень похож. Того же роста и полноты, с бабьим лицом и редкими кудрями до плеч. Оба были в одинаковых старых длинных халатах из коричневого шелка. И казались они не сыном с матерью, а братом с сестрой. Лица у них были добрыми, с живыми глазами. Я всегда считал, что у дяди Славы артистический вид, особенно в халате. Такими мне виделись представители богемы.
– Кто ж тебя так разукрасил? – спросил дядя Слава.
Он недавно пришел с работы, и они с матерью собирались обедать. Пришлось и мне съесть картофельного супа и котлету с макаронами. Уже за супом дядя Слава сидел, уставясь в мою шифрованную записку, поднимал брови, иногда даже переставал жевать и недоуменно кривил рот.
– Вообще-то говоря, – сообщил он, – я из всех загадок предпочитаю крестословицы. Только ими и занимаюсь. Простенький ребус я, конечно, решу, но посложнее – не уверен. С шифрами я никогда не сталкивался. Наверное, ты прав, буквы – ключ к шифру. Но я не знаю, как найти замочную скважину для этого ключа. Ты уверен, что тебя с этой запиской не разыграли?
– То, что это не розыгрыш, уверен. А может, это игра какая-нибудь, вроде «крестиков-ноликов» или «морского боя»?
– Я не встречал такой игры. А нет ли у тебя знакомого компьютерщика? Жаль. Я подумал: если знать частоту употребления букв русской азбуки и с этой точки зрения проанализировать рисунки – здесь их достаточно много, – может, и раскрылся бы шифр? Поговорить бы со сведущим человеком.
Полный облом. Я уже шел по двору, когда на дяди-Славином втором этаже открылась форточка и он позвал:
– Леша, вернись-ка на минутку!
Когда я поднялся, дядя Слава стоял в раскрытой двери. Он сказал:
– Знаешь, на что похожи твои письмена? На «Пляшущих человечков» Конан Дойла. У него есть такой рассказ про Шерлока Холмса. Читал?
Читать-то я читал, но суть забыл. Дядя Слава тоже не помнил. Весь «Шерлок Холмс», несколько томов, был у Катьки. К ней я и пошел.
– Ого! – встретила меня Катька. – Ничего себе! Кто ж тебе ряшку намыл?
– Не могла бы ты выражаться как-нибудь потактичнее? – осведомился я.
– Ну извините. Что ж с тобой случилось?
– Совершенные пустяки, не стоит вспоминать, – сказал я, гордо держа голову на негнущейся шее и выпятив подбородок на своем, как я уже отмечал, возмужавшем лице.
На возмужалость она не обратила внимания, зато была заинтригована и даже обижена тем, что я не удовлетворил ее любопытства. В таком состоянии души я ее и оставил, унеся том с «Пляшущими человечками». Еще не выйдя из парадного, нашел рассказ и увидел нарисованные цепочки из человечков. Они были похожи на моих, правда, танцевали в строчку, а не столбиками.
Мама была уже дома, и пришлось с ней пообщаться, а поэтому я не сразу взялся за чтение. Я и не спешил, потому что очень надеялся, что книга послужит мне инструкцией для разгадки, а одновременно боялся разочарования: вдруг там нет объяснения, как взяться за шифр.
О вчерашнем мама не заговаривала, но долгий взгляд на своем лице я постоянно ловил. Потом зашел Игорь. Не сомневаюсь, что его вызвала мама, чтобы брат меня вразумил. Игорь не умеет читать нотации или вести душеспасительные беседы. Я впервые оценил его сдержанность. Он не спрашивал, в какую передрягу я попал, просто взял с меня обещание заняться с осени физподготовкой под его бдительным присмотром и обещал научить самообороне.
После ухода Игоря я опять и предвкушал, и оттягивал чтение Конан Дойла. Смотрел с мамой телевизор и дождался, когда она отправилась спать. Вот тогда я зажег лампу на своем письменном столе и открыл книгу.
«В течение многих часов Шерлок Холмс сидел, согнувшись над стеклянной пробиркой, в которой варилось что-то на редкость вонючее. Голова его была опущена на грудь, и он казался мне похожим на странную тощую птицу с тусклыми серыми перьями и черным хохолком». Так начинался этот рассказ.
Первый раз я внимательно прочел его с ознакомительной целью. Второй раз читал только то, что относилось к тайнописи, которую разгадал Шерлок Холмс. В его записках каждая фигурка соответствовала букве. Конец слова обозначал человечек с флажком. У меня же целая строчка представляла собой слово, столбик – фразу.
Я срисовал из книги все цепочки «пляшущих человечков» и написал над ними расшифрованные фразы. На отдельном листке поместил алфавит, а против каждой буквы – человечка, который ей соответствовал. Не все буквы алфавита были задействованы в расшифрованных фразах, но их было достаточно, чтобы понять, что написано в моем письме.
Святая наивность! Кажется, я при помощи Шерлока Холмса собирался прочесть записку из киота! Первое же слово, которое я хотел узнать по его системе, оказалось абракадаброй, набором букв. И второе. И третье. Я проверил все. Выяснилось также, что большинство человечков из книги в записке отсутствуют, зато много совершенно новых образцов. Это был совсем другой шифр!
Я еще раз просмотрел метод Шерлока Холмса, рассказ был моим единственным учебным пособием. «„То, что изобретено одним человеком, может быть понято другим“, – сказал Холмс». Если только это изобретение, а не дурачество!
Чтобы найти буквы, соответствующие значкам, я стал искать ключевые слова. Выудил строчки из семи и четырех человечков и попробовал подставить к ним буквы имени – «Людмила», «Люда», «Люся». Это ничего не дало. И к чему бы Люсе употреблять свое имя в записке (если писала все-таки она!), коли сообщение предназначалось кому-то другому? Мне или Игорю? Меня она называла Лешей, Лешкой и Лешим. Проверил слова из четырех и пяти человечков. Без толку. Я упустил из виду буквы над столбиками. А начинать надо было с них.
Попереставлял буквы так и сяк, надеясь составить из них слово, пока не сообразил, что «Л. Б.» – Люсины инициалы. Ее девичья фамилия – Борисова. Но кто же тогда «П. А.», «И. И.», «О. Т.» и «Н. И.»?
Стал вспоминать людей с такими инициалами. Не вспомнил. Буквы могли и не быть инициалами.
Стал проверять, могут ли буквы каждого столбика быть первой и последней в первой строчке, в последней, наконец, быть первой и последней буквой столбика? У меня было восемь разных букв и три одинаковые. Комбинировал-комбинировал – результат нулевой.
«В течение двух часов покрывал он страницу за страницей цифрами и буквами». Это написано о Шерлоке Холмсе, но я делал то же самое до утра. Спохватился, потому что понял: сейчас у матери зазвонит будильник. Я устал, глаза закрывались сами собой, лег спать, решив взяться за дело на свежую голову.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.