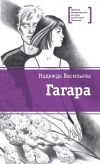Текст книги "Ведьмины круги (сборник)"

Автор книги: Елена Матвеева
Жанр: Детские приключения, Детские книги
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
Глава 17
РЕВНОСТЬ
Через две недели мама засобиралась в Краснохолмск. Она заявила, что устала от светской жизни, которую организовывала для нее неутомимая Ди, но я предполагал другую причину. Петербург – пожиратель денег. Моя мать очень щепетильна в материальном отношении, переживает, не объедаем ли мы Ди, вот и решила оставить мне большую часть нашего с ней капитала, а сама, скряжничая, пожить дома. Ди тоже догадывалась о правде и пыталась разубедить ее, но мать упряма до изумления. Даже те доводы, что я занимаюсь с учениками и заработка хватит не только на покупку фотоаппарата, ничего не изменили.
Ученик поначалу был у меня один – Вася. Два раза в неделю я ходил к нему на улицу Рентгена. Мы стали с ним заниматься действиями с десятичными дробями, но тут выяснилось, что Васины проблемы гораздо глубже: надо начинать с таблицы умножения.
На третьем уроке появился Миша, Васин одноклассник. Он был симпатичным болтуном и всеми силами старался отвлечь и меня, и Васю от математики. Но Миша, по крайней мере, знал таблицу умножения и был достаточно сообразителен. Просто ему учиться не хотелось.
У меня не хватало опыта, чтобы справиться с Васей и Мишей одновременно. Я считал себя порядочным человеком, их родители платили мне (хотя и меньше, чем настоящему репетитору), и я с ужасом думал: вдруг они провалят переэкзаменовку? На свою беспомощность я пожаловался Ди.
– Тебя волнует, сдаст ли Вася переэкзаменовку? Не волнуйся, – утешила она, – сдаст. Его отец заканчивает ремонт школьного спортзала. На будущий год он крышу починит. Потом столовую. И Вася благополучно закончит школу.
– То есть как это – починит? За чей счет все это делается?
– Откуда же я знаю за чей? Наверное, за счет его фирмы или за какой-нибудь другой.
– А Мишин папа что чинит?
– Информация о Мишином папе у меня отсутствует.
– У вас здесь круто.
– У вас тоже, – сказала тетка. – Может, и в меньшем масштабе, но у вас происходит то же самое.
Я по-прежнему вовсю старался вдолбить вундеркиндам дроби, но разговор меня успокоил. Впереди еще были проценты…
Мать перед отъездом мне наказала: как закончу репетиторство, чтоб тут же ехал домой. Теперь она звонила чуть не каждый день. Конечно, она скучала, волновалась, но она еще и ревновала меня к Ди. Я уже говорил, моя мать – натура цельная, как Татьяна Ларина у Пушкина. А уж если у цельной натуры есть слабости, они как чирей на носу – ничем не прикрыть. Одним словом, с маминой ревностью все и всем было ясно, но мы трое никогда об этом вслух не вспоминали. Тетка на язык несдержанна, любит подшучивать и над собой, и над другими. И я с ней вместе. Но молчим мы потому, что при жизни отца никакой ревности за матерью не замечалось. Честно говоря, эта ее слабость создает некоторое напряжение. Вдвоем с Ди нам куда легче.
– Тебя ждет барышня! – встречает меня в прихожей Ди.
Так таинственно она это говорит, так торжественно, что я со своими заморочками внезапно воображаю невесть что. Наша Люся, и белокурая, отчисленная из Театральной академии Борисова, и разные женские голоса в трубке телефона – все сплелось в хоровод. А в комнате – какое облегчение я испытал! – сидит Катька. Очень славная, с самой скромной из своих причесок – с косичкой. Она в длинном, синем в цветочек платье и, когда встает мне навстречу, кажется подросшей и похудевшей. Она явно смущается, не зная, как себя вести, и застенчивость ей чрезвычайно идет.
А ведь мама и к Катьке меня ревновала. Зато тетка отнеслась к ней благожелательно. В мое отсутствие поила кофе, занимала беседой и показывала альбом с семейными фотографиями.
– Как ты меня нашла? – задал я дурацкий вопрос.
– Ты же дал мне телефон, я позвонила, и Ди пригласила меня сюда, – ответила Катька.
Значит, тетка велела ей называть себя Ди. Это означало явное расположение.
– Катя поселилась рядом, на Чкаловском, у друзей своих родителей, – сказала Ди.
– Это художники Сидоровы. Сейчас они на даче, а я живу в их мастерской, – добавила Катька.
Ее распирало от гордости, что она знакома с настоящими художниками и живет в их мастерской. Я понадеялся, что Ди, показывая фотографии, успела ее известить, что моя бабка, между прочим, была архитектором. Еще я очень надеялся, она не сообщила о том, что бабка не построила никакого замечательного архитектурного сооружения, а занималась всяким водопроводом и канализацией в проектируемых домах. С нее станет сделать подобное уточнение.
Мы шли по набережной Карповки, на которой стоит дом Ди. Как в карауле, здесь выстроились старые тополя, а на розовых гранитных столбах, между звеньями решетки набережной, как на постаментах, застыли чайки. Катька отметила, что Ди – замечательная тетка, а Карповка – очень красивое и даже романтическое место. Я сказал: это такое место, что и в Италию ездить не надо. Здесь, по мнению Ди, и Венеция, и Флоренция.
Ди заявляет:
– И почему считается, будто Ленинград похож на Венецию? Совершенная чепуха! Ничуть не похож.
На другой день она говорит:
– Ас Венецией я не расстаюсь. Идешь по Карповне, потянешь носом – запах гниющих водорослей, запах моря. Венецией пахнет. И отрешенные крики чаек. Небо и вода у нас поярче, там светлее и ослепительнее, но в остальном то же самое. Лучше, конечно, не смотреть, тогда иллюзия полнее. Вдыхать и слушать.
– Не Венецией на Карповне пахнет, а нечистотами, которые туда спускают, – замечаю я.
– Ерунда! В Венеции в каналы спускают канализацию, а запах все равно морской. Ничем не перебивается. Так что можешь гулять по Карповне и воображать себя в Венеции. Флоренция, между прочим, тоже тут, рядом, на Каменноостровском. Знаешь угловой дом с палисадником, который окружает низкая оградка из шаров и змей? Он похож на итальянскую виллу, но дело даже не в этом. Под лоджией есть два горельефа, и это точная копия таких же, сделанных в пятнадцатом веке для собора Санта-Мария дель Фьоре, величайшего собора Италии, знаменитейшего. Там вылеплены детки, они танцуют и играют на тимпанах всяких, кимвалах… не знаю уж, как они называются. Так что не надо нам никакой Италии. У нас здесь и Флоренция, и Венеция.
Мы с Катькой втягивали носом запах Венеции и хохотали. Потом я перевел ее через мостик и показал Флоренцию с виллой, где детки на тимпанах и кимвалах играют. Потом мы осмотрели громаду Иоанновского женского монастыря и повернули на разрытый, пыльный Чкаловский, где шел ремонт. Но я повел Катьку другой дорогой, сделав небольшой крюк. Мне было приятно показать, что в этом городе я свой и все знаю, хотя дорогу нащупал почти интуитивно и боялся выйти не туда, куда нужно.

Мы поднялись по мрачной, типично петербургской лестнице, стены которой по голубой грязной масляной покраске были испещрены всякими надписями и рисунками карандашом, спреем и ножом. На последних пролетах лестница сузилась и стала абсолютно темной: здесь не было ни окон, ни электрической лампочки. Катя посветила хилым огоньком зажигалки и ткнула ключ в скважину обитой железом двери, из-за которой раздался оглушительный лай. Дверь с лязгом открылась, и на нас бросился яростный пес.
– Не бойся, он очень добрый, – сказала Катька, зажигая в прихожей свет. – И знаешь, как его зовут? Представь себе, Гамлет.
Гамлет был небольшим черным пуделем. Казалось, бросался он на меня и лаял весьма злобно, но, чуть я присел перед ним, полез целоваться.
Мы находились в мансарде. Сами хозяева в мастерской только работали, жили где-то в другом месте, а летом, как я понял, обитали на даче. Стены в мастерской низкие, покатые, срезанные крышей. Окошки небольшие, под козырьком. Перешагнув подоконник, можно выйти на плоский участок крыши, откуда открывается обалденный вид на город. Полы дощатые, протоптанные, а некоторые доски откровенно шатаются. Вокруг все заставлено стеллажами и столами с книжками, журналами, папками, кувшинами и горшками с кистями, банками с краской. Все завешано картинами, картонами и акварелями на ватмане, иллюстрациями с картин, фотографиями и пустыми рамами.
Мастерская состояла из трех таких комнатух, забитых старой мебелью и разным замечательным хламом. Я ходил и все рассматривал. Погнутый подсвечник с оплывшим огарком свечи. Медный таз, в каких, наверное, варили варенье в усадьбе Лариных. Ступка с пестом. Плетеный короб. Три самовара разной формы. Глиняная посуда. Отовсюду торчали веники тростника, бессмертников, живописных колючек и павлиньих перьев. На одной из полок стояла гипсовая голова Нефертити, а рядом, под пару ей, голова Ленина.
– А этот что здесь делает? – спросил я Катю.
– Это – кич, – ответила она. – Модно. Чем пошлее, тем лучше. Для стеба, понимаешь? Они же художники…
Художниками была вся семья: муж, жена и сын нашего возраста, учившийся в школе при Академии художеств. Катя показала всех их на фотографиях, висящих на стенах. Сын Боря во младенчестве: одни щеки торчат, глаза, нос и рот утонули в них. Потом мальчику лет десять: стоит на лыжах, лицо плохо видно. И недавний снимок: юный красавчик. Мне он категорически не понравился. В это время Катька сообщила, что не знает, надолго ли здесь останется: Сидоровы скоро приедут на машине и заберут их с Гамлетом на дачу. Я критически разглядывал акварели Бориса. На одной была их дача – дом-треугольник, огромная двускатная крыша, стоявшая прямо на земле, а под ней веранда и комнаты.
Снова перевел взгляд на современную фотографию Бориса. У него было открытое, уверенное и веселое лицо, хотя он не улыбался. Я понимал: это хороший, талантливый мальчик, у которого все в жизни уже определено, включая армию, потому что таких мальчиков родители отмазывают от службы. Это баловень судьбы, золотая молодежь. И непонятно почему, я вообразил, как он обнимает Катьку, как целует ее мягкие губы, и мне стало почти что плохо.

Конечно, это была ревность, наследственная болезнь. Но по-настоящему это случилось со мной в первый раз, и я растерялся. Катька вскипятила воду для кофе и поставила на стол вазочку с печеньем. Я не мог слушать ее восторженное повествование о художниках и решил сменить тему. Рассказал, что ходил в Театральную академию и как там здорово.
– Да так, со знакомыми был, – туманно ответил я на вопрос о том, зачем ходил в академию.
– А ты можешь меня отвести туда?
– Не знаю, – неопределенно сказал я и вдруг устыдился. – Конечно, пойдем, если хочешь. Просто я подумал, вдруг тебе все это не покажется интересным…
– Покажется, – сказала она. – Наверняка покажется.
К концу кофепития я уже настолько взял себя в руки, что снова почувствовал интерес к мастерской и прелесть захламленных помещений. Я еще поошивался по комнаткам, потом мы вывели Гамлета на прогулку, а уж затем я отправился восвояси. При прощании Катька робко ко мне потянулась, и я чмокнул ее в щеку. Честно говоря, после пережитого приступа ревности мне не хотелось обниматься. Да и она в непривычной обстановке вела себя как-то нерешительно и ни разу за вечер, что удивительно, не цитировала «Агату Кристи» и не посылала меня куда подальше.
В Петербурге Катька собиралась посетить всемирно известные достопримечательности, а я должен был сопровождать ее. Чтоб не ударить лицом в грязь, дома я собирался посмотреть путеводители и книги по архитектуре, которых у Ди было множество. Но не тут-то было.
Ди смотрела детектив. Перед ней на столе стоял торт и початая бутылка кагора.
– Мусичка приходила, – сообщила она. – Мы тут посидели, о жизни поговорили. Возьми себе чистую рюмку и присоединяйся.
Мусичка – это Марья Михайловна, школьная подруга Ди, женщина верующая и пьющая исключительно церковное вино. Разумеется, эта бутылка была у них не единственной. Пошарив взглядом, я тут же обнаружил вторую такую же, пустую, в уголке за тахтой. Взял рюмку, отрезал себе здоровый кусок торта и присоединился.
– Если матери скажешь!.. – угрожающе произнесла Ди.
– Я же в своем уме.
– Ну ладно, – сказала Ди. – Давай выпьем за мать.
Под молдавский кагор мы досмотрели детектив. Все еще находясь под впечатлением от мастерской Сидоровых, я критически осмотрел комнату. Уж очень она была прибранная и скучная. Книги под стеклом, безделушки в буфете, картина – парусник, кое-какие фотографии и уродливый комнатный термометр, вмонтированный в большой, словно от старинной крепости, ключ.
Я спросил у Ди:
– Что же, у тебя старинного ничего не осталось от бабушки?
– Ты же знаешь, многое в войну пропало. Потом что-то разбилось, что-то разошлось…
– Как это – разошлось? Бабка все-таки не швея-мотористка была, а архитектор. И наверняка у нее в друзьях художники были. Неужели они не дарили ей свои работы? А может, она сама рисовала?
– Про подарки не помню. Но была у нас акварель художника Бенуа, эскиз костюма лешего. Сидит, худенький, как мальчик, в каких-то зеленых лохмотьях. Твоя бабушка его когда-то в комиссионке купила, а я туда же и сдала. Что поделаешь, нужны были деньги.
Да, про лесовичка я уже слыхал. И не только про него, про некоторые старинные книги тоже. Тетка не жалеет вещей, включая памятные, и денег тоже не жалеет. И мама, кстати сказать, вещизмом не страдает. И художественная атмосфера их не влечет. Впрочем, еще сегодня утром она и меня не влекла.
– Тебе мало корабля? – спросила Ди.
В большой вертикальной раме, в мутно-зеленом тумане, раздув паруса, он летел прямо на зрителя. Мне эта картина нравилась, но задержалась она у Ди только потому, что особой ценности не представляла. Подозреваю, ее просто не взяли в комиссионный или предложили смехотворную цену. Висела она высоко, почти под самым четырехметровым потолком, и производила очень приятное впечатление, хотя тетка утверждала, что вблизи – ничего хорошего. Кто нарисовал этот парусник и как он попал в дом, она не знала. История вещей ее интересовала так же мало, как и сами вещи.
– На антресолях что-то лежит. Какие-то картины и рулоны. И всяких рам полно, – вспомнила Ди.
– Так что же ты молчала? Давай разберем. Но если мы найдем что-нибудь ценное, я не дам тебе продавать.
Ди согласилась на днях разобрать антресоли, ненадолго примолкла, а потом задумчиво спросила:
– Знаешь, кто самые счастливые люди в мире?
– Кто?
– Дервиши.
– Это почему же?
– Потому что, отрешившись от всего, идут себе по дороге куда глаза глядят. Где на ночлег остановятся – там и дом. Вся их собственность – старый халат. Отринули они собственность, а потому стали свободны и счастливы.
– Ты что, собираешься отринуть собственность?
– Собственность бывает разная. Можно владеть не только машиной, дачей, пылесосом, но и человеком. Считать близкого человека своей собственностью.
– Это заблуждение.
– Но избавиться от него очень трудно.
– Не задумывался над этим, – сказал я, считая, что это камешек в огород моей матери. Но я ошибся.
– Ну а я думала. Знаешь, как я горевала по Стасику? Я так по нему скучала! А теперь – нет. Не скучаю. Я даже не заметила, как произошло это освобождение. И это не значит, что я меньше его люблю, просто я свободна, не связана страхом потерять свою собственность, ничем не связана.
– Не верится мне в твою теорию. Что-то здесь не так.
– Но я действительно заметила, что перестала по нему скучать, – сказала Ди и заплакала.
Я обнял ее и спросил:
– Но ко мне ведь ты не относишься как к своей собственности?
– Нет. Мы с тобой товарищи, правда? Мы с тобой два дервиша, – сказала она, хлюпая носом и улыбаясь. – Два начинающих дервиша.
Дервишем я не был, даже начинающим. Лежа в постели, я напрасно старался вникнуть в путеводитель. Меня мучило, можно ли назвать мое отношение к Катьке любовью? Сопровождается ли любовь страхом потери любимого? Не этот ли ерах – ревность? Может, ревность то же собственничество?
Через час, выйдя в уборную, я увидел в комнате Ди свет, постучал и заглянул. Она еще не ложилась, сидела за столом и раскладывала пасьянс.
– Очень успокаивает нервы, – объяснила тетка. – И вообще не спится. А знаешь, о чем я тут подумала? У Кати лицо флорентийской мадонны.
– Какой мадонны?
– Что значит – какой?
– Покажи в своих книжках по Италии.
– Не будь занудой! – рассердилась тетка. – Я сказала вообще, а не в частности.
Глава 18
ДВОРЦЫ, КАРТИНЫ И ВЕНЕРА БЕЗ ПАЛЬЦЕВ
Эрмитаж необъятен. Информацию не уложить в голове, впечатления не уместить: наступает такой момент, когда они просто не входят в тебя. Мы провели там целый день, от открытия до закрытия, и «объелись» роскошными залами, картинами, гобеленами и другими предметами искусства.
Поначалу подробно исследовали каждый зал. Катя была здесь впервые, и хотя я убеждал ее, что для подробного осмотра не хватит месяца, она тыкалась носом в каждую витрину и в каждую картину. Я считал: нельзя объять необъятное, приходя в большой музей, надо расслабляться и гулять, получая удовольствие и общее впечатление. Так у нас в конце концов и получилось. Правда, я специально отвел Катьку посмотреть мумию египетского жреца, а на Леонардо да Винчи и Рембрандта мы вышли лишь с помощью смотрительниц: сам я бы не нашел. Но Катька больше всего хотела увидеть импрессионистов. Я даже заподозрил, что она готовится к встрече с юным гением, Борисом, чтоб сказануть чего невзначай о французских художниках, – пусть не думает, что мы, провинциалы, лыком шиты. Я ведь тоже накануне похода в Эрмитаж просмотрел книжку про импрессионистов, чтоб перед Катькой не опозориться.
О Ренуаре Катька сказала: «Фи!» А на мой взгляд, очень приятные у него дамы, легкие и пышные, как пух, мягкие, как пастила, и сладкие, словно карамель. А у Гогена желтые, плоские, будто из картона вырезанные, мужеподобные тетки. Непроницаемые, как индейские вожди. Одна держала увесистый плод величиной с боксерскую перчатку и телосложением напоминала полутяжа. С виду-то она казалась по-коровьему кроткой, но в глазах было затаенное коварство. Я бы не посоветовал шутить с такой. Разозлить ее – мало не покажется. Удар правой в голову – и нокаут!
– Разве захочется обнять подобную женщину? – спросил я у Катьки.
– Гоген болел венерической болезнью, – невпопад ответила она.
– Я думаю, это брехня, сплетни.
– Никакие не сплетни, я по телевизору слышала. Но главное – другое. Я, к примеру, ничего о Гогене не знаю, картин его раньше не видела, зато мне известно, что у него было венерическое заболевание. Это очень грустно.
– У тебя с голодухи приступ самокритики.
– А Ван Гог был сумасшедшим и покончил жизнь самоубийством. Также он был трудоголик, нищий и очень несчастный человек.
– Это тоже по телевизору говорили?
– Нет, я читаю его письма, в мастерской нашла.
Ван Гог мне как раз больше всех и понравился. Он из них самый страстный. А вот всякие анемичные призраки в белесых одеждах, блуждающие в туманных кущах, мне совершенно не по душе. Пикассо меня порадовал тем, что я узнал его картины, виденные на иллюстрациях. Долго простояли перед «Девочкой на шаре», и я разливался перед Катькой про голубой и розовый период в творчестве художника. А его кубики, перемешанные с геометрическими фигурами и половинками скрипок, – ерунда собачья. «Герника» – энергично, конечно, но слишком уж отвлеченно.
– Я люблю предметное искусство. Чем предметнее, тем лучше. А также я не люблю уродства, – сказал я Катьке, и она согласилась.
В картинной галерее на Литейном проспекте я видел выставку одного современного художника. Была там картина «Моя семья». В каком-то мрачном, грязном притоне сидят за столом ужасные монстры с перекрученными харями, кривыми носами и ухмылками. Другая картина – «Мои друзья». В три ряда, как на классной фотографии, стоят дебилы с тупыми рожами убийц. И остальные произведения в том же духе. Ходил я по выставке и думал: если твои друзья и семья такие омерзительные, то каков же ты сам?
Кстати, мне понравился Матисс. И даже очень. Значит, уроды уродам рознь. На лестнице висят два гигантских матиссовских полотна, а на них красные кривые великаны-уроды несутся в пляске по зеленому земному шару на фоне синего неба. И другие красные – сидят на зеленом земном шаре, поют, балдеют. В чем разница между уродами из галереи на Литейном и уродами Матисса, не знаю. Просто первые со знаком «минус», отрицательные, отвратительные уроды, вторые – со знаком «плюс», положительные, замечательные, гениальные.
Импрессионисты нас доконали. Мы еще пытались что-то смотреть, но это было бесполезно. А напоследок я поймал себя на том, что стою, уставившись на красное, как кумач, полотно с белыми буквами, и не могу решить, нравится мне оно или нет. Но это оказалась не картина, а крышка фанерного ящика с надписью: «Пожарный кран».
Когда мы вышли из музея, в башке у меня была полная мешанина, но на другой день всплыли имена, картины, а еще яснее то, что я увидел утром, пока не устал, – малахитовые колонны, царский трон, люстры, похожие на огромные хрустальные рои пчел, беломраморные фонтаны слёз, часы с павлином, серебряная гробница Александра Невского и восковая персона – кукла, изображающая Петра I в парике из его настоящих волос.
Впечатления были приятные, но я понимал, что новая порция прекрасного в меня больше не влезет. Я обрадовался, что и Катька не больно-то стремится к объектам искусства. Она тоже устала. Поэтому три дня мы просто ходили по городу, рассматривали дома и витрины, сидели в сквериках и пили кофе за столиками уличных кафе, а потом возвращались на Чкаловский, в мастерскую, варили макароны и ели их с кетчупом или шли к Ди и нахально очищали холодильник, за что она не сердилась.
Теткина квартира на пятом этаже, и оттуда открывается потрясный вид на два зеленых массива, которые разделяет Карповка, – Ботанический сад и сад больницы Эрисмана. В Ботанический сад мы с Катькой ходили бесплатно, через служебный вход, но и больничный сад был по-своему замечательный, старый, разросшийся среди отдельных зданий клиник и хозяйственных построек. Здесь, рядом с кухней, уже не первый год обитала стая крупных бездомных собак. Мы с Катькой пришли к выводу, что все они находились в родстве, а какая-то их прабабушка была овчаркой. Кухонные работники кормили собак, в округе валялись огромные обглоданные кости от говяжьих туш. Случайный прохожий, наверное, вздрагивал при виде этих зловещих деталей, но мы знали: собаки не агрессивные. Они спали, свернувшись калачиками, под стенами кухни и играли со своими толстыми, неуклюжими щенками.
Однажды мы оказались возле Михайловского замка, когда-то мрачного и таинственного, от чего ныне не осталось и следа, особенно в летний солнечный день. Этот замок был построен для самого странного, самого взбалмошного и, возможно, самого несчастного из всех русских императоров – Павла I. Он так боялся насильственной смерти, что велел соорудить для себя неприступный замок, чтобы скрыться за его стенами. Через сорок дней после новоселья он был в нем задушен.
Мы вошли в строгий граненый двор, и выяснилось, что можно попасть в замок и даже посетить выставку портретов русских царей и их родственников. Мы с большим вниманием на них посмотрели, глубокомысленно рассуждая о том, что в портретах остановилось время, – все эти люди – цари, их жены, дети и царедворцы – еще не знают своей судьбы, а мы уже знаем, что с кем случилось.
После замка я показал Катьке чижика-пыжика, и она бросила в воду монетку. Перейдя Фонтанку, на улице Пестеля я завел Катьку во двор-колодец, узкий, как труба, а дальше отправились по Моховой до Театральной академии. Здесь по-прежнему было много молодежи, очень разбитной и шумной. И я снова пожалел, что не из их компании, не их товарищ, не разделяю их проблем и не смеюсь их шуткам. Катька примолкла: возможно, она испытывала нечто подобное.
Я взял ее за руку, и мы поднялись по лестнице на галерею, к мраморным Аполлону и Венере. Все правильно, в Театральной академии людей должны встречать покровитель искусств и богиня красоты. Только у Венеры, символически прикрывавшей наготу руками, были отломаны пальцы. Невдалеке стояли два бюста сатиров с глумливыми рожами, охальными улыбками и гнилыми зубами. Мы заспорили, случайно здесь появились сатиры или нет. Катька считала – нет.
– Они олицетворяют какую-то грань театра, – сказала она.
– Какую?
– Не знаю. Возможно, сатирическую. Чувствуешь, «сатир» и «сатира» – родственные слова.
– Логично, – согласился я. – А Венере все-таки следовало бы приделать пальцы.
Мы пообсуждали, что еще следовало бы тут сделать. Например, покрасить стены не грязно-салатной масляной краской, а сделать цветную побелку. Стенды убрать. Хотя убирать их нельзя: на них фотографии давних преподавателей и студентов, тех, кто здесь учился и не доучился – не вернулся с войны. Это можно считать семейными фотографиями, историей актерской семьи. И дом этот – актерское гнездо. И какой он есть – он замечательный. И ребята здесь симпатичные, хоть и выпендриваются.
Потом мы пришли в зал с тусклым витражом, не пропускавшим света.
– Ух ты! – сказала Катька, рассматривая скульптуру, макеты декораций и камин с зеркалом.
Я стоял немного поодаль и наблюдал за ней. И вот она приблизилась к стеклу, за которым висело платье. Реакции не последовало, впрочем, в зале было полутемно, и никакая тень Офелии за Катькой по пятам не бродила. Но вдруг она растерянно обернулась и, увидев меня, прошептала:
– Это же…
Она смотрела на меня, словно ждала подтверждения, объяснения, а я молчал.
– Я все поняла, – наконец сказала она. – А вернее, ничего не поняла. Это же наше платье!
Она так и сказала: «наше».
– Это другое. Это костюм Офелии. А наше было сшито по этому образцу.
– Как странно, да? Очень даже странно.
– Я думаю, Люся видела платье или его эскиз. Наверное, она была знакома с Одиноковой О. Только так это и можно объяснить.
Я с трудом увел Катю от витрины с платьем. Мы прошли по канцелярскому коридору, постояли у круглого окошка на каменной винтовой лестнице, потом еще долго шатались по академии, смешиваясь с группами студентов или абитуриентов и изображая, будто и сами причастны к славному вузу. Мы настолько заразились радостной и раскованной атмосферой этого дома, что, увидев парня с ужасающе кислой физиономией около дверей ректората, Катька захихикала, а я, куражась, спросил у него:
– Быть иль не быть?
Его унылая физиономия не изменилась, казалось даже, нос и уголки рта еще больше опустились, но внезапно из него полилась монотонная скороговорка:
– Вот в чем вопрос. Достойно ль смиряться под ударами судьбы иль надо оказать сопротивленье и в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними? Умереть. Забыться. – Неожиданно вместо серого, бесцветного голоса у него прорезался сочный баритон. – Ха-ха-ха! – дьявольски прохохотал он. Развернулся, издевательски элегантно вильнув одним плечом, и стал удаляться вальяжной походкой, как вдруг, словно нога у него подкосилась, присел, а дальше – захромал, захромал. И даже не оглянулся.
Но тут я изумился еще больше, потому что услышал:
– И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу, – негромко, но взволнованно декламировала Катька. – Это ли не цель желанная? Скончаться. Сном забыться. Уснуть… и видеть сны?
– Ну ты даешь!.. – только и мог я вымолвить.
Она хмыкнула. Тогда мы стали смеяться, и смеялись до изнеможения, животы держали.
Еще в тот день мы посетили церковь Симеона и Анны в конце Моховой. Катька купила свечки, и мы поставили их перед распятием, где уже цвел веселый садик огоньков. Их столько, сколько людей в последние пять минут зажгли их, вспомнив ушедших родных. Какое, должно быть, утешение для человека – верить в Бога, вечную жизнь и предстоящую встречу с близкими.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.