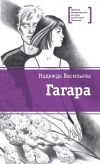Текст книги "Ведьмины круги (сборник)"

Автор книги: Елена Матвеева
Жанр: Детские приключения, Детские книги
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
У входа в ресторан, на просторном газоне, начавшем весело зеленеть, стояли, сидели и лежали скульптуры из серого камня. Невольно напрашивался вывод: Талицы хотят сделать туристским центром, иначе не отгрохали бы такой ресторан.
Мы вышли на невзрачном автовокзальчике, тут же сели на городской автобус и ехали совсем недолго. На остановке Динка заволновалась, заюлила. Мне не надо было спрашивать дорогу, я шел за ней и, когда она остановилась у калитки, понял: мы у цели.
– Вот и вернулась ты домой, – сказал я Динке.
Я открыл щеколду, и тут же звякнул далекий колокольчик в доме. Дорожка от калитки выложена кирпичом, идет между черными пышными, готовыми к посадке или уже засаженными грядами. У самого дома желтеют нарциссы. Навстречу мне раскрылась дверь. Невысокая плотная старуха крикнула:
– Альма!
Динка побежала к ней, но не бросилась передними лапами на грудь, как положено, а ткнулась мордой в подол. Старуха не нагнулась к собаке, не погладила, она смотрела на меня и плакала. Совершенно дикая ситуация: что же, броситься обнимать новоявленную бабку?
Пока я раздумывал, она сама подошла, неловко обняла меня и поцеловала, обмазав своими слезами. Я ее тоже приобнял. Одета она была по-домашнему: в футболку из комплекта теплого мужского белья, вязаную полосатую безрукавку, поверх юбки – передник.
Старуха повела меня к дому. На крыльце опустилась, будто ноги не слушались. Подбородок дрожал. Мне стало ее жалко, но я не знал, что предпринять. Она гладила Динку, приговаривая: «Альма, Альмушка…» Динка сидела присмиревшая. Наконец бабка взяла себя в руки и сказала:
– Хорошо, что мама тебе рассказала. Я ждала тебя. Правда, я надеялась, что она тоже приедет. – Старуха поднялась и на пороге проговорила: – Вот дом, где ты должен был расти. Не в пионерлагерь ездить, а сюда. Не бог весть что, но, если бы ты здесь рос, ты бы любил этот дом.
Тон ее показался мне несколько напыщенным, и я не мог поручиться, что не было здесь скрытого упрека. А если упреки продлятся, как предложить ей Динку?
Она, конечно, права: я должен был здесь расти. И она – единственная бабушка, которая могла бы быть моей. У новосибирской были свои внуки, которые жили с ней. У белорусской, можно считать, не было внуков: меня возили только на похороны к ней.
– Как мама поживает? Все такая же энергичная и красивая? А Зоя как, сестра? Замуж не вышла? Милый человек Зоя, безобидный. По характеру она лучше матери, мягче, а тоже счастья нет.
Меня коробит, когда обсуждают мою мать, когда говорят о ней не только приятное. Я могу это делать, другие – нет. Но вроде бабка и не сказала ничего порочащего, вот только эта интонация – объективная – мне не очень понравилась.
– Идем, – позвала она.
Из коридорчика мы прошли в комнату с круглым столом и старым абажуром. В застекленной фанерной надстроечке буфета стояли разнотипные чашки и рюмки. У дивана была спинка с полочкой, а на ней, вперемежку с минералами, маленькие фарфоровые уточки, белочка, лягушка, свинья, что-то невнятно напоминавшие мне. На стене висели часы с маятником под стеклом и барометр.
– Здесь моя спальня. – Старуха показала комнатушку, где умещались кровать и этажерка с книгами. – А вот кухня.
Газа на кухне не было. В углу – печка, на табуретке – электрическая плитка. Зато водопровод был. Бабка наполнила чайник и поставила на плитку.
– Обедать вроде рано, – посоветовалась она. – Чаю попьем?
– С удовольствием, – ответил я. – Давайте помогу.
– Помогать пока не надо. И не выкай. Я ж не чужая.
Я сел, чтобы не мешать ей передвигаться по маленькой кухне. Чувствовал себя скованно. «Побуду немного и уеду», – решил я.
К лицу ее я уже присмотрелся. Была в нем какая-то мягкая, пластилиновая бесформенность, разглаженность между морщинами. На скулах румянец из тонких красных жилок.
Я подумал, что уеду и забуду это лицо, не удержать в памяти и не представить, какое оно было в молодости. На Румянцева не похожа. Нет его светлых, простодушно и открыто глядящих глаз. И у меня нет.
Она нарезала сыр, хлеб, налила в вазочку меду, положила масло в масленку.
Керамическая глазурованная масленка была сделана в виде плетеной корзинки, а на крышке вылеплены грибки с красными и коричневыми шляпками. Есть вещи, которые почему-то нравятся, на них приятно смотреть, и вдруг мысль: «Я и раньше видел ее, водил пальцем по гладким холодным грибкам. Где? Когда?»
Бабушка заварила чай, вручив мне тарелки, велела:
– Отнеси в зал.
Когда сели за стол, я уже освоился. Время от времени поглядывал на масленку и неожиданно для себя задал вопрос, хотя ответ был известен:
– Вы, то есть ты, так и живете здесь одна?
– Так и живу. Но ты не бойся, опекать меня не надо. А станешь приезжать – не по обязанности, конечно, – буду рада.
Так мне и надо за бестактность. Осадила. Лицо у нее мягкое, а характер, видать, твердый, конкретный характер. Кто она, интересно, по профессии, кем работала до пенсии? По внешности ничего не скажешь. Не удивлюсь, если она цветами торгует из сада, морковкой, укропом…
– А я тебя другим представляла, – неожиданно сказала бабка и улыбнулась. – Витя был сильный, жилистый, но на вид хрупкий, невысокий.
– Кем ты была? – спросил я у бабушки. – По профессии?
– Спроси лучше, кем я не была! – засмеялась она.
Бабушка родилась в семье сельского фельдшера. Десятилетку кончила, а по тем временам это было изрядное образование. Сначала она учительствовала в селе, потом работала бухгалтером. Народным заседателем была в суде. В войну на заводе и в госпитале работала. После войны – корректором в типографии, а потом глаза стали слабеть, перешла на телефонный узел, оттуда – на пенсию.
– Я и сейчас работаю, – сказала бабушка. – В больнице, санитаркой. Иногда зарабатываю ночной сиделкой у тяжелых больных. Совсем, знаешь, спать не хочется: старческая бессонница. Лежу, глаза в темноту пялю и думаю, думаю. А мне не надо думать. Как говорят, тяжел крест, да надо несть…
Я понял, что это она о смерти сына.
– Ты обижена на маму? – спросил я.
– Какие обиды? Оба виноваты. Промаялись всю жизнь.
– Как – промаялись?
– Вместе тесно, врозь – скучно.
– А почему они разошлись? Мама объяснила, но я так и не уяснил, – соврал я.
Бабушка замялась, вздохнула, словно обдумывая, стоит ли со мной обсуждать эти вопросы, а потом сказала прямо, что мать моя хотела нормальной, благополучной жизни, а Румянцев мотался по экспедициям. Она не стала с ним ездить. Дома был вечный «постоялый двор», останавливались и жили друзья, знакомые и незнакомые, которых матери приходилось обихаживать и кормить. А Румянцев еще и деньгами швырялся. Не выдержала мать. Разные они были люди.
– А ты что, не помнишь, как у меня жил? – огорошила меня бабушка.
– Не помню, – сказал я, и тут же всплыла картина: желтая дощатая стена; косой потолок под крышей, по которому бегают солнечные зайчики; зеленый потертый, как весенняя шейка селезня, ковер у кровати.
– У тебя есть зеленый прикроватный ковер? – волнуясь, спросил я.
– Есть! – обрадовалась бабушка. – Два, одинаковые. Ты помнишь?
Так вот они, странные видения-воспоминания, которые приводили меня в недоумение. Будто сны, тени другой жизни. Стена, потолок, ковер…
Я один. Пытаюсь встать на ноги, но они не слушаются, подгибаются под тяжестью тела, как ватные. Дотягиваюсь до кровати и хватаюсь за покрывало. Принимаю вертикальное положение. Когда стоишь – мир другой. В чем разница, не помню, а может, объяснить не могу, но она очень существенна. Делаю шаг, второй шаг, отпускаю никелированную ножку кровати. Снова на четвереньках. Опять хватаюсь за кровать и встаю. Может, мне год, а может, меньше. Солнце, ковер и попытка выпрямиться. Тяжелые усилия, туман сознания, беспомощная оболочка, в которой я существую…
– Как же я у тебя оказался? Сколько мне было?
– Первый раз около года, второй – года три. Они сходились и расходились, а я надеялась, что все утрясется, она останется. Не виню я ее, не оправдываю его. Понимаешь?
– Понимаю.
Мы поднялись по лестнице из коридора. Спальня наверху с дощатыми стенами, скошенной крышей, с зелеными, как трава, но сильно вытоптанными ковриками у кроватей друг против друга.
Комната из детских снов.
Бабушка открыла дверь напротив и подтолкнула меня. Это была его комната. Те же дощатые стены и скошенный потолок, полосатая дорожка от двери к окну. Перед окном – стол. Пепельница – чугунная голова собаки с разверстой пастью, фигурка Дон Кихота. Карандаши, ручки, ножницы в стаканчике. В деревянной настольной рамке фотография мамы: молодая, веселая, и прическа времен ее молодости – начесанная башня волос. А с другой стороны в такой же рамке – мама держит меня на коленях.
Не за этим ли столом я рисовал сову для моего отца – Прохорова, а мама писала с моих слов: «Папочка, я по тебе соскучился…»
На самодельных полках – книги. Карты Севера на стене. В углу – кресло, и в нем гитара стоит. Над кроватью портрет Румянцева. Совершенно непередаваемый взгляд, человек с таким взглядом не может быть низким, мелким, скучным.
– Я здесь ничего не трогала, только портрет повесила после его смерти. – Бабушка стояла в дверях, смотрела на комнату и на меня.
Потом мы ходили по саду, по рыхлой, дышащей земле между грядок и яблонь. На обед варили картошку и ели ее с квашеной капустой и огурцами. И снова пили чай с медом.
Бабушка сказала:
– Обидно, что ты не знал его. Виктор к детскому садику ходил на тебя посмотреть и к школе. Юра ему помогал, знаешь Юру Иванюка, их однокурсника? А соседи были уверены, что ты сын Прохорова. Рожала Лида в Новосибирске, а к тому времени она уже официально была Прохоровой.
– А он знал?
– Дмитрий-то? Как же не знать? Все он знал. И записал тебя на свое имя. А когда она уходила к Виктору – ждал. И она возвращалась. Конечно, надо и Дмитрия понять: он тебя растил, ты ему сын.
Я больше не торопился домой. И вообще успокоился. У матери во всем вечная спешка, я к этому привык. А бабушка была по-деревенски спокойна и нетороплива. Но и копушей не была: руки ее сами делали дело, она не подгоняла их, а получалось быстро и без дерганья.
Я рассказал бабушке о Москве и Динке, не насилуя себя, будто о само собой разумеющемся. И так же естественно она отнеслась к моей просьбе.

– Давай попробуем, – сказала про Динку. – Но она же не осталась здесь без Виктора. Надо ее запереть, когда будешь уходить.
– Я вообще-то не думал ее сегодня оставлять.
– А чего тянуть? Отведем ее в Витину комнату.
Динка лежала на крыльце, я позвал ее, за мной она поднялась на второй этаж и переступила знакомый порог. Присела, потом стала ходить по комнате, как человек, осматривающий, что изменилось в его отсутствие. Мы с бабушкой вышли и закрыли дверь. В комнате стояла тишина. Может, Динка думала, что сюда придет Румянцев? Теперь мне надо было уезжать.
Провожая меня, бабушка сказала:
– Ты похож на отца, – и замялась, – я имею в виду Виктора.
– Я искал сходство по фотографиям и не заметил.
– Пока у тебя выражение лица глуповатое. Щеки пухлые. А вот увидишь, лет через десять, как оформится физиономия, очень похоже будет.
Я совсем размягчился, обнял бабушку, пообещал:
– Приеду в конце мая. Пусть Динка попривыкнет.
– Лиде передай спасибо, что рассказала тебе. И скажи, что жду ее.
Я ехал в автобусе и думал: когда-то кто-то говорил про мое лицо – доброе и умное. Но я ничуть не был разочарован, услышав от бабушки про глуповатое выражение. Улыбка растягивала губы, как я ни пытался ее сдержать.
На другой день я все думал про бабушку. А лицо ее смутно помнил. Надо в следующий раз посмотреть старые фотографии – ее в молодости и других родственников. Ведь, наверное же, у меня был и дед, отец Румянцева. Как же я про него не спросил?
Удивительно, что мои воспоминания ограничились прикроватным ковром и дощатыми стенами. Масленка выплыла из каких-то неведомых глубинных слоев памяти, фарфоровые зверушки, но для этого нужно было их увидеть. Румянцев, бабушка, сад, кабинет с книгами и чугунной фигуркой Дон Кихота не запечатлелись. Как странно, даже страшновато!
Мне хотелось вернуться в бабушкин дом, а может, и пожить там.
Вечером произошли два события.
Мама нашла свою цепочку. Она спокойненько лежала в «стенке», в хрустальной чаше. Мама удивлялась, как она могла ее туда положить, и пыталась вспомнить, когда последний раз надевала цепочку, – хотела таким образом воспроизвести ее путь до чаши. А я думал: «Как же я обманулся! А может, я сам не очень хороший человек, если мог заподозрить в воровстве любимую (тогда любимую!) девушку? Нельзя подозревать, если любишь, это тоже предательство. А вернее всего, я был не прав, когда смолчал у нее дома, увидев цепочку. Но как было сказать?»
И тут в голову мне пришла подлая мысль: «Цепочка появилась после визита Марьяны».
Я чувствовал себя подонком, и я следил за матерью: не связывает ли она появление Марьяны и обнаружившуюся цепочку? А еще я стал вспоминать, как появилась у нас Марьяна, могла ли она, проходя через большую комнату, подбросить цепочку в чашу? Кажется, открыла ей мама, а ушла она внезапно, заплакала и выбежала, я и не провожал ее, только позже дверь закрыл. Зачем она приходила? Помириться хотела, мосты навести? А может, из-за цепочки и приходила?
Опять начались изматывающие «ведьмины круги». Но тут случилось второе событие этого вечера.
Я услышал знакомое поскребывание, открыл дверь – и Динка бросилась мне на грудь. Она проявляла бурный восторг, и я обрадовался тоже. А потом подумал: «Намучаюсь я с ней, я ее нигде не пристрою. Что же делать?»
Марьяна ко мне больше не подходила. А я смотрел на нее и недоумевал: что я в ней такого находил? Без любви значительно удобнее жить, а главное, времени очень много высвобождается. Наверное, это и не любовь была, иначе не могла же она так быстро кончиться?
Почти ежедневно ко мне наведывались ребята. Я рассказывал им про рыб. Васе нравятся скалярии, говорит, что они движутся как парусники в море, строгие, невозмутимые. Зато Лёсик обожает смотреть, как дерутся петухи и макроподы. И всем троим по душе Динка.
В воскресенье я собрался ехать к бабушке. Во-первых, я боялся, что она за Динку волнуется, разыщет нас и приедет: она ведь думает, что мама все знает. Во-вторых, почему-то захотелось снова ее увидеть.
А в субботу зашел на Пушкина. У Аллы в дверях торчал конверт: «Саше Прохорову». Письмо прочел тут же, на лестнице. Алла коротко сообщала, что уехала до осени в экспедицию, в Архангельскую область, и чтобы я написал ей, был ли у бабушки.
Очень грустно мне стало у пустой запертой квартиры. Отправился домой, а там наткнулся на Лёсика – слоняется по улице, скучает, говорит мне задумчиво:
– А Марьяна на чердаке с Сережкой целуется.
У меня кровь к голове прилила, прямо дурно стало: ярость и слабость.
Я направляюсь к синему обшарпанному дому с серыми наличниками и балконами. На верху двускатной крыши рядком голуби сидят. Ноги не несут меня, остановился на скрипучей лестнице и вижу: Лёсик рядом стоит.
– Тише ты, – говорит и палец к губам прикладывает.
Я стараюсь ступать неслышно, но ступени визжат; миную площадку второго этажа, еще один лестничный марш – и я у деревянной двери.
Лёсик встает на колени возле дырки от выломанного внутреннего замка и манит меня рукой. Бессильно опускаюсь рядом, ничего не вижу. Мне кажется, у меня дыхание останавливается. Тогда я поднимаюсь и с силой рву на себя дверь. Крючок вылетает с гвоздями и, повиснув на колечке, позвякивает.
С минуту проходит, пока я с порога вглядываюсь в темноту. Сначала слышу: «Выйди вон! Это низко – подглядывать!» Потом вижу: она вскакивает с дивана, натягивая на себя одеяло, из которого клочьями лезет вата, но, запнувшись за него, падает на щебень. На диване кто-то сжался и молчит.
Я ору не своим голосом:
– Дрянь! Дрянь поганая!
Крючок все еще покачивается, а я уже бегу вниз. В глазах – туман. Сбоку семенит перепуганный Лёсик.
У дверей уже все наши собрались, Юра и Вася, но я прохожу мимо, не обращая внимания. Только слышу, как Юра угрожающе говорит у меня за спиной:
– А по ушам?
Тогда я оборачиваюсь и говорю:
– Оставь его, он маленький – не понимает.
Я куда-то иду, почти бегу, и вдруг вспоминаю, как во Дворце культуры я впервые ее целовал, а она не смутилась, и не сопротивлялась, и по морде мне не дала. Что же это? Земляничка! Чистая, как раннее утро! Она хочет роль одну сыграть? Джульетту она хочет сыграть… Еще вчера я радовался, что так просто и безболезненно кончилось мое любовное приключение и Марьяна мне не нужна. А сейчас зубами скриплю, убил бы ее! Манекенщица!.. Проститутка!..
Не заметил, как остановился у старого тополя на набережной. Кто-то тронул меня за рукав. Лёсик.
– Ты не сердись, – сказал он. – Она же сама просила, и я пошел к тебе и сказал, что она целуется с Сережкой. Даже заставила повторить, чтоб не перепутал.
– Черт возьми, черт возьми!.. – повторяю я как идиот и тру костяшками пальцев ребристую кору тополя, со всей силы, до крови.
Очень люблю ездить в автобусе. Самолетом я летал дважды. Под окошком простирается снежная степь, то ровная, как покрывало, то округло-бугристая. Мертво и призрачно. В этой заоблачной степи даже колокольчик не зазвенит однозвучно. Наверное, в настоящей пустыне или на Северном полюсе не так одиноко.
В поезде лучше. Но уж потянутся леса, и леса, и леса… И что за цветы там у насыпи растут, едва догадаешься, а уж все ползающее и бегающее в траве вообще скрыто. Города заслонены зданиями вокзалов. Деревни – снегозадержательной лентой елей. Как игрушечные коровы на пастбищах, и снова леса, поля, одинокие железнодорожные домишки со смородиной и георгинами у крыльца.
Вот когда едешь автобусом по шоссе, жизнь рядом. Лес, кажется, вот он, руку протяни. И тропинки, по которым можно туда углубиться, вот они. Пролетают над полем стаи птиц, как взмах воздушного покрывала. А теперь справа река, но ее не видно. Только над зарослями прибрежного сухого тростника проплывает маленький треугольный флажок на мачте.
Бабушка встретила меня на крыльце.
– Альма вернулась? А я тебя ждала. С самого утра пироги пеку.
– Откуда ты знала, что я приеду? – спросил я, чувствуя, что глуповатая улыбка расползается по моему глуповатому лицу.
– А вот уж знала. Предчувствие у меня было.
Мы пили чай с пирогами, а потом бабушка показала мне семейные фотографии, начиная с дореволюционных, на толстых картонках с вытисненными фамилиями и адресами фотографов.
Мой дед, муж бабушки, погиб на фронте. Правда, к тому времени у него была другая жена. Развелись они перед самой войной.
В сорок седьмом бабушка собиралась замуж за какого-то инженера, два месяца они прожили в этом доме, а потом бабушка инженера выгнала. Она не объяснила, почему он не оправдал ожиданий.
Виктор Румянцев родился в сороковом году, болел костным туберкулезом. После этого он всю жизнь немного прихрамывал. Однако это не помешало ему получить первый разряд по туризму и работать в геологической разведке.
– Он очень здоровый был и выносливый. Он только и болел в раннем детстве, но это от войны и голода. А потом я горя с ним не знала, – сказала бабушка. – Только вот пить он стал в последнее время. Думала, может, на работе неприятности или мучается из-за Лиды, из-за тебя. А он, видать, свою болезнь чувствовал. А может, боль заглушал? Он не жаловался, а у него голова болела, и не просто болела…
Бабушка просила Румянцева не пить, он обещал, но не выполнял обещаний. А потом мальчишки, с которыми он водился, устроили собрание и предъявили ему ультиматум – потребовали сухого закона. Отношение мальчишек на него очень подействовало: перестал пить. А вскоре после этого попал в больницу и домой уже не вернулся.
Румянцевские мальчишки, оказалось, у нас в городе живут, а не в Талицах. Один уже успел уехать, поступил в морское училище в Ленинграде[2]2
Сейчас Санкт-Петербург.
[Закрыть]. Присылает бабушке открытки к праздникам.
Она дала мне его адрес.
– А ты не хочешь пожить в Витиной комнате? – неожиданно спросила она.
И тут я признался, что матери о смерти Румянцева неизвестно и мне она ничего не говорила.
– Знаю, – спокойно сказала бабушка.
– Откуда? – изумился я.
– Письмо получила: Виктору от Лиды. Я думаю, что она его не забыла. Твоему отцу, Прохорову, – уточнила она, – тяжело, наверно, было с ней жить. Любил ее, вот и терпел. А Лидушка до сих пор любит Витю и не знает, что он уже далеко.
Оказывается, мать писала Румянцеву. Не очень часто, но все прошедшие годы и до сего дня. Бабушка сказала, это очень хорошие письма, там все лучшее, что есть в матери.
– Эти письма можно печатать в газете, чтобы люди читали и плакали.
– Почему плакали? – не понял я.
– Потому что жалко. Ее жалко, его. И над своей жизнью заодно плакали бы.
Она думала, как поступить с письмами. Матери отослать – уничтожит. Тогда бабушка собрала их, завязала в пакет, а два, пришедшие после смерти Румянцева, не распечатывала.
– Собираемся жить с локоть, а живем с ноготь. Мало ли со мной что случится? Вещи растащат – бог с ними, а представь, как бумаги, письма, фотографии разбросаны по дому, по саду, ветер их носит… Я такое не раз видела. А тут приехала к Вите на кладбище, там женщина мне и говорит, что мальчик с собакой на могилу ходит. Стала тебя ждать. Пока не увидела, боялась, что окажешься вроде нынешних, патлатых. Им мотоциклы и магнитофоны нужны, плевать им на какие-то бумажки. С другой стороны, думаю, был бы ты как эти, Альма к тебе не привязалась бы. Ну а когда увидела, тут уж поняла: с бумагами решать тебе. Надо бы маме рассказать о Викторе, и пусть бы они с Дмитрием посмотрели статьи и диссертацию: они все же специалисты. А материнские письма, если со мной что случится, на твоей совести. Сохрани. И обещай: прочтешь их, когда сам будешь отцом, и тогда решишь, как поступить. Обещаешь?
Я обещал. А бабушка добавила, что такие письма надо детям и внукам передавать. А в бумагах отца я могу разбираться хоть сейчас и остальные письма, кроме материнских, могу читать: они уже никакие не личные, зато помогут мне лучше узнать Румянцева.
– А Виктор отвечал матери? – спросил я. Бабушка ужасно заинтриговала меня.
– Наверное. А вот встречаться – не думаю, чтобы встречались.
– Дела-а… – только и сказал я.
Возвращаясь из Талиц, я ломал голову, как столько лет не подозревал об истинной жизни своей семьи, воображал мать счастливой, деловой и холодноватой от красоты и гордости. Неужели ее могло волновать что-то, кроме работы, благополучия семьи и уюта в доме? Невероятно! И все-таки я сразу поверил в ее любовь к Румянцеву и в то, что она может писать какие-то особенные, прекрасные письма. И почему-то не оскорбился за моего отца Прохорова.
Мне было чуть-чуть грустно, самую малость. От автобуса я пошел по городу пешком. Вечер был под стать моему настроению – тихий, теплый; солнце еще не зашло. В домах женщины мыли окна, и скрип чистых стекол под размашистыми движениями рук звучал как птичий хор.
Аннушка сказала, чтобы я поднажал с учебой, потому что в последнее время не очень старался, через месяц выпускные, а в классе я единственный потенциальный медалист.
Я и поднажал. Спокойно, делово. Выпускные сдал на пятерки.
Теперь можно было вплотную думать о Москве. Но как быть с Динкой?
Лёсик просил оставить ему собаку. Мама предлагала отдать ее сослуживцу: тот жил в своем доме, и у него убили сторожевую собаку. Посадить Динку на цепь? Но если она не осталась у бабушки, вряд ли она станет жить у Лёсика, а тем более в будке у чужих. Был и еще один, вероятно беспроигрышный, вариант: рассказать все матери и оставить Динку дома. Но я оттягивал разговор, смотрел на родителей, и страшно было разрушать их покой и привычную жизнь.
На выпускной вечер я явился без всяких сентиментальных чувств. После торжественной части собрался было поехать в свою прежнюю школу. Но зачем? Отдалился я от старого класса, да и к новому не приблизился.
Игорь Инягин предложил праздновать у него, а с рассветом выйти за город, на Сторожевую гору, встречать солнце. В его распоряжении двухкомнатная квартира, родители уехали на дачу. А еще у него есть шампанское, и мать оставила кастрюлю винегрета.
Собрались человек десять и отправились в магазин покупать хлеб, сырки, консервы. Наверное, я шел с ними по инерции, все равно деться некуда, а к Игорю я хорошо относился. Но и у других, мне кажется, не было более веских причин собираться вместе.
Я не сразу заметил, что Марьяна идет с нами. Разряженные девчонки оживленно болтали, а она осталась в стороне, не вписалась в компанию. На ней была знакомая мне красная кофточка Землянички.
Я подошел к ней, спросил, как настроение.
Странно, еще весной я ее целовал, потом ненавидел, потом она перестала для меня существовать. Кажется, будто не четыре месяца прошло, а целая жизнь.
– Ты едешь в Москву? – спросила она.
– Да. А ты будешь поступать?
– Это не важно.
«Дуется», – решил я.
Тут мы пришли к Инягину. Девчонки стали готовить бутерброды в кухне, наш спец по року запустил музыку, а я, признаться, физически не приспособлен к громкой музыке – плохо ее переношу. Я рассматривал корешки книг в «стенке», как вдруг увидел в стекле, что Марьяна вошла в комнату, и обрадовался. В это время выстрелила пробка. Инягин разливал шампанское, а оно не хотело вмещаться в фужеры, вылезало пеной на стол.
– Девчонки! – орал Инягин. – На минутку сюда! «Поднимем бокалы, содвинем их разом!» Ура!
Визг, писк, звон стекла, и тут у самого своего плеча слышу спокойный голос Марьяны:
– Я тебе хочу что-то сказать. Выйдем на балкон.
– Выйдем, – согласился я, и почему-то учащенно забилось сердце.
Мы выпили шампанское, оно щекотало горло, и пока мы шли к лоджии, мне вдруг все представилось немного в ином свете. Что ж с того, если она путала свои мысли и чужие? И украшение, спрятанное в столе под газетой вместе с фотографией отца (если даже, допустим, она его брала), было для нее символом другой жизни, частичкой красивой и счастливой, как она думала, женщины, моей матери. Что-то такое я почувствовал, приблизительно такое. И жалость с нежностью снова потянули меня к ней, еще больше потянули. Это была моя девушка, земная, несовершенная, и я сто лет не видел ее, не прикасался к ней. Сегодня наша ночь, а утром мы вместе встретим солнце.
Лоджия была захламлена пустыми банками, бутылками, лишним в квартире. У решетки – зеленая дружная поросль помидоров. Ветерок шевелил тюлевую занавеску со стороны комнаты. Я закрыл дверь и дотронулся до мягких блестящих колечек волос, положил руку на ее талию. Я не собирался этого делать, но опять начался магнетизм. Щека у нее была прохладная и упругая, а лицо Марьяна все-таки отвернула от моих губ.
– Ты назвал меня дрянью.
Я почувствовал, что краснею. Совсем не собирался просить прощения, наше прощение должно было быть обоюдным.
– Ты не можешь представить мое тогдашнее состояние! – волнуясь, стал оправдываться. – Но ведь все кончилось? Все плохое…
Она оторвала от себя мои руки и отошла в конец лоджии, а я опустился на посылочный ящик.
– Ты обманул меня! – жестко сказала она.
Вот те раз! Я даже попробовал ухмыльнуться и перевести все в шутку. Наверное, надо выдержать эту дурацкую театральщину, чтобы помириться. А еще мне вспомнилось ее смешное: «Низко подглядывать!»
Марьяна зачем-то стала рассказывать, как в детстве вскрыла елочный картонаж – Деда Мороза. Она думала, уж если в хлопушках есть сюрприз, то в мешке Деда Мороза обязательно спрятан подарок. Разодрала его и, разумеется, ничего между двух картонных половинок не обнаружила. Тогда она разорвала мешок у ватного Деда Мороза и снова ничего не нашла. Тогда она стала бить стеклянные игрушки с елки, просто от злости, потому что обманули. А потом били ее за это.
– Ты сам дрянь! – четко выговорила Марьяна. – Дед Мороз!
Глаза у нее стали как из жести. Она не мириться пришла. Она ненавидит, она убить меня готова. И тут я испугался.
– У меня такое произошло весной… – залепетал я. – Ты же не знаешь, что со мной случилось!
Она не слушала.
– Решил, что со мной можно все продолжить? А завтра заорешь, что я потаскуха?!
– Что я сделал тебе? – Голос у меня дрожал.
– Не понял? Жаль.
– Подожди, – униженно просил я, – мне нужно тебе объяснить. Мы не можем расстаться так…
Марьяна оттолкнула меня, ударила по руке, когда я хотел задержать ее, и, прямая, непреклонная, прошла мимо меня, мимо суетящихся в комнате ребят, а через минуту я увидел, как она появилась из подъезда и, какая-то сжавшаяся, сгорбленная, почти бегом направилась через садик.
Инягин похлопал по плечу:
– Что она от тебя хотела? Она вообще странная девка.
Я тихонько выскользнул из квартиры, осторожно прикрыл дверь. Марьяны уже не было, да и догонять ее было бессмысленно.
Я бежал по городу. Как буйно цвела во дворах сирень и как одуряюще пахла! Городской сад весь светился сиренью. Она здесь всех оттенков – от розового до синего. Я сел на скамейку и закрыл глаза. Было часов десять вечера. В саду играл духовой оркестр, и везде слышались голоса и смех. Кто-то хотел занять скамейку, не увидев меня из-за сирени, ойкнул, фыркнул. Засмеялись и ушли.
Запах был невыносим, сильный и томный. Надо мной висели отцветающие кисти сирени. И я недоуменно подумал, что в полном праздничном цветении уже есть все, включая сладостный запах тлена.
Сколько потерь за последнее время! А что найдено?
Мне ничего не оставалось делать, кроме как пожитки сложить и уехать отсюда. Но как быть с Динкой?
Я должен решать свою судьбу. При чем здесь собака? Неужели ради собаки ломать жизнь? Мне было тошно на нее смотреть. Динка это чувствовала, ходила с виноватым видом. В это лето я узнал, что такое бессонница.
Откуда Динка свалилась на мою голову? Это ужас какой-то! Я ненавижу себя. И всех. И собаку. Я хочу ее предать. А иначе мне придется предать самого себя, свои мечты, свое будущее. Разве это равнозначные вещи?
Только в сказках о принцах и розах пишется: «Ты навсегда в ответе…» А принц оставляет и розу, и Лиса, и никто его в том не винит. Бабушка говорит: «Никто не виноват». А ведь все перед всеми виноваты. Румянцев предал меня, моя мать предала Румянцева и их любовь. Думали они про ответственность за прирученных?
А теперь надо мать казнить – рассказывать эту бредовую историю с ее первым любимым мужем и собакой. Я пробовал, начал с того, что придется Динку оставить дома, а она покачала головой:
– Мы с папой решили взять отпуск в октябре и уехать. Мы же никогда не отдыхали вместе. Отдай Динку ребятам, освободи ты меня, вспомни, что ты обещал, когда привел ее осенью.
И в самом деле, они никогда не проводили отпуск вместе. И я должен это порушить? Может быть, мать начала освобождаться от Румянцева, может, ОТТУДА он не мог так сильно притягивать ее сердце: ослаб магнит?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.