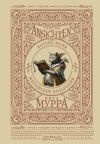Текст книги "Житейские воззрения кота Мурра"

Автор книги: Эрнст Гофман
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Значит, целебна была катастрофа, освободившая тебя от уз! – воскликнул тайный советник.
– Нет, это не совсем так, – возразил Крейслер. – Освобождение пришло слишком поздно. Со мной было, как с тем заключенным, который после долгого сиденья в тюрьме был, наконец, освобожден, но до такой степени отвык от людской суеты, от яркого света, что не мог уже больше наслаждаться золотой свободой и предпочел вернуться назад в свое заключение.
– Это все ваши выдумки, Иоганн, – вмешался в разговор мейстер Абрагам, – вы мучаете ими и себя, и других. Подите вы! Судьба всегда чрезвычайно благоволила к вам. Но вы никогда не хотели стремиться вперед по прямой дороге, вам нужно было бросаться то влево, то вправо; кто ж виноват в этом, кроме вас самих? Но вы правы в одном: в дни вашего детства над вами горела необыкновенная, особенная звезда, и…
Раздел второй
Жизненные испытания юноши
И я родился в Аркадии
(М. прод.) …Однажды мейстер воскликнул, обращаясь к самому себе: «А ведь было бы забавно и в то же время необыкновенно достопримечательно, если бы маленький седовласый герой, живущий под печкой, обладал всеми качествами, какие приписывает ему профессор! Гм! Думается мне, что он мог бы тогда обогатить меня гораздо больше, чем моя невидимая девица. Я запер бы его в клетку, и он должен был бы показывать свои искусства перед целым светом, который охотно бы заплатил за это хорошую дань. Научнообразованный кот всегда может сделать и сказать гораздо больше, чем скороспелый юноша, напичканный различными экзерцициями. Кроме того, у меня был бы всегда даровой переписчик! Нужно хорошенько исследовать этот вопрос!»
Услыхав слова мейстера, я вспомнил предостережение незабвенной матери моей Мины и, тщательно остерегаясь выказать, что я понял мейстера, твердо решился скрывать свое образование. Я стал читать и писать исключительно ночью, и с благодарностью могу засвидетельствовать при этом, что я увидал особую благость Провидения, даровавшего нашему презираемому роду много преимуществ в сравнении с двуногими существами, которые, бог знает почему, считают себя царями мироздания: когда я занимался по ночам, мне не нужно было ни свечей, ни фабрикации из масла, так как фосфор моих глаз ярко светил в ночной тьме. Несомненно, следовательно, что мои сочинения свободны от упрека, сделанного какому-то античному писателю, что именно произведения его ума пахнут копотью лампы. Но, будучи твердо убежден в высоком превосходстве, дарованном мне природой, я должен, однако, сознаться, что все здесь, на земле, заключает в себе некоторые несовершенства, которые опять-таки находятся в тесной между собой зависимости. О физической стороне нашего «я», которую врачи никогда не называют естественной, хотя она кажется мне вполне естественной, я совсем не буду говорить, а замечу только о психическом нашем организме, что в нем также замечаются несовершенства, соподчиненные между ними отношения. Разве не верно, например, что наш полет нередко задерживается какой-то свинцовой тяжестью, относительно которой мы не знаем, что собственно она из себя представляет, откуда появляется и кто ее нам навязывает.
Будет, однако, лучше и справедливее, если я скажу, что все зло проистекает от дурного примера; слабость нашей натуры именно в том и заключается, что мы не можем не следовать дурному примеру. Убежден я также, что именно человеческий род собственно предназначен судьбой показывать дурной пример.
К тебе обращаюсь, мой читатель, мой благосклонный молодой кот, и спрашиваю тебя: не приходилось ли тебе когда-нибудь впадать в состояние, непонятное тебе самому, доставившее тебе горькие упреки, а может быть, даже и укусы твоей житейской спутницы? Ты был ленив, сварлив, упрям, обжорлив, ни в чем не находил удовольствия, всегда был там, где не должно, всем доставлял неприятности – словом, был невыносимым сорванцом! Утешься, кот! Такой беспутный период твоей жизни вовсе не проистекал из глубины свойственной тебе индивидуальности, нет, это была дань, которую все мы платим правящему нами началу, платим в том смысле, что следуем дурному примеру людей, которые ввели в употребление этот переходный период. Утешься, мой кот, и со мною было не лучше!
Среди моих ночных занятий мной стало овладевать какое-то недовольство – что-то похожее на пресыщение неудобоваримыми вещами: я ложился и засыпал на той самой книге, которую только что читал, на той самой рукописи, которую только что написал. Эта леность овладевала мною все больше и больше; наконец, дошло до того, что я не мог больше ни писать, ни читать, ни совершать прыжки, ни бегать, ни поддерживать отношения с друзьями на крыше или в подвале. Вместо этого я чувствовал непреодолимый порыв делать все, что неприятно мейстеру или друзьям, что могло их обременить. Что касается мейстера, он долгое время ограничивался изгнанием меня, когда я выбирал для лежанья места, где он не терпел моего присутствия. Однажды он принужден был даже несколько постегать меня. Именно постоянно вспрыгивая на письменный стол мейстера, я однажды так долго вертел хвостом в разные стороны, что наконец кончик его попал в большую чернильницу, и я, как кистью, стал разводить им удивительные узоры на полу и на диване. Мейстер, по-видимому, ничего не смыслящий в этой отрасли искусства, пришел в бешенство. Я бежал на двор, но, пожалуй, очутился там в еще более неприятном положении. Некий большой кот, чрезвычайно почтенной наружности, давно изъявлял неудовольствие по поводу моего поведения. Теперь, когда я нелепым образом хотел стянуть у него из-под носа лакомый кусок, который он только что хотел проглотить, старый кот, без дальних слов, надавал мне такую массу пощечин по обеим сторонам лица, что я был совершенно ошеломлен, и из ушей моих потекла кровь. Если я не ошибаюсь, достойный кот был моим дядей, так как в его лице светилось что-то напоминающее Мину, а фамильное сходство бороды было несомненно. Словом, нужно сознаться, что я в это время весь ушел в шалости, так что мейстер Абрагам говорил: «Я, право, не знаю, что с тобой, Мурр! В конце концов, я готов думать, что ты вступил в годы юношеских проказ!» Мейстер был прав, это был роковой период проказ, который я должен был пережить по дурному примеру людей, выдумавших этот период, как нечто необходимое их природе и добившихся того, что он вошел во всеобщее употребление. Люди называют его годами юношеских проказ, хотя многие во всю свою жизнь не кончают этого «юношеского» периода; что касается нашего брата, кота, мы можем только говорить о неделях проказ. Сам я кончил этот период одним сильным толчком или, вернее, прыжком, чуть не стоившим мне ноги или нескольких ребер. Я должен рассказать, как это произошло.
На дворе того дома, где жил мейстер, стояла машина на четырех колесах, плотно набитая внутри, как я узнал впоследствии, английская коляска. Мне пришло желание вскарабкаться на эту машину – желание самое естественное при тогдашнем моем настроении. Подушки, находившиеся там, показались мне такими приятными и привлекательными, что я улегся среди них и в грезах заснул.
Едва только дух мой был осенен сладкими сновидениями о жареном зайце и тому подобном, как вдруг я был разбужен сильным ударом, который сопровождался грохотом, звоном и дребезжаньем. Кто изобразит мой внезапный ужас после того, как мне стало ясно, что вся машина со страшным оглушительным шумом мчалась вперед, кидая меня по подушкам то вправо, то влево. Все сильнее и сильнее охватывал меня страх, превратившийся постепенно в отчаяние, я решился сделать гигантский прыжок из грохочущей машины, услышал за собой, подобный ржанью, насмешливый хохот адских демонов, услышал их грубые, варварские голоса «кац-кац-хуц-хуц», сломя голову помчался сам не знаю куда, вослед мне летели камни, наконец, я очутился где-то под темными сводами и упал почти без чувств.
Очнувшись, я услыхал над своей головой как будто шаги, то удалявшиеся, то приближавшиеся. Я понял, что нахожусь под лестницей. Так вот какая произошла со мной история!
Когда я опять выполз на свет Божий, передо мной – о, Небо! – протянулись необозримые улицы. На них, как волны, двигались толпы людей, из которых я не знал решительно ни одного. Прибавьте еще, что мимо с грохотом мчались кареты, слышался кругом громкий лай собак, и в довершение всего появился целый отряд войска, опоясавший улицу и ярко блиставший на солнце своим оружием. Прямо передо мной внезапно грянул оглушительный барабан, так что невольный страх сковал мою грудь и от мгновенного порыва этого тоскливого чувства я подпрыгнул вверх на целых три фута. Мне стало ясно, что я находился в том самом мире, на который до сих пор не без любопытства, не без томления я глядел издалека с высоты моей крыши. Я стоял теперь среди шумного света, как неопытный новичок. Осторожно я стал прогуливаться по улице, держась перед самыми домами, и встретил наконец двоих юношей моей породы. Остановившись, я попытался было завязать с ними беседу, но они ограничились тем, что выпучили на меня свои огненные глаза и, ни слова не говоря, помчались прочь. «Легкомысленная юность, – подумал я про себя, – ты и не знаешь, кого ты встретила на пути своем! Таким-то образом проходят в мире великие гении, незамеченные, неузнанные. Это удел земной преходящей мудрости!»
Я рассчитывал на теплое участие со стороны людей и, вскочив на выступ двери, ведущей в какой-то погреб, испускал веселое и – как я думал – чрезвычайно симпатичное «мяу». Но все проходили мимо вполне равнодушно, еле бросая на меня мимолетный, холодный взгляд. Наконец я заметил красивого белокурого мальчика, который дружески посмотрел на меня и, щелкая пальцами, поманил: «Кссс-кссс». «Ты понимаешь меня, о чудное сердце», – подумал я и, спрыгнув вниз, приблизился к нему с дружеским мурлыканьем. Он начал меня гладить по спине, и я совсем уже думал подарить ему свою теплую дружбу, но он неожиданно для меня так придавил мой хвост, что я громко закричал от ужасной боли. Коварному злодею это доставило, по-видимому, большое удовольствие, потому что он весело расхохотался и, придерживая хвост, попробовал повторить дьявольский маневр. Тогда меня охватило глубочайшее негодование. Воспламененный мыслью о мести, я вонзил мои когти в руки и лицо преступника. С громким криком он выпустил мой хвост. Но в то же самое мгновение я услышал возглас: «Тирас, Картуш, ссс!», и тотчас две собаки со страшным лаем устремились на меня. Я обратился в бегство – дыхание спиралось у меня в груди – враги гнались за мной по пятам, спасения не было. Обезумев от страха, я вскочил в окно какого-то подвального помещения, стекла зазвенели, два цветочных горшка, стоявшие на окне, с треском упали на пол, а женщина, сидевшая за работой у стола, вскочила с испугом, закричала: «Ах, мерзкая бестия!» – и, схватив палку, устремилась на меня. Но моя шерсть, вставшая дыбом, неистовые вопли отчаяния, выпущенные когти и пылающие гневом глаза заставили ее отпрянуть назад; палка, приподнятая для удара, так и застыла в воздухе и – говоря языком трагедии – осталась безучастной в борьбе между силой и волей! В это мгновение раскрылась дверь, я совершил решительный шаг – и, счастливо проскользнув между ногами вошедшего человека, устремился из дома на улицу.
Измученный, изнеможенный, я достиг наконец уединенного уголка, где мог немножко отдохнуть. Меня стал мучить ужасный голод – и тут-то я вспомнил впервые с глубокою скорбью о добром мейстере Абрагаме, с которым я был разлучен жестокой судьбой. Но как его снова найти? Я устремлял вокруг унылые взоры, и, когда увидел, что нет мне пути к возвращению, в глазах у меня заблистали крупные светлые слезы.
Однако во мне сверкнула надежда, когда на углу улицы я увидел молодую приветливую девушку, сидевшую перед маленьким столиком, на котором были разложены аппетитнейшие хлебцы и колбасы. Я медленно приблизился к ней, она посмотрела на меня с улыбкой. Чтобы выказать себя благовоспитанным, галантным юношей, я изогнулся так красиво, как до сих пор еще никогда не изгибался. Улыбка девушки превратилась в веселый смех. Наконец-то было найдено нежное сердце, наконец-то судьба мне послала родную душу! О, Небо! Как это отрадно для больной, страждущей груди! Так подумал я и взял себе одну из колбас. Но в то же мгновение девица громко вскрикнула и замахнулась на меня чем-то, сделанным из дерева… Если бы удар действительно попал в меня, не пришлось бы мне насладиться ни той колбасой, которую я взял себе, полагаясь на честность и дружелюбие девушки, ни какой-либо другой. Все свои последние силы я приложил к тому, чтобы успешнее ускользнуть от жестокосердой. Это удалось мне, и я достиг местечка, где мог с удобством, спокойно съесть колбасу.
После скромного обеда дух мой просветлел, и солнечные лучи упали теплою лаской на мой пушистый мех, и я живо почувствовал, что действительно хорошо здесь, на земле. Но когда настала холодная влажная ночь, когда у меня не оказалось мягкой постели, какая была в доме доброго мейстера, когда на другое утро я проснулся, дрожа от холода и снова терзаемый голодом, мной опять овладело безутешное чувство, граничащее с отчаянием. Я разразился громкими жалобами: так вот тот мир, к которому ты так жадно стремился с родной своей крыши! Мир, где ты думал найти добродетель, мудрость и высшую нравственность! О, бессердечные варвары! К чему они способны, кроме раздачи побоев? В чем их разум, как не в наглой насмешке? Чем они заняты, как не коварным преследованием глубоко чувствующих душ?
О, прочь, прочь отсюда, из этого мира лжи и лицемерия! Прими меня снова в твою прохладную тень, родимый подвал! О, чердак! О, печь, о, одиночество! Со сладкою мукой стремится к вам сердце мое!
Мысль о моем несчастном положении, о моем безнадежном бедствии глубоко охватила меня. Закрывши глаза лапками, я горько заплакал.
Знакомые звуки коснулись моего слуха: «Мурр-мурр! Любезный друг, куда ты забежал? Что с тобой приключилось?»
Я раскрыл глаза. Передо мной стоял молодой Понто.
Как ни жестоко я был оскорблен недавним поступком Понто, его неожиданное появление было чрезвычайно утешительно для меня. Забыв о сделанной им несправедливости, я рассказал все происшедшее со мной, объяснил ему, заливаясь слезами, мое печальное, беспомощное положение и кончил жалобным, грустным сообщением, что меня терзает мучительный голод.
Вместо того чтобы выказать мне участие, на которое я рассчитывал, молодой Понто разразился оглушительным хохотом.
– Ну, любезный Мурр, – сказал он, – не глупый ли ты, неисправимый повеса? Извольте посмотреть: садится в коляску, засыпает, уезжает на ней, просыпается с испугом, выскакивает вон, удивляется, что его никто не знает, тогда как раньше он еле выглядывал за дверь своего дома, удивляется, что к его глупым проделкам везде дурно относятся, и, наконец, оказывается так прост, что не может даже найти обратного пути домой, к своему господину. Видишь, приятель, ты всегда хвастался своими науками, своим образованием, всегда держался высокомерно по отношению ко мне, а теперь ты сидишь одинокий, потерянный, и всех великих достоинств твоего духа не хватает на то, чтобы научить тебя, как ты можешь утишить свой голод и найти дорогу к мейстеру! И если бы тот, которого ты считал гораздо ниже себя, не принял в тебе участие, ты умер бы в конце концов самой жалкой смертью, и никто ничего бы не спросил о твоем знании, о твоем таланте, и на том месте, где умер бы ты, – от собственной своей душевной близорукости – ни один поэт, ни один из твоих мнимых друзей не сделал бы дружеской надписи «Hic jacet!»[34]34
Здесь покоится! (лат.)
[Закрыть] Ты видишь, что и я теперь прошел должную школу и могу в разговоре упомянуть какую-нибудь латинскую фразу! Но ты голодаешь, бедный кот!.. Нужно помочь прежде всего этой беде. Пойдем со мной.
Юный Понто весело запрыгал впереди, я последовал за ним совершенно разбитый, уничтоженный его словами, в которых было много справедливого, как мне показалось при тогдашнем голодном моем состоянии. Но как же я испугался, когда…
(Мак. л.) …для издателя этих листков самое счастливое обстоятельство, что он мог целиком воспроизвести достопримечательный разговор Крейслера с тайным советником. Благодаря этому он был в состоянии представить перед тобой, благосклонный читатель, по крайней мере, два образа из времени ранней юности необычайного человека, чью биографию он в известном смысле должен был написать. Можно надеяться, что эти образы достаточно характерны и оригинальны, что касается рисунка и колорита. Во всяком случае, из всего, что Крейслер рассказывал о тетушке Фюсхен и ее лютне, видно, что музыка с ее удивительной грустью, с ее небесным очарованием, так сказать, срослась с душой ребенка тысячью нитей; нельзя также удивляться тому, что из этой груди всегда лилась горячая кровь, стоило только ранить ее слегка. Упомянутый издатель в особенности жаждал получить сведения о двух моментах из жизни капельмейстера, именно: во-первых, каким образом мейстер Абрагам вступил в семью Крейслера и начал оказывать влияние на маленького Иоганна, и, во-вторых, какая катастрофа удалила честного Крейслера из резиденции, превратив его в капельмейстера. По этому поводу многое было расследовано, и о результатах этого изыскания читатель сейчас узнает.
Прежде всего не подлежит никакому сомнению, что в Гениэнсмюле, где родился и воспитывался Иоганн Крейслер, жил один человек, совершенно своеобразный и необычайный во всем, что он ни делал. Городок Гениэнсмюль вообще издавна был настоящим рудником всяческих раритетов, и Крейслер подрастал, окруженный самыми странными фигурами, которые должны были оказывать на него и тем более сильное впечатление, что он в детстве своем никогда не имел сверстников. Вышеупомянутый оригинал носил одинаковое с известным юмористом имя Абрагам Лисков и был по профессии органным мастером – ремесло, которое он иногда сильно бранил, иногда же превозносил до небес, так что трудно было решить, когда он говорил правду.
Крейслер рассказывает, что в его семье о Лискове всегда говорили с большим уважением. Его называли искуснейшим артистом, какой только может быть, и очень жалели, что своими безумными выходками и сумасбродными дурачествами он отдаляет от себя решительно всех. О фантастических проделках Лискова так много рассказывали, что воображение маленького Иоганна было всецело занято этими рассказами, и, совершенно не зная будущего мейстера Абрагама, он нарисовал в уме его портрет, страстно стремился к нему, и, когда дядя говорил, что тогда-то Herr Лисков, может быть, придет для настройки инструмента, мальчик каждое утро ждал его с нетерпением. Интерес мальчика к неизвестному для него Абрагаму Лискову усилился и превратился в почтительное изумление, когда дядя взял его в первый раз в главную кирку и мальчик услышал могучие звуки великолепного органа, сделанного не кем иным, как все тем же загадочным Абрагамом Лисковым. С этого мгновения портрет незнакомца, нарисовавшийся еще раньше в душе мальчика, совершенно поблек и уступил место другому, более яркому образу. Мальчик решил, что Лисков должен быть непременно высоким, красивым мужчиной, чрезвычайно статным на вид, что он говорит громко и мелодично, а главное, одет в сюртук черносливного цвета, с широкими золотыми галунами, как его крестный отец, коммерции советник, к богатому платью которого маленький Иоганн питал глубочайшее почтение.
Однажды, когда дядя стоял с Иоганнам у открытого окна, на улице показался маленький худой человечек, одетый в плащ из светло-зеленого баркана; полы этого плаща как-то странно развевались по ветру. На голове этого человека была воинственно надета небольшая треуголка, а от белого напудренного парика отделялся один длинный пучок волос, болтавшийся по спине. Походка его была такая твердая, что мостовая как будто стонала под его шагами; притом он поминутно ударял о землю своей длинной испанской тростью. Проходя мимо окна, он метнул на дядю огненный взгляд своих черных, как уголь, глаз, не отвечая на его поклон. Холодная дрожь пробежала по всем членам маленького Иоганна, ему ужасно захотелось смеяться над маленьким человеком, и в то же время что-то стеснило ему грудь.
– Это прошел Herr Лисков, – сказал дядя.
– Я знал это, – ответил Иоганн, и он говорил правду.
Абрагам Лисков не был высоким, статным мужчиной, он не носил черносливного цвета сюртук с золотыми галунами, наподобие сюртука крестного отца Иоганна, коммерции советника; и тем не менее, как это ни странно, как ни волшебно, он выглядел совершенно так, как его представлял себе мальчик, еще прежде чем услыхал аккорды большого церковного органа. Не успел Иоганн отрешиться от смутного чувства, похожего на испуг, как вдруг Herr Лисков остановился, повернул назад, прошел всю улицу вплоть до окна, у которого стоял дядя, отвесил ему глубокий поклон и удалился с громким хохотом.
– Ну, разве хорошо вести себя так, – проговорил дядя Иоганна, – разве так должен поступать степенный человек, имеющий сведения, так сказать, опытный in studiis[35]35
Дословно с латыни – опытный в штудировании, старательном изучении; литературно можно сказать «опытный в науках».
[Закрыть], человек, который в качестве привилегированного органного мастера сопричислен к свободным художникам и по законам страны имеет право носить шпагу? Не приходит ли на ум при виде его, что с раннего утра он основательно заложил или что он бежал из сумасшедшего дома? Но я знаю, он теперь придет и настроит наш рояль.
Дядя был прав. На другой же день Абрагам Лисков пришел, но, вместо того чтобы настраивать рояль, он потребовал, чтобы маленький Иоганн сыграл ему что-нибудь. Мальчик был посажен на стул, на сиденье которого положили целый столб книг; Herr Лисков встал против него, облокотясь обеими руками на узкий край инструмента, и смотрел на мальчика в упор, чем тот был смущен до такой степени, что менуэты и арии, разученные им по старой нотной тетради, мчались одни за другими в беспорядке. Herr Лисков слушал серьезно; вдруг Иоганн соскользнул со стула и скрылся под роялем; Абрагам Лисков, толчком оттолкнувший скамейку из-под его ног, громко расхохотался. Мальчик, переконфуженный, выбрался из-под инструмента, но в то же самое мгновение Herr Лисков уселся за рояль, вытащил из кармана молоточек и стал бить им по бедному инструменту с такой силой, как будто он хотел разбить его в мелкие кусочки.
– Herr Лисков, что с вами, в уме ли вы? – воскликнул дядя, а маленький Иоганн, в крайнем раздражении на органного мастера, изо всех сил налег на крышку инструмента, так что она с громким треском закрылась, и Herr Лисков должен был быстро отдернуть голову, а то ее прищемило бы. Потом мальчик воскликнул:
– Эге, милый дядя, это вовсе не тот искусный художник, который сделал великолепный большой орган, потому что этот глупый человек ведет себя здесь, как уличный мальчишка!
Дядя был изумлен дерзостью мальчика. Но Herr Лисков только посмотрел на него пристально и долго; потом, проговорив: «Да он у вас прекурьезный!», открыл тихонько крышку инструмента и начал свою работу; часа через два он ее кончил, не произнеся за все время ни слова.
С этого момента органный мастер возымел решительное пристрастие к мальчику. Чуть не каждый день стал он приходить в дом и вскоре сумел приручить к себе маленького Иоганна, открыв перед ним совершенно новый, пестрый мир, в котором живой дух ребенка мог свободно витать. Нехорошо было, что с течением времени, в особенности когда Иоганн стал подрастать, Лисков приучил его сочинять всякие насмешливые шутки, нередко устремленные и против дяди, который, правда, давал для них богатый материал своей ограниченностью и разными потешными качествами своего характера. Верно, однако, что жалоба Крейслера на безутешное одиночество, пережитое в детстве, на душевную раздвоенность, начавшуюся с этого же времени, должны быть поставлены в связь с его отношением к дяде. Он был не в силах уважать человека, который должен был заступить по отношению к мальчику место его отца и который всем существом своим, всеми поступками производил впечатление жалкое и смешное.
Лисков хотел всецело овладеть душой Иоганна, но благородная натура мальчика возмутилась против этого. Проницательный ум, глубина чувства, необычайная живость характера – все это были несомненные достоинства в личности органного мастера. Что же касается так называемого юмора, это чувство у него не являлось результатом особенного воззрения на жизнь во всех ее разветвлениях, не являлось следствием борьбы враждебных принципов, а просто желанием оскорблять всякие условности, соединенным с известным талантом и со стремлением ко всему необычному, экстраординарному. Со злорадством и с насмешкой, полной издевательства, Лисков всегда старался делать диаметрально противоположное тому, что по обычным понятиям считается обязательным. Именно эта-то злорадная насмешливость отравила нежную чувствительность ребенка. Нельзя, впрочем, отрицать и того, что таинственный органный мастер умел лелеять в сердце мальчика присущее этому последнему зерно глубокого природного юмора, постепенно развившееся и пустившее пышные побеги.
Лисков имел обыкновение много рассказывать об отце Иоганна, с которым он был в тесных дружеских отношениях во время своей юности: образ его – в таких рассказах – выступал светло и лучезарно, в ущерб дяде-воспитателю, оставшемуся в совершенной тени. Так, например, однажды органный мастер восхвалял глубокое понимание музыки, которым всегда отличался отец Иоганна, и наряду с этим зло издевался над превратными понятиями о музыке, которые внушал мальчику дядя. Иоганн, весь исполненный мыслями о том, кто был к нему ближе всех и кого он не видел никогда, постоянно просил новых и новых о нем рассказов. Но в таких случаях Лисков моментально умолкал и устремлял свой взор на землю, как человек, занятый серьезной, важной идеей.
– Что с вами, мейстер, – спрашивал Иоганн, – что вас так волнует?
Лисков вздрагивал, точно пробуждаясь от сна, и говорил с улыбкой:
– Помните ли вы, Иоганн, как я вытащил из-под ваших ног скамейку и вы соскользнули под рояль в тот самый момент, когда вы должны были играть мне отвратительные менуэты вашего дяди?
– Ах, – возражал Иоганн, – я просто не могу подумать о том, как я вас увидел в первый раз. Вам было приятно и забавно огорчить ребенка.
– Ну, а ребенок был достаточно груб после этого. Однако я совсем тогда и не подозревал, что в вас скрывается такой хороший музыкант. Сыграйте-ка мне теперь, сыночек, какой-нибудь добропорядочный хорал на маленьком органчике. Мне хочется усладиться музыкой. Я буду раздувать вам мехи.
Нужно добавить здесь, что у Лискова было сильное пристрастие ко всяким музыкальным игрушкам, которыми он немало забавлял Иоганна. Еще когда Иоганн был совсем маленьким, Лисков имел обыкновение при каждом посещении приносить ему что-нибудь особенное.
Мальчик получал в подарок то какое-нибудь яблоко, распадавшееся на множество кусков, как только с него счищали кожицу, то какое-нибудь пирожное необычайной формы. Когда Иоганн стал подрастать, он постепенно приобрел знакомство с различным реквизитом натуральной магии. Будучи юношей, он помогал Лискову строить оптические машины, варить симпатические чернила и тому подобное. Но верхом совершенства во всех этих механических ухищрениях, служивших развлечением и забавой для Иоганна, являлся маленький орган на восьми ножках, с бумажными трубочками, похожий на находящийся в королевском венском музее орган, сделанный в семнадцатом столетии Евгением Каспарини. Волшебный инструмент Лискова отличался необыкновенно увлекательной силой и мелодичностью звука, и Иоганн свидетельствует, что никогда он не мог играть на нем без глубочайшего волнения, и без того чтобы в душе его не возникали настоящие благоговейные церковные мелодии.
Когда Иоганн сыграл однажды на этом органе два хорала, как просил его Лисков, он заиграл разученный за несколько дней перед этим гимн «Misericordias Domini cantabo»[36]36
Славлю милосердие Божие (лат.).
[Закрыть]. После того как Иоганн кончил, Лисков вскочил с своего места, крепко прижал его к своей груди и с громким смехом воскликнул:
– Чего ты дразнишь меня всегда своими жалобными кантиленами? Если бы я не раздувал мехи органа постоянно, когда ты играешь, ты не мог бы сыграть ничего путного. Но теперь я удаляюсь со всей поспешностью, оставляю тебя одного, и ты можешь поискать в целом свете такого хорошего помощника!
При этих словах на глазах его выступили слезы. Он быстро выскочил из комнаты и, уходя, сильно хлопнул дверью. После этого он из-за двери просунул голову в комнату и сказал мягким голосом:
– Иначе я не могу поступить. Прощай, Иоганн! Если когда-нибудь дядя хватится своего Gros de Tour – жилета с красными разводами и не найдет его, скажи тогда, что этот жилет украден мной: я заодно заказал себе тюрбан, потому что мне хотелось быть представленным великому султану. Прощай, Иоганн!
Никто не мог понять, почему Herr Лисков так неожиданно покинул прекрасный городок Гениэнсмюль, почему он не сказал ни единой душе, куда он решил отправиться. Дядя говорил:
– Я уже давно догадывался, что им владеет какой-то беспокойный дух: он хоть и делал прекрасные органы, а на месте ему все-таки не сиделось. Хорошо, что наш рояль теперь в порядке; что касается самого Лискова, так мне, право, нисколько не хочется видеть этого сумасброда.
Иоганн был совсем другого мнения: он чувствовал отсутствие Лискова решительно везде, и Гениэнсмюль стал представляться ему мертвенной, мрачной тюрьмой.
Таким образом, Иоганн должен был поневоле последовать совету органного мастера и искать себе другого помощника в занятиях музыкой. Предварительные изучения были им уже все сделаны, дядя полагал, что Иоганн может переселиться теперь в резиденцию, под крылышко к тайному советнику при посольстве, чтобы там окончательно сформироваться. Так и случилось.
Издатель предлагаемых записок обещал представить благосклонному читателю рассказ и о втором периоде жизни Крейслера, именно о том периоде, когда Иоганн Крейслер потерял свое почетное положение советника при посольстве и, в известном смысле, был удален из резиденции; но, к сожалению, издатель должен признаться, что все находящиеся в его распоряжении сведения касательно этого пункта крайне бедны, ничтожны и отрывочны.
В конце концов нужно, однако, сказать следующее. После того как Крейслер вступил в исправление должности советника при посольстве, унаследованной им от покойного дяди, князя в его резиденции посетил некий коронованный колосс и так крепко сжал его в дружеском сердечном объятии, в своих мощных железных руках, что князь при этом наполовину утратил свое собственное дыхание. Коронованный колосс отличался какой-то непобедимой притягательной силой, и все слагалось так, как хотел он, хотя бы для этого нужно было поставить все вверх дном. Многие находили дружбу князя с упомянутой коронованной особой довольно странной и опасной, желали расстроить ее, но таким образом становились лицом к лицу с трудной дилеммой: или признать эту дружбу превосходной, или найти вне страны какую-нибудь точку опоры, которая бы дала возможность увидеть могучего колосса в надлежащем свете.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?