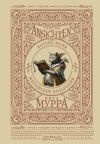Текст книги "Житейские воззрения кота Мурра"

Автор книги: Эрнст Гофман
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Юлия, обладая металлически-чистым и звучным голосом, пела с чувством, с глубоким вдохновением; в этом именно и могла заключаться чарующая сила, которая непобедимым образом действовала на слушателей как раньше, так и сегодня, в описываемый нами день. Она пела, и у каждого слушателя останавливалось дыхание, и грудь сжималась от невыразимой сладкой боли; когда она кончила, несколько мгновений длилось молчание, потом восторг выразился в бурном бешеном одобрении. Только Крейслер сидел безмолвно, пристально смотря перед собой и прислонившись к спинке стула. Потом он медленно встал, Юлия повернулась к нему со взором, ясно вопрошавшим: «Это на самом деле так хорошо?» Но тотчас же она вспыхнула и опустила глаза: Крейслер, приложив руку к сердцу, пролепетал дрожащим голосом «Юлия!» и потом, низко склонив голову, скорее выскользнул, чем ушел из толпы дам, сомкнувшихся в тесный кружок.
Советница Бенцон с трудом уговорила принцессу Гедвигу показаться за ужином, на котором она должна была встретить капельмейстера Крейслера. Принцесса согласилась только после того, как советница убедила ее, что было бы чистым ребячеством избегать человека за то, что он не похож на всех других, как монета одной чеканки, а является совершенно самородной, оригинальной личностью. Кроме того, Крейслер нашел уже доступ к князю, и было бы невозможно продолжать упрямиться и стоять на своем.
Принцесса Гедвига весь вечер так искусно и так быстро переходила из одного угла в другой, что Крейслер, желавший с ней помириться, никак не мог к ней приблизиться, несмотря на все свои старания.
Самые искусные маневры она отражала самой изобретательной тактикой. Бенцон, видевшая все это, тем более должна была удивиться, когда принцесса вдруг вышла из круга дам и прямо подошла к Крейслеру. Капельмейстер стоял точно в забытьи и был пробужден лишь тогда, когда принцесса обратилась к нему и спросила, неужели только он один никаким жестом, никаким словом не выкажет одобрения, завоеванного Юлией.
– Милостивейшая государыня, – возразил Крейслер тоном, изобличавшим глубокое внутреннее волнение, – по справедливому замечанию одного из знаменитых писателей, люди, испытывающие блаженство, выражают свое счастье не словами, а взглядами и мыслями. Мне чудится, как будто я нахожусь на небесах!
– В таком случае, – проговорила с улыбкой принцесса, – наша Юлия – ангел света, так как она открыла вам райские двери. Теперь, однако, я попрошу вас на несколько мгновений покинуть небеса и выслушать бедное дитя земли, стоящее перед вами.
Принцесса замолчала, точно она ждала, что Крейслер что-нибудь скажет. Но, так как он молчал, смотря на нее своим пылающим взглядом, она опустила глаза и повернулась в сторону так быстро, что с ее плеч слетела легко надетая шаль, которую Крейслер подхватил налету. Принцесса остановилась и заговорила неуверенным, колеблющимся тоном, как будто бы она боролась с решением, твердо принятым в душе, но трудным для исполнения.
– Будемте говорить прозаически просто о вещах поэтических. Мне известно, что вы даете Юлии уроки пения. С тех пор как она с вами занимается, она сделала громадные успехи в манере петь и в уменье владеть голосом. Это подает мне надежду, что вы сумеете развить и посредственный талант, как, например, мой. Я хочу сказать, что…
Принцесса замолчала и вся вспыхнула. К ней подошла Бенцон и сказала, что напрасно принцесса считает свой музыкальный талант посредственным, так как она отлично играет на рояле и очень выразительно поет. Крейслер, которому принцесса показалась чрезвычайно милой в своем смущении, рассыпался в самых дружеских уверениях, говоря, что для него не может быть высшего счастья, если принцесса пожелает позволить ему помогать словом и делом в ее музыкальных занятиях.
Принцесса слушала капельмейстера с видимым удовольствием, и, когда он кончил и Бенцон взглядом упрекнула ее за странную робость перед этим благовоспитанным человеком, Гедвига проговорила вполголоса:
– Да, да, Бенцон, вы правы, я часто бываю самым неразумным ребенком!
В то же самое мгновение она, не оглядываясь, взяла шаль, которую Крейслер продолжал держать и теперь подал ей. При этом он коснулся руки принцессы, каким образом – он сам не знал. Крейслер вздрогнул точно от электрического удара, и ему показалось, что он теряет сознание.
Вдруг Крейслер услышал голос Юлии, веселый и светлый, подобный лучу, прорезающему черные тучи.
– Я должна петь еще, любезный Крейслер, – сказала она, – мне не дают покоя. Мне бы хотелось спеть дуэт, который мы разучили в последний раз.
– Вы не должны отказывать Юлии, – вмешалась в разговор Бенцон, – ступайте к роялю, любезный капельмейстер!
Крейслер безмолвно уселся у рояля и, точно охваченный каким-то опьянением, ударил по клавишам, начиная звучные аккорды дуэта. Юлия запела: «Ah che mi manca l’anima in si fatal momento…»[42]42
«О, почему в эту злосчастную минуту не хватает у меня мужества» (ит.).
[Закрыть] Нужно прибавить, что слова этого дуэта по обычной итальянской манере изображали разлуку любящей пары: к «momento»[43]43
Мгновение (ит.).
[Закрыть] естественным образом являлись рифмы «sento» и «tormento»[44]44
Чувство и смятенье (ит.).
[Закрыть], и, как в сотне других подобных дуэтов, не было также недостатка в «Abbi pietade, о cielo»[45]45
О, сжалься, Небо (ит.).
[Закрыть] и в «реnа di morir»[46]46
Муки смерти (ит.).
[Закрыть]. Крейслер, однако, сочинил эти слова, находясь в состоянии самого пылкого поэтически-музыкального вдохновения, и всякий, кому Бог дал сносные уши, должен был непременно испытывать страстное увлечение. Дуэт превосходил силой самые страстные арии в этом роде, и, так как Крейслер старался выразить высший момент скорби разлуки и совсем не имел в виду того, что может быть выражено певицей легко и с удобством, – исполнительнице было очень трудно попасть сразу в надлежащий тон. Таким образом произошло, что Юлия начала робким, неуверенным голосом и сам Крейслер – не лучше. Но скоро голоса обоих певцов выделились из звуковых волн, подобно двум светлым лебедям, которые то раскрывали свои широкие крылья и шумно летели к золотым сияющим тучкам, то, умирая в сладком любовном объятии, терялись в бешеной буре аккордов, пока наконец глубокие вздохи не возвестили близкую смерть, и последнее Addio[47]47
Прости (ит.).
[Закрыть] прозвучало воплем безумной муки.
На каждого из слушателей дуэт произвел глубокое впечатление, на глазах у многих блистали светлые слезы, и сама Бенцон созналась, что она никогда не испытывала ничего подобного даже в театре при самом хорошем исполнении прощальной сцены разлуки. И Юлия, и капельмейстер были засыпаны похвалами, слушатели говорили об истинном вдохновении, слышавшемся в пении и в музыке, и ставили композицию, пожалуй, даже выше, чем она заслуживала.
Во время пения принцесса находилась в явном волнении, хотя она старалась оставаться спокойной и не выказывать никакого участия. Рядом с ней сидела молоденькая придворная дамочка, краснощекая и всегда одинаково расположенная и к слезам, и к смеху; она шептала ей на ухо всякую всячину, но не получила в ответ ничего, кроме отрывочных замечаний, сказанных ради придворных конвенансов. Принцесса обернулась и к госпоже Бенцон, сидевшей по другую сторону, и начала ей шептать на ухо, как будто никто не пел в комнате, но та, со свойственной ей строгостью, попросила прекратить разговоры, пока не будет кончен дуэт. Но теперь, когда пение кончилось, принцесса, с пылающим лицом, с сияющими глазами, начала говорить так громко, что заставила умолкнуть все хвалебные возгласы общества.
– Да будет позволено и мне высказать свое мнение. Я вполне согласна, что дуэт как музыкальное произведение может иметь свою цену, что Юлия пела великолепно. Но разве это хорошо, что в уютном тесном кружке, где на первом плане должна стоять дружеская беседа, откуда должны быть изгнаны всякие возбуждения, пылкие речи, страстное пение, где все это должно походить на тихий ручеек, журчащий между цветочными клумбами, – разве хорошо, что в таком кружке появляется нечто экстравагантное, разрывающее сердце, такое сильное и захватывающее, против чего нельзя бороться? Я старалась победить страшную скорбь, которую господин Крейслер облек в звуки, с демоническим искусством издевающиеся над нашей слабой чувствительностью, но никто из присутствующих не был настолько добр, чтобы принять мою сторону! Охотно предоставляю свою слабость вашей иронии, капельмейстер! Охотно сознаюсь, что впечатление, произведенное на меня вашим дуэтом, причинило мне почти физическую боль. Разве не существуют на свете Чимароза или Пазиелло, произведения которых как раз написаны для салонного общества?
– Боже мой! – воскликнул Крейслер в то время, как все мускулы его лица пришли в особое состояние, предвещавшее, что он впадет в юмор. – Боже мой! Милостивейшая принцесса, не несчастнейший ли я капельмейстер, какого только можно себе представить! Разве не противно всем правилам справедливости, что в обществе нужно скрывать свои волнения, или – выражаясь образно – нужно свою волнующуюся, тяжело дышащую грудь стягивать косынкой приличия? Разве все эти пожарные заведения, установленные и созданные обществом «хорошего тона», могут совсем погасить пламя, прорывающееся то здесь, то там? Лейте сколько угодно – и чаю, и сахарной водицы, прибавьте к этому и должную дозу приличных разговоров и приятного бренчанья, делайте что хотите, но стоит только тому или другому наглому поджигателю бросить вам в душу конгревскую ракету – и тотчас же вспыхивает яркое, ослепительное пламя, и горит, и даже жжет, чего никогда не случается с чистым светом луны! Да, милостивейшая принцесса, я самый несчастнейший из всех, живущих на земле капельмейстеров. Запевши ужасный дуэт, я постыдно рискнул зажечь дьявольский фейерверк со всеми горящими шарами, змейками и хвостатыми ракетами. И что же я вижу? Везде горит! Пожар, пожар, разбой! Позвать сюда пожарных, воды, воды! Помогите, спасите!
Крейслер устремился к нотному ящику, вытащил его из-под рояля, открыл его, перерыл все ноты, схватил какую-то партитуру – это была Malinara Paesiello[48]48
«Мельничиха» Пазиелло (ит.).
[Закрыть], уселся за рояль и начал ритурнель известной песенки «La Rachelina, molinarina»[49]49
«Ракелина-мельничиха» (ит.).
[Закрыть], открывающей выход на сцену мельничихи.
– Но, любезный Крейслер! – проговорила Юлия робко и испуганно.
Крейслер бросился перед Юлией на колени и стал говорить умоляющим голосом:
– Милая, дорогая Юлия, сжальтесь над высокопочтенным обществом, пролейте бальзам утешения в эти страждущие сердца, спойте Ракелину! Если вы этого не сделаете, мне ничего больше не останется, как у вас на глазах низвергнуться в бездну отчаяния, на краю которой я уже теперь нахожусь, и напрасно тогда вы будете удерживать меня за полу сюртука, напрасно будете стараться отклонить от мрачного решения, напрасно будете ласково и добродушно восклицать потерянному капельмейстеру: «Останься с нами, Иоганн!» Я уже буду находиться у Ахерона. Итак, прошу вас, спойте же, дорогая Юлия!
Юлия уступила просьбе Крейслера, хотя с явной неохотой.
Когда песенка была спета, Крейслер тотчас же начал известный комический дуэт нотариуса и мельничихи.
Юлия по методе и природным голосовым данным имела склонность к музыке серьезной, патетической; тем не менее, когда она пела что-нибудь комическое, она была воплощением грации и причуды. Крейслер усвоил себе странную, но неудержимо увлекательную манеру итальянских buffi[50]50
Комические певцы (ит.).
[Закрыть], доходившую у него почти до преувеличений, потому что, обладая голосом драматическим с тысячью различных нюансов, он делал при этом самые уморительные физиономии, которые могли бы рассмешить самого Катона.
Все весело и громко хохотали.
Крейслер, восхищенный, поцеловал у Юлии руку, которую она быстро отдернула с неудовольствием.
– Ах, капельмейстер, – воскликнула она, – может быть, ваши сумасбродные шутки и остроумны, но я, право, не могу с ними помириться! Такой убийственный переход из одной крайности в другую производит на меня какое-то режущее впечатление. Прошу вас, любезный Крейслер, не требуйте больше никогда, чтобы я пела что-нибудь комическое, хотя бы и такое грациозное, милое, когда в душе моей еще рыдают скорбные звуки, наполняя ее глубоким волнением. Не требуйте больше никогда, – не правда ли, вы мне обещаете это, любезный Крейслер?
Капельмейстер хотел отвечать, но в это самое мгновение подошла принцесса и обняла Юлию крепче и засмеялась громче, чем это было прилично, по мнению обер-гофмейстерины.
– Прижмись к груди моей, – воскликнула она, – крепче прижмись, о, самая нежная, самая чувствительная, самая прихотливая из всех мельничих! Ты можешь мистифицировать решительно всех баронов, управляющих и нотариусов, ты можешь, кроме того…
Принцесса не договорила и снова разразилась громким смехом. Потом, быстро обращаясь к капельмейстеру, она сказала:
– Вы совсем примирили меня с собой, любезный Крейслер! О, теперь я понимаю вполне ваши юмористические выходки. Они имеют очень глубокое значение. Только в разладе разнороднейших ощущений и самых враждебных чувств обнаруживается высшая жизнь! Благодарю вас, сердечно благодарю! Вот, я позволяю вам поцеловать мою руку!
Крейслер взял протянутую руку и опять вздрогнул, так что должен был помедлить несколько мгновений, прежде чем решился поцеловать нежные пальчики, затянутые в перчатку, склоняясь при этом так почтительно, как будто он все еще был советником при посольстве. Ему самому показалось чрезвычайно забавным, что он испытывает такое ощущение при прикосновении руки княжны.
– В конце концов, – сказал он самому себе, когда принцесса отошла в сторону, – я должен думать, что принцесса представляет собой нечто вроде лейденской банки, поражающей электрическим ударом всех честных людей, когда только ее сиятельству заблагорассудится!
Принцесса весело прыгала, танцевала, смеялась, напевала La Rachelina molinarina и целовала то одну, то другую даму, уверяя, что никогда в жизни ей не было так весело и что этим она обязана славному капельмейстеру. Строгая и серьезная Бенцон смотрела на это с крайним неудовольствием и наконец, отведя принцессу в сторону, шепнула ей:
– Гедвига, помилуйте, что за поведение!
– Я думаю, милая Бенцон, – возразила принцесса, у которой глаза блестели, – я думаю, что мы не будем сегодня умничать и критиковать, а отправимся лучше спать! Да, спать, спать!
И с этими словами она велела подать себе карету.
В то время как принцесса предавалась лихорадочной веселости, Юлия была безмолвна и печальна. Склонив голову на руку, она сидела у рояля, и ее видимая бледность и затуманенный взор ясно доказывали, что ее грусть причиняет ей даже чисто физические муки.
И Крейслера покинул его юмористический жар. Уклоняясь от всякого разговора, он медленно направился к двери. Бенцон удержала его.
– Я сама не знаю, – проговорила она, – что за странное смущение сегодня…
(М. прод.) …до меня донесся и знакомый, и таинственный аромат, сам не знаю от какого великолепного жаркого; он струился над крышами в виде каких-то голубоватых облачков, и в туманной дали раздавались милые голоса, шептавшие в вечерней тишине:
– Мурр, Мурр, возлюбленный мой, где ты медлил так долго?
И в ответ на этот таинственный голос я запел:
О, грудь моя, зачем же снова
Ты так трепещешь, так томишься?
Ты счастья жаждешь неземного?
Ты к небесам, мой друг, стремишься?
Воспрянь, о кот! Забыть спеши
Тоску больной своей души!
И вот надежда оживает,
Мой дух исполнен обаянья,
Веселье мной овладевает!
Восстань на смелые деянья!
Стремись бестрепетно вперед:
Тебя жаркое где-то ждет!
Так пел я, предаваясь восхитительным снам и совсем забывая об ужасном шуме, суматохе и криках: «Пожар!» Но и здесь, в родном моем царстве, на крыше меня не хотели оставить странные видения того незнакомого ужасного мира, в который я впервые попал игрой рокового случая. Прежде чем я успел принять какие-нибудь меры предосторожности, из дымовой трубы показалось одно из тех странных чудищ, которые у людей называются трубочистами. Заметив мое присутствие, черномазый негодяй воскликнул: «Прочь, котище!» – и швырнул в меня своим помелом. Уклоняясь от удара, я перепрыгнул на другую ближайшую крышу и начал спускаться по водосточной трубе. Но кто изобразит мое радостное изумление, могу сказать, мой радостный испуг, когда мне стало ясно, что я нахожусь на крыше дома, где живет мой славный, добрый господин! Проворно карабкался я от одного слухового окна к другому, но все они были заперты. Я возвысил свой голос – тщетно, мне никто не внимал! Между тем над горевшим домом все выше и выше поднимались грозные тучи дыма, между ними сверкали светлые струи воды, тысячи голосов сливались в диком, нестройном говоре, а пожар все разрастался, становился все более страшным. Вдруг открылось предо мной слуховое окно, и из него выглянул мейстер Абрагам, одетый в свой желтый шлафрок. Увидев меня, он радостно воскликнул:
– Мурр, добрый мой кот Мурр, да ты здесь! Ступай скорей, серый плутишка!
Я не преминул всеми способами, бывшими в моем распоряжении, выказать также и мою радость: и мы ликовали в чудный момент свидания. Мейстер гладил меня по спине, и от внутреннего благополучия я изливал все свои сладкие чувства в виде нежных, чарующих звуков, которые только неточно и лишь для насмешки называют люди мурлыканьем.
– Ха-ха-ха, – рассмеялся весело мейстер. – Тебе хорошо, юнец, когда ты вернулся домой из долгих странствий, а ты, брат, и не подозреваешь, что мы сейчас находимся в большой опасности. Глядя на тебя, я и сам, пожалуй, хотел бы сделаться таким беспечальным котом, счастливым котом, который ничуть не заботится ни о пожаре, ни о пожарной команде, ни о том, что может сгореть движимое имущество. Еще бы! Ведь единственная движимость, находящаяся во владении твоего бессмертного духа, – это ты сам!
Мейстер взял меня на руки и спустился в комнаты.
Едва только мы сошли с чердака, как в комнату мейстера вошел, или, вернее, ворвался профессор Лотарио, за которым следовали еще два каких-то человека.
– Помилуйте, мейстер, – воскликнул профессор. – Ведь вы в опасности, огонь уже перекидывается на вашу крышу. Позвольте вынести ваши вещи.
Мейстер весьма сухо заявил, что во время такой опасности опрометчивое рвение друзей гораздо гибельнее самой опасности, так как все, что в подобных случаях бывает спасено от огня, все равно летит к чертям, только еще более верным способом. Он сам помнит, когда одному из его друзей угрожал пожар, он, мейстер, обуянный благодетельным энтузиазмом, выкинул из окна большую группу из китайского фарфора, чтобы она не сгорела. Если им угодно, они могут упаковать в сундук белье, три ночных колпака, два серых сюртука и другие принадлежности одежды, между которыми нужно особенно рачительно хранить шелковые панталоны; могут также уложить в одну или две корзины книги и манускрипты, но что касается инструментов и машин, мейстер покорнейше просит не прикасаться к ним. Если же крыша действительно загорится, он удалится из квартиры, захватив с собой всю свою движимость.
– Но прежде, – так заключил он, – позвольте мне угостить хорошенько моего соквартиранта и сотоварища! Потом хозяйничайте, как вам угодно.
Все громко расхохотались, увидев, что мейстер подразумевает меня.
В комнате разлился чудный аромат кушанья: обольстительная надежда, тешившая меня на крыше и выразившаяся в сладостных звуках, полных ожидания и страсти, дождалась своего осуществления.
Когда я подкрепился пищей, мейстер посадил меня в корзинку. Подле меня, где оставалось еще маленькое местечко, он поставил блюдечко с молоком и тщательно покрыл корзинку.
– Сиди себе здесь спокойно, кот, – проговорил мейстер, – не выходи из своей темной квартиры, а для развлечения лакай время от времени свой любимый напиток, если же ты выйдешь отсюда и вздумаешь прогуляться по комнате, они могут в суматохе отдавить тебе хвост или ноги. Если придется спасаться, я возьму тебя с собой, чтобы ты не забежал куда-нибудь, как это уже случилось раз. Ах, достопочтенные господа, вы там копошитесь с разным старьем и даже не подозреваете, что за чудный, умный, основательный кот сидит в корзинке. Естествоиспытатели со свойственной им желчностью утверждают, что все коты, даже образованные, обладая в совершенстве разными отличными качествами, каковы склонность к убийству, воровская ловкость, плутовство, в то же время не имеют, так сказать, чувства направления и, забежавши куда-нибудь, не могут найти настоящую дорогу в разные места. Однако мой славный Мурр представляет в этом смысле блестящее исключение. Вот уже два дня, как я заметил его отсутствие и крайне сожалел о такой потере, тем не менее сегодня он вернулся, и, как я могу догадываться, крыши служили ему как бы приятнейшим шоссе. Добряк доказал таким образом не только свой ум и свою находчивость, но, кроме того, и трогательную верность своему господину, благодаря чему я теперь люблю его еще больше, чем прежде.
Похвалы мейстера порадовали меня до глубины души: утешенный и довольный, я почувствовал все мое превосходство над другими представителями моей породы, над целым стадом заблудших котов, лишенных шишки местности. И сильно я подивился, что сам не мог вполне усмотреть все необычайное величие своего ума. Правда, я вспомнил, что в сущности юный Понто показал мне надлежащую дорогу, что в сущности помело трубочиста привело меня на надлежащую крышу, но тем не менее я не смел сомневаться в собственной мудрости и в правдивости похвал, которыми наделил меня мейстер. Как сказано, я ощущал в себе внутреннюю силу, и это чувство служило ручательством верности всего, что мне приписывали. Незаслуженная похвала радует гораздо больше, чем заслуженная, так я слышал когда-то или, может быть, читал. Но это справедливо лишь в применении к людям! Разумные коты свободны от подобной глупости, и я твердо верю, что и без Понто, и без трубочиста я нашел бы истинный путь и что оба они только возмутили правильный ход развития моей идеи. Ничтожная доза практической мудрости, которой так хвастался Понто, была бы приобретена мною и другим способом, хотя, конечно, различные приключения, пережитые мною с моим милым пуделем, с этим «aimable roué»[51]51
Очаровательный пройдоха (фр.).
[Закрыть], доставили мне материал для дружеских писем, в форме которых я излагаю свои путевые впечатления. Письма эти с большим успехом могли бы печататься во всех утренних и вечерних листках, во всех элегантных и свободомыслящих органах, ибо в них лучезарно светят все ослепительные свойства моего «я», что для каждого из читателей должно представлять наибольший интерес. Но я отлично знаю, все эти господа редакторы и издатели спросят: «Кто этот Мурр?» – и, когда узнают, что я кот, хотя самый гениальный кот на всем свете, они презрительно скажут: «Кот! И туда же – хочет писать!» И если бы я обладал юмором Лихтенберга и глубиной Гаманна – о том и другом я слышал много хорошего: должно быть, они недурно писали для людей, тем не менее они успокоились на лоне смерти, а это вещь очень рискованная для писателей, желающих жить в сердцах людей, – да, так если бы я даже обладал юмором Лихтенберга и глубиной Гаманна, и тогда я получил бы назад свою рукопись, быть может, только по той причине, что, имея в виду мои когти, никто не стал бы ожидать от меня легкого, грациозного стиля. Quel chagrin![52]52
Какое горе! (фр.)
[Закрыть] О, предрассудки, возмутительнейшие предрассудки, как сковываете вы людей, в особенности тех из них, которые называются издателями!
Профессор и пришедшие с ним люди делали, проходя мимо меня, какие-то страшные гримасы, которые, как мне казалось, были совсем лишними и во всяком случае бесполезными при упаковке ночных колпаков.
Вдруг какой-то глухой голос закричал издалека:
– Дом горит!
– Эге, – сказал мейстер Абрагам, – теперь, значит, дошла очередь и до меня. Подождите, господа, немножко, я пойду посмотрю, как велика опасность и сейчас же вернусь. Мы будем продолжать упаковку вещей!
С этими словами он поспешно оставил комнату.
Струхнул-таки я, сидя в своей корзинке. Дикая суматоха, дым, начавший проникать в комнату, все усиливало мой страх. В голове моей возникли разные черные мысли. Что, если мейстер позабудет обо мне, и я бесславно погибну в пламени! Я почувствовал смертельный страх, и у меня началась пренеприятная резь в животе. «Ха, – подумал я, – что, если мейстер, завидуя знаниям моим, желая отделаться раз и навсегда от всяких забот обо мне, посадил меня в эту корзинку нарочно, питая в фальшивой душе самые черные замыслы! Что, если даже этот напиток, белый и чистый, точно невинность, есть яд, приготовленный низким коварством с целью меня умертвить!» О Мурр, восхитительный Мурр, ты даже в смертельной тоске мысли свои облекаешь в нежную форму каданса! Даже в столь важный момент борьбы между жизнью и смертью помнишь ты светлым умом, что когда-то Шекспира читал!
Мейстер Абрагам просунул в дверь голову и сказал:
– Ну, господа, опасность миновала! Садитесь спокойно за стол и пейте винцо, которое вы нашли в шкафу. Я со своей стороны отправлюсь на крышу и еще попрыскаю там немного. Только нужно посмотреть сперва, что поделывает мой добрый кот.
Мейстер подошел, снял крышку с корзинки, в которой я сидел, начал говорить со мной дружеским тоном, осведомился, как я себя чувствую, и спросил, не хочу ли я поесть жареной дичи. На все эти вопросы я отвечал многократным сладостным «мяу» и растянулся в самой комфортабельной позе, из чего мейстер вполне справедливо заключил, что я совершенно сыт и хочу еще немножко полежать в корзинке. Он закрыл ее опять и отошел.
Как глубоко убедился я теперь, что мейстер Абрагам относится ко мне действительно дружески! Я должен был бы стыдиться своего низкого недоверия, если бы не знал, что личность выдающаяся не считает приличным стыдиться когда бы то ни было и чего бы ни было. В конце концов, подумал я, этот страх, это недоверие, исполненное мрачных предчувствий – были не чем иным, как поэтической мечтательностью, которая свойственна всем молодым, гениальным энтузиастам, пользующимся ей, как опьяняющим опиумом. Такое сознание успокоило меня совершенно.
Едва только мейстер вышел из комнаты, как профессор – я ясно видел это сквозь стены своего обиталища – бросил на корзинку подозрительный, недоверчивый взгляд, оглянулся кругом и потом кивнул другим, как бы давая понять, что он имеет сообщить им нечто важное. После этого он начал им что-то говорить таким тихим голосом, что я не мог бы уловить ни одного слова, если бы Небеса не снабдили меня невероятно острым слухом.
– Знаете, что мне хочется сделать? Мне хочется подойти к корзинке, открыть ее и всадить вот этот острый нож в глотку проклятому коту, который сидит да издевается, вероятно, над всеми нами в наглом своем самодовольстве!
– Что за фантазии, Лотарио! – воскликнул другой. – Вам хочется убить славного кота, любимца нашего уважаемого мейстера? И почему вы так тихо шепчете?
Профессор, продолжая говорить таким же подавленным голосом, объяснил, что я все понимаю, что я умею читать и писать, что мейстер Абрагам непостижимым, таинственным образом преподал мне различные науки, так что уже теперь, как Лотарио знает от пуделя Понто, я сочинительствую и пишу стихи, и что все это понадобилось лукавому мейстеру лишь затем, чтобы потешаться над настоящими учеными и поэтами.
– О, я вижу отлично, – продолжал со сдержанным бешенством Лотарио, – уже и теперь мейстер Абрагам вполне завладел доверием великого герцога, а с этим злокозненным котом он добьется всего, что только ему понадобится. Подлая бестия будет называться magister legens[53]53
Магистр, имеющий право читать лекции (лат.).
[Закрыть], получит докторскую степень, станет, наконец, читать лекции в качестве профессора эстетики, станет читать об Эсхиле… Корнеле… Шекспире!.. Я просто готов утратить рассудок! Кот будет рыться в моем святилище, а у него такие подлые когти!
При этих словах Лотарио, господина профессора эстетики, все были поражены крайним изумлением. Один полагал, что совершенно немыслимо, чтобы кот мог читать и писать, так как усвоение этих необходимых элементов всех наук требует не только обладания способностью усвоения, которой наделен лишь один человек, но требует еще и известной доли разума, которым обладают далеко не все люди, хотя они и гордость мироздания, а тем не менее бессмысленное животное.
– Любезнейший, – заговорил другой, как мне показалось из корзинки, чрезвычайно серьезный господин, – что разумеете вы под бессмысленным животным? Нередко, погрузившись в тихое самосозерцание, я испытываю глубочайшее почтение перед ослами и перед другими полезными животными. Я не понимаю, почему приятное домашнее животное, одаренное счастливыми природными способностями, почему бы оно не могло научиться читать и писать, почему бы оно даже не могло возвыситься до роли ученого или поэта? Разве у нас нет тому примеров? Конечно, я не могу указывать на «Тысячу и одну ночь», как на солидный исторический источник с несомненными прагматическими достоинствами; но разве сами вы, любезнейший, не помните о «Коте в сапогах», о Коте, исполненном благородства, проницательного ума и глубокой учености?
Услышав похвалы коту, бывшему моим достойным предком, как это явственно говорил мне внутренний голос, я так обрадовался, что не мог удержаться и два или три раза чихнул.
Оратор умолк, и все боязливо посмотрели на мою корзинку.
– Contentement, mon cher![54]54
На здоровье, дорогой мой! (фр.)
[Закрыть] – воскликнул наконец серьезный господин, только что говоривший. – Если не ошибаюсь, вы, достопочтенный эстетик, упомянули тут о пуделе Понто, вы сказали, что он изобличил перед вами поэтические и ученые начинания кота. Это напоминает мне о честнейшем Берганце Сервантеса; недавно в чрезвычайно интересном сочинении были доставлены сведения об его судьбах. Эта собака также представляет собой характерный пример способности животных к образованию и приобретению сведений.
– Однако, любезнейший друг, – заговорил другой, – что за примеры вы приводите? О собаке Берганце говорит Сервантес, а он, как известно, был романист. История Кота в сапогах – детская сказка. Конечно, Людвиг Тик рассказал ее так живо, представил все так наглядно, что действительно может произойти недоразумение и легко представить себе, что все это было в действительности. Итак, вы ссылаетесь на двух поэтов, как будто бы они были натуралистами или психологами. Неужели вы не знаете, что художники менее всего строгие мыслители, что они неисправимые фантазеры, распространяющие среди публики разные небылицы? Скажите, пожалуйста, каким образом такой рассудительный человек, как вы, мог сослаться на поэтов, чтобы засвидетельствовать вещь, противную всякому здравому смыслу? Лотарио – профессор эстетики, и ему позволительно иногда сболтнуть вздор, но вы…
– Погодите, – заговорил серьезный господин, – не горячитесь так. Подумайте-ка лучше серьезно о том, что, когда идет речь о чудесном, о невероятном, можно ссылаться именно только на поэтов, потому что простые историки ни черта в таких вещах не смыслят. Да-с, когда что-нибудь волшебное приведено в надлежащую форму и должно быть сообщено в виде чисто научных фактов, доказательства известного тезиса всегда с наибольшим удобством почерпают у одного из знаменитых поэтов, на слова которого можно положиться. Я вам приведу один пример, и вы должны быть им довольны, будучи сами ученым доктором! Я приведу вам пример одного знаменитого врача, который, сочиняя научный трактат о животном магнетизме, ссылается на Шиллера и его «Валленштейна» с целью наглядно доказать соотношение человеческой души с мировым духом и существование удивительной способности предчувствия. Он цитирует из Шиллера слова «Есть в жизни человека подобные мгновенья» и потом: «Такие голоса для нас звучат – сомненья в этом быть не может». Продолжение вы сами можете прочитать в трагедии.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?