Текст книги "Литературное досье Николая Островского"
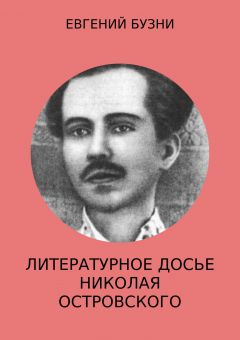
Автор книги: Евгений Бузни
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 19 страниц)
«Милый дружочек Шурочка!
Получил твоё письмо от 12/X. Я буду писать кратко, т.к. каждое слово – мучительная боль глаз – я пишу наслепую, не видя.
Итак, я с головой ушёл в классовую борьбу здесь. Кругом нас здесь остатки белых и буржуазии. Наше домоуправление было в руках врага – сына попа, бывший дачевладелец. Я и Рая, ознакомившись со всеми, организовываем рабочих и своих товарищей, живущих здесь, и требуем перевыборов домоуправа. Все чуждые взбесились и всё, что могли, делали против – 2 раза срывали собрание. Загорелись страсти. Но, наконец, в 3-й раз собрались у меня в комнате все рабочие и комфракция и наше большинство голосов выбрало преддомуправ<лением> рабочую, энергичную женщину. Домоуправление в наших руках…
Шура! Несмотря на то, что я здесь заболел и тяжело чувствую, я всё забываю, и хотя много тревоги и волнений, но мне прибавилось жизни, так как группа рабочих, группируясь около меня, как родного человека, ведёт борьбу, и я в ней участвую".
Да, не до романа было в это время прикованному к постели, но беспокойному в жизни Островскому.
О результатах его активной деятельности в этот период мы читаем в письме Жигиревой от 12 декабря 1928 г.:
" У нас здесь столько новостей, столько происшествий, что я, конечно, не смогу всего написать даже в огромном письме. Рая пишет отдельно о своих делах. Итак, здесь работает комиссия по чистке соваппарата. Председатель – пред. Крайсуда и др. Позавчера и сегодня у меня куча гостей. Вся комиссия целиком приехала, были Вольмер и чл<ены> бюро РК, товарищи из ГПУ и др.
На меня обрушился поток людей, занятых очисткой нашего аппарата от разной сволочи.
Я, конечно, не могу всего рассказать, это мы с тобой при твоём летнем приезде <обсудим>, но основное я расскажу.
Всё то, что я отсюда писал в Москву, в край и т.п., разбиралось и дополнялось в моём присутствии всей комиссией. Не подтвердилось только… одно, а всё остальное раскрыто и ликвидируется. Товарищи все лично убедились в той обстановке, в которой я был, также холодная блокада, и камни в окна, и многое другое поважнее, и некоторое общественное, меня не касающееся лично.
Моя линия и поведение признаны правильными – партийными, все подлости и обвинения прочь. Ни о какой «оппозиционности» не могло быть и речи и т.д. – вот те выводы, которые я получил от товарищей…
…Конечно, Шурочка, я не должен быть ребёнком и думать, что всё сразу станет хорошо. Много есть хороших слов, и их приятно слушать, но ничего так празднично не делается, но у меня есть громадное моральное удовлетворение, я увидел настоящих большевиков, и меня не так сжимает обруч, и только теперь я чувствую, сколько сил ушло у меня и как я слепну".
Однако в 1928 году были и другие светлые моменты в жизни Николая Островского. Летом этого года он по путёвке райкома партии направляется на лечение в сочинский санаторий «Старая Мацеста», где знакомится с несколькими людьми, ставшими на всю жизнь его ближайшими друзьями. Среди них Жигирева, Чернокозов, Паньков. На последней фамилии мне бы хотелось остановиться несколько подробней.
Вот как вспоминает о встрече с этим человеком Раиса Порфирьевна в книге о Николае Островском:
"Тогда же, в санатории, Островский познакомился с харьковским писателем Михаилом Васильевичем Паньковым. У Панькова болели ноги, все дни он проводил в коляске: его возила приехавшая с ним жена, но вообще это был здоровяк: крепкий, полный, румяный красавец. Одет с иголочки, по-европейски.
Паньков много рассказывал о Германии, где проходил курс лечения. Это был интереснейший человек.
А главное – Михаил Паньков был первым писателем, с которым познакомился Николай Островский. Они быстро сошлись, долго оставались вдвоём, вели разговоры о литературе. Вот с ним-то Николай и поделился своими планами, рассказал, что хочет написать книгу о молодёжи, о комсомольцах двадцатых годов, рассказать об их борьбе за новую жизнь. Паньков обещал оказать ему помощь как редактор".
Но мы помним, что первой такую помощь Островскому якобы предложила ещё в 1926 г. Марта Пуринь во время их второй встречи в Новороссийске, о чём она написала в своих воспоминаниях. Ведь в то время Пуринь работала в очень авторитетной газете «Правда» и могла реально оказать содействие. Если бы всё это было так, то, наверное, написав свою первую повесть, молодой писатель тут же послал бы её в первую очередь в Москву своей подруге, с которой продолжал в то время переписываться (правда письма к Пуринь не сохранились) и которая обещала помочь. Но, по всей вероятности, ни такого разговора с Пуринь, ни повести о котовцах на самом деле не было.
Что же касается встречи с писателем Паньковым, то тут дело обстояло совсем иначе.
В письме Новикову, который живёт в Харькове, как и Паньков, Островский пишет 19 марта 1929 г., обращаясь к своему другу с просьбой, выраженной по-товарищески в виде приказа:
«Теперь тебе задание, слушай: в Харькове, в гостинице „Астория“, комната 118, живёт мой знакомый по санаторию Мацеста ответ. работник тов. Паньков. Он, кажется, в Наркомпросе редактор газеты. Итак, явись к нему – он скоро за границу едет – и скажи ему, что ты мой друг, и едешь в Сочи, и будешь у меня, и что я тебе написал обязательно зайти к нему и узнать, как здоровье, и если он уехал за границу, то адрес его. За радио ничего не говори ему и, если он тебе передаст для меня какие-нибудь книги или батареи, – бери и, если сможешь, передай их твоей знакомой. Паньков очень славный парень, он мен дал слово прислать разного рода радиобарахла, – если он не забыл, – но ты язычок держи – не проболтайся, что ты и штанишки загнал, снабжаючи меня разной техникой».
И опять-таки мы видим, что в письме, упоминая Панькова, Островский ничего не говорит о литературе, о том, что ему новый товарищ сулил помощь с редактированием, но вспоминает о действительно важном для него обещании прислать радиодетали. По-видимому, мысль о написании романа, если она есть, в это время ещё не является столь важной, не жжёт мозги. Главными на этот момент являются проблемы здоровья и радиодетали, о чём он пишет во всех письмах практически всем друзьям. Надежда на какой-то успех от лечения возлагается теперь на Москву, на профессора глазной клиники Авербаха.
Любопытно, что, уже приехав в Москву на лечение, Островский пишет Ляхович 24 ноября:
"Надо тебе сказать, что пребывание в клинике для меня тяжело. Главное, некому читать, и я с завистью вспоминаю те дни, когда мы вдвоём читали дни и ночи".
Вот ведь что беспокоит. И опять ни слова о том, что не может писать. Видимо, эта идея ещё не захватывает все мысли. Да и как писать на больничной койке в палате на восемь человек, когда либо у тебя, либо у соседа процедуры, приём лекарств, ожидание операции? Но трёхмесячное пребывание в клинике не принесли ожидаемого результата, зрение не восстановилось, и теперь мысли были заняты проблемой получения в Москве комнаты для постоянного проживания. 10 января Островский пишет Ляхович:
"Операцию глаз делать сейчас невозможно до окончания воспалительного процесса. В Москве меня захватила зима, как в мышеловку. В клинике я отчаянно простудился, пролихорадил целый месяц… Я поставил своей задачей сбежать во что бы то ни стало из лечеб<ных> учреждений и куда бы то ни стало. В большие подробности моей лазаретной жизни не буду вдаваться, они мне осточертели. Я предпринимаю целый ряд шагов для того, чтобы эвакуироваться. Меня собираются перетащить в Кремлёвскую, но я всё же целюсь наутёк… завтра Рая должна принести ответ на мою попытку получить в Москве комнату.
Это почти безнадёжная попытка, но всё же попытка. Если, «старуха», это удастся – пустим пару мыльных пузырей, – то мы ещё увидимся и почитаем достаточное количество газет и журналов".
Чрезвычайно оптимистичные строки, да ещё с юмором, для человека, теряющего надежду на выздоровление. Но вечный оптимизм – это, пожалуй, главная черта характера молодого человека, которая, собственно, и сделала его писателем. Но это потом. Почти месяц спустя, 7 февраля, Островский пишет Новикову из той же клиники:
"Милый Петя!
Не буду совершенно оправдываться о молчании, ну их к бесу, эти оправдания. Итак, милый дружок, начинаю рассказывать: у меня в Москве такая заваруха, что я не могу сам ориентироваться и планировать, просто живу надеждой, что новый день принесёт какое-либо изменение, а в основном можно сказать кратко следующее:
1) все лечучреждения надоели до смерти, как видим, даже такие опытные люди, как я, ошибаются, попадая опять в них; 2) нами поставлена ставка на остановке в
Москве, в этом отношении есть уже постановление соответствующих органов дать мне комнату, все бюрократические ступени пройдены до самой последней исполняющей – это РИК'. И там сказали – через месяц получим, но в Москве не только слезам, но и словам не верят, посмотрим, что будет. Предсказывать на 100% трудно, но, выражаясь экономически, говорю: зато, что дадут комнату, вообще 90%, за то, что дадут на днях или через месяц, 50%, но бывают счастливые случайности, я на них надеюсь. Конечно, надеяться на случайность – это не диалектический способ мышления, но в данном случае это так; 3) я устал до ручки, мне необходимо получить «перезарядку» и отойти и затем составлять какой-либо план пребывания на грешной земле. Для такого элемента, как я, планировать хотя бы на месяц вперёд – невозможная вещь. Отсюда анархия и путаница в мыслях в первую очередь. Теперь, товарищ, поговорим о более весёлом. А если меня нелегкая оставит в Москве, а это даже в худшем случае будет известно в марте месяце, то сейчас же, конечно, вырастает вопрос о твоём приезде в гости, тогда бы договорили то, о чём не удалось нам договорить. Как ни странно, но о серьёзных вещах мы забываем или говорим между прочим".
Ну, может быть, под словами «о серьёзных вещах» Островский имеет в виду написание романа? Но нет. Как это ни покажется удивительным, однако человек, ожидающий сложную операцию на глазах, безмерно уставший от многолетних болезней, не могущий в своей жизни «планировать хотя бы на месяц вперёд», думает в это время о своём товарище, о том, что Петру Новикову давно пора вступать в партию. Об этом серьёзном деле он и напоминает другу в письме с больничной койки. И, по-прежнему, ни слова о литературе, что как раз и понятно.
Зато сколько веры в жизнь, в то, что ещё не всё потеряно. 22 февраля 1930 г. он пишет из клиники Жигиревой. Процитирую письмо полностью.
"Милая Шурочка!
Ты, наверное, удивлена, что твои приёмыши молчат. Шурочек, будь немного светлее, будь хоть немного хорошего у меня лично, я бы с тобой поделился сейчас же, но у меня есть опыт в том, сколько тревоги и неспокоя я вношу в твою жизнь всем тем, что меня окружает, и я, даже хорошо зная тебя, знаю также и то, что сейчас же будешь реагировать на всё, но так <одно слово неразборчиво> я не могу. Такой товарищ, как я, всегда будет вносить тревогу, потому что жизнь сурова и не терпит не стоящих на ногах.
Я лучше других сознаю и ощущаю железный период идущих дней, и у меня вообще нет нерешённого, но, Шурочка, все эти вот сейчас идущие впереди месяцы, максимум год, пока не станет ясней проблема глаз, я буду жить, хотя бы каждый день был тяжёл.
Милый дружок, меня некоторые товарищи несколько подвели, и из-за этого небольшие толчки и подзатыльники мне попадают – но это так нормально.
Ведь верно же, что если сегодня пасмурно, то завтра может быть светлее.
Теперь я хочу тебе написать вот о чём, это о моей партийной дочурке – о Раечке, она переводится в члены ВКП(б). Мне немножко неудобно дать ей вторую рекомендацию (одну ей даст член ячейки), вторую – пока ещё мало работает здесь. Шурочка, если это тебе не будет неудобно почему-либо, то ты ей дашь свою. Это формальность, но её надо выполнить. Ты мне ответь.
Раёчек, моя хорошая дочурка – это мой последний взнос в ВКП(б), взнос живым человеком – будущим бойцом, честной, преданной труженицей.
Я устал, Шурочка. Жму твою руку крепко.
Коля.
Привет всем и Лёне".
И опять мысли о ком-то, кому надо помочь. Это главное в жизни неунывающего, хотя и очень тяжело больного молодого (не забудем) человека.
И вот 22 марта операция состоялась, а в начале апреля Островского уже выписали из клиники. Об этом и о переезде в московскую квартиру (фактически половину комнаты коммунальной квартиры) он немедленно в двух словах сообщает Жигиревой, пообещав подробнее сообщить после того, как слегка поправится. И вот письмо ей же 22 апреля:
"Милая Шура!
Привет, с наступающим 1 Мая. Я переехал из клиники в данную нам комнату. Адрес: Москва, 34, Мертвый переулок, 12, кварт. 2.
Хочу уехать числа 2-го мая в Сочи, не знаю, удастся ли это технически. Мне вырезали паращитовндную железу по способу ленинградского проф. Оппеля'. Делали под местным наркозом 11/2 часа. Было тяжело 9 дней. После операции лихорадило (40°).
Обессилел страшно, но есть результаты – начинают немного шевелиться суставы.
Рая все ночи проводила у меня, я представляю, как она измоталась. Все говорят, что она страшно похудела.
Все врачи мне твердят, что Мацеста мне нужна именно после операции, будет происходить рассасывание солей в суставах. У меня ненормальное количество кальция в крови, вместо… <нрзб>.
После операции начал успокаиваться процесс в глазах – скоро месяц, а ни разу не болели. Было бы хорошо, если б успокоились, тогда Авербах сделал бы операцию.
Шурочка, почему ты молчишь, что у тебя?
Я знаю про все твои волнения. Но ведь вся жизнь такая.
Будем ожидать от тебя хоть коротенькой записки.
Скажи, Шура, разве мы не встретимся в этом году?
Раёк работает на той же фабрике. Дали ей ещё одну нагрузку – заведовать передвижной библиотекой. Я так много забираю у неё времени, что она не в силах везде поспеть.
Её переводят скоро в члены ВКП(б).
Много хотелось бы тебе написать, но нет сил. Слаб я, Шурочка. Привет твоим друзьям.
Крепко жмем руки.
Николай и Рая.
Но к этому письму Островского была ещё небольшая приписка, очень важная для рассматриваемого нами вопроса.
"Оказалось так, что у нас нет в Москве ни одного друга (один парень, что приезжал к тебе)55
Имеется в виду Михаил Финкельштейн, с которым Островский лежал в одной палате в московской клинике, ставший другом Николая.
[Закрыть].
Хотя я 12 часов нахожусь сам – Рая 8 часов производит, туда и обратно 3 часа и час библиотека, это кроме партсобраний и заседаний культкомиссии. Но мне здесь лучше (в отношении психики), чем в лазарете. Меня никто не тревожит.
Коля”
Здесь я хочу напомнить читателю о том, что квартира в Мёртвом переулке, в которой поселились Островские, сыграла большую роль в жизни писателя, ибо именно в ней была написана первая часть романа «Как закалялась сталь». Именно по этой причине я останавливаюсь подробно на письмах Островского, отправленных из этой квартиры, особенно в первое время проживания в ней. Почему этот период меня волнует, объясню чуть позже.
Через неделю после письма Жигиревой Островский пишет письмо Розе Ляхович, которое я тоже привожу полностью по определённой причине:
" Дорогой тов. Розочка!
Хотя сил нет, но берусь за карандаш. У меня вообще хватает горя, и ещё одно горе – вас не будет. Я вас так ожидал. Ведь не надо же горы писем писать, чтобы доказать факт крепкой дружбы, нас всех соединяющей. Точка. Экономлю силы.
Итак, я, получив ещё один удар по голове, инстинктивно выставляю руку, ожидаю очередного, так как я, как только покинул Сочи, стал учебной мишенью для
боксеров разного вида; говорю – мишенью потому, что только получаю, а ответить не могу. Не хочу писать о прошлом, об операции и всей сумме физических лихорадок. Это уже прошлое. Я стал суровее, старше и, как ни странно, ещё мужественнее, видно, потому, что подхожу ближе к конечному пункту борьбы.
Профессора-невропатологи установили категорически – у меня высшая форма психастении. Это верно. 8 жутких месяцев дали это. Ясно одно, Розочка, нужна немедленная передвижка, покой и родное окружение. Что значит родное? Это значит – мать, Рая, Роза, Петя, Муся, Берсенев, Шура, Митя Островский. В общем, те люди, в неподдельной дружбе которых я убеждён. Точка. Тяжёлый, жуткий этап пройден. Из него я выбрался, сохранив самое дорогое – это светлую голову, неразрушенное динамо, то же калённое сталью большевистское сердечко, но исчерпав до 99% физические силы.
Вот это письмо я пишу целый день. Я должен уехать в Сочи немедленно ещё потому, что здесь я нахожусь по 16 часов один. И в том состоянии, в каком я нахожусь, <это> приведёт к катастрофе. Раёк тратит все свои силы в этом завороженном круге – она спит четыре часа максимум в сутки. Точка.
Горячо приветствую установку на Москву (ведь я здесь буду жить, конечно, если доживу). Работу здесь всегда получишь – кризис на вас. В отношении КП(б)У – об этом я ещё буду говорить с тобой. А как совет тебе вообще на это стремление – отвечаю глубоко утвердительно. Истина для меня, что раз не большевик, значит – весь человек не боец передовых цепей наступающего пролетариата, а тыловой работник. Это не отношу только к фронтовикам 1917—1920. Ясно? Нет 100%-<ного> строителя новой жизни без партбилета железной большевистской партии Ленина, без этого жизнь тускла. Как можно жить вне партии в такой великий, невиданный период? Пусть поздно, пусть после боёв, но бои ещё будут. В чём же радость жизни вне ВКП(6)? Ни семья, ни любовь – ничто не даёт сознания наполненной жизни. Семья – это несколько человек, любовь – это один человек, а партия – это 1 600 000. Жить только для семьи – это животный эгоизм, жить для одного человека – нищета, жить только для себя – позор. Двигай, Роза, и хоть, может, будут бить иногда и больно ударять будут, держи штурвал в ВКП(б). Заполнится твоя жизнь, будет цель, будет для чего жить. Но это трудно, запомни, для этого надо много работать. Точка.
Смотри насчёт здоровья. Если сорвёшь здоровье, сорвёшь всё, всю жизнь – смотри на меня: у меня есть всё, о чём мечтаешь ты, но нет сил – и нет ничего. Дальше. Мы обязательно встретимся. Отпуск проведёшь у нас, в своей второй семье. Если рискуешь стать нетрудоспособной, бросай всё немедленно и ремонтируй незаменимое ничем богатство бойца – здоровье.
Привет с 1 Мая. Привет всем.
Николай Островский.
Москва, 34, Мёртвый переулок, 12, кв. 2".
Итак, из писем, написанных Островским в апреле 1930 г., очевидно, что после его ухода из клиники и поселения в Мёртвом переулке, ему было довольно одиноко, поскольку его почти никто не навещал, за исключением нового друга Миши Финкельштейна. Да и со здоровьем после недавно перенесенной операции пока было не так хорошо, хотя и наметилось улучшение. Одно письмо он пишет целый день. И вот как об этом весьма коротком периоде московской жизни Островского вспоминал сам Михаил Финкельштейн:
"Из клиники Николай Алексеевич переселился на жительство в комнату дома в Мёртвом переулке. В комнате было сыровато, холодновато, что составляло главную опасность для здоровья Николая.
Вскоре случилось самое страшное – Николай заболел крупозным воспалением лёгких. Он стал терять сознание… В комнате наступило тяжёлое уныние, томительное молчание, а ещё более – зловещее ожидание. Казалось, Николай догорал, угасал, как свеча.
В течение одной ночи, которую родные и друзья Николая считали последней ночью, я дежурил у постели больного. Я мучительно вглядывался в его измождённое лицо. Мне было страшно в ожидании трагической развязки… Вдруг в какой-то миг едва слышным голосом он спросил: «Кто здесь?» Я ответил: «Миша». Видимо, он хотел ещё что-то сказать, но не мог.
Я вытер пот с лица и рук Николая, дал воды. Мы оба молчали.
– Дай, братишка, пятёрку, – прошептал Николай. Я дал ему руку и продолжал молчать. После некоторой паузы Николай опять шёпотом, но уже более внятно произнёс: Не унывай, Миша, это ещё не то, что ты думаешь. Мы ещё напишем книгу для комсомола".
Михаил Финкельштейн написал свои воспоминания в 1973 году. Тогда он мог и не вспомнить о том, что с Островским в ту предполагавшуюся последнюю ночь, когда он дежурил у постели больного, никого из родных, кроме жены Раи в Москве не было, как и близких друзей, о чём писал в письме Ляхович сам Островский. Поэтому он пишет, очевидно, ошибочно, что эту ночь «родные и друзья Николая считали последней ночью». Об этом можно и не говорить. Но в этих воспоминаниях важно другое – это то, что Островский был настолько сильно болен, что даже являлась угроза скорой смерти.
И в свете этого совершенно удивительными кажутся воспоминания Раисы Порфирьевны Островской об этом же коротком периоде их жизни в Москве:
"Я продолжала работать на консервной фабрике. Наш рабочий день с Николаем начинался в 5 утра. Надо было перестелить постель, накормить его, сделать все, чтобы он мог выдержать мое 10—12-часовое отсутствие. Николай не допускал мысли, чтобы я только ухаживала за ним. Да и надо было зарабатывать на жизнь.
К тому времени я была уже кандидатом в члены партии. Николай помогал мне, радовался моим успехам. «Если жена будет отставать от мужа, – говорил он, – брак будет неравен, а неравный брак разрушает основу счастья, дружбу и взаимное уважение».
Когда я возвращалась домой, он засыпал меня вопросами о жизни фабрики, о работе партийной и комсомольской организаций и вообще просил подробнее рассказать о проведенном дне.
– Мне очень нужны книги, – сказал он как-то вечером. – Не могла бы ты по общественной линии взять на себя передвижную библиотеку? И приносила бы мне книги.
Откровенно сказать, этот вопрос меня удивил. Нужны книги! Но кто их будет ему читать? И все же я обратилась за советом в фабком, там одобрили мое намерение создать «передвижку», так как своей библиотеки фабрика не имела.
И я стала фабричным библиотекарем на общественных началах, получив возможность приносить Николаю необходимую литературу. Сейчас не могу припомнить названия книг. Но поскольку читать приходилось в основном мне, помню, что это была главным образом литература о гражданской войне. Приносила и художественную литературу.
В то время часто навещали Николая И. П. Феденев и М. 3. Финкельштейн, с которым он познакомился и подружился в клинике. Они тоже читали ему газеты и
книги.
Оставаясь один, Коля писал письма друзьям. Перед уходом на работу я готовила ему карандаши и ставила в тяжелом подстаканнике на стул, придвинутый к его
кровати. На кровати с правой стороны в папке оставляла бумагу.
Хотя Николай тогда еще немного видел, но следить за тем, что и как писал, не мог. Лежал он навзничь, неподвижно, поэтому писал наугад, строка находила на строку, слово на слово. Читать написанное им было трудно. Но товарищи научились разбирать его почерк.
Однажды, когда я вернулась с работы, он встретил меня словами:
– Побыстрее справляйся со своими делами, садись и кое-что перепиши.
Я решила, что речь идет об очередном письме к кому-то из друзей.
– Нет, это не письмо, – возразил он. – Садись и пиши. И пока ни о чем не расспрашивай и не удивляйся тому, что будешь писать…
Так началась запись романа «Как закалялась сталь».
Когда я возвращалась с работы, он в первую очередь просил переписать написанное им за день. Потом по нескольку раз перечитывала ему записи, он внимательно слушал, что-то на ходу поправлял, какие-то куски тут же выбрасывал. Еще не было опыта, знаний, но было огромное желание работать, приносить пользу людям.
Так проходили дни.
Но вскоре работа была прервана: врачи настоятельно рекомендовали после операции ехать в Сочи, в Мацесту. Лишь осенью, вернувшись в Москву, Николай снова приступил к систематической работе над романом".
Это воспоминание поразительно не соответствует апрельским письмам Островского, который сообщает в последнем из них о том, что собирается возвращаться в Сочи 2 мая, а ведь выписался он из клиники 14 апреля. Мог ли он, приехав в довольно неустроенную коммунальную квартиру, к дневному шуму которой ещё необходимо было привыкнуть, в эти две недели до первого мая, не оправившись как следует от недавно перенесенной операции, да вдобавок заболев крупозным воспалением лёгких, о чём вспоминал Финкельштейн, мог ли он при этом всём начать писать свой роман и не сообщить об этом ничего в письмах своим ближайшим друзьям? Мне думается, этого произойти просто не могло. Тем более что здесь есть ещё одно противоречие.
В книге "Николай Островский" Раиса Порфирьевна описывает рассматриваемый период жизни в Москве примерно так же, как в книге "Воспоминания о Николае Островском". Но ту есть одна деталь. Цитируя письмо Островского к Ляхович от 30 апреля 1930 г., Раиса Порфирьевна к словам "…и ещё одно горе – вас не будет" даёт следующее пояснение:
"Р. Ляхович собиралась переехать в Москву, но это дело отложилось. П. Новиков и М. Карась обещали приехать в гости и не приехали".
Казалось бы, ничего особенного в этом пояснении нет, но вот что пишет Николай Новиков в своих воспоминаниях, относящихся к этому же самому периоду:
"Следующая встреча с Островским была 1 мая 1930 года. Вместе с Моисеем Карасём мы поехали в Москву повидаться с другом и заодно посмотреть первомайскую демонстрацию.
Имея экскурсионные билеты Общества пролетарского туризма и экскурсий, мы беспрепятственно влились в колонны, идущие на Красную площадь. Прошли мимо трибуны правительства, и людской поток вынес нас на Кремлёвскую набережную. Оттуда по Кропоткинской улице добрались до тихого переулка.
Дверь в квартиру открыла соседка. Вошли в небольшую узкую комнату, отгороженную от другой дощатой, с просветами, ещё неоштукатуренной перегородкой. У перегородки кровать Николая. Рядом на табуретке радио. На одном окне – посуда, на другом – книги.
Николай лежал небритым.
– Не до этого было, ребята! – оправдывался он. – Все дни в хлопотах. Рая забегалась, пока получила ордер на жильё. А потом надо было достать доски и сделать перегородку. Я здесь уже две недели – выписали из клиники четырнадцатого апреля и опять рекомендовали курортное лечение. А тут ещё матушка пишет, что домоуправление требует освободить квартиру в Сочи: мол, такой жилищный кризис, а вы одна занимаете две комнаты. Вот сейчас и гадаем, как поступить.
Обрадованные нашим приездом Николай и Рая рассказывали о своей жизни, о перспективах дальнейшей работы «Райкома» (так мы называли в семейном кругу Раю), о политических новостях в Москве. О тяжёлой зиме, проведенной в клинике МГУ, Николай говорил неохотно, скупо. И мы не расспрашивали.
Утром второго мая купили железнодорожные билеты, договорились о вызове машины «скорой помощи». Лестница широкая, нести Николая было легко. Вдвинули носилки в автомашину, забрались сами, и она понеслась, гудя сиреной. Коля шутил над превращением меня и Карася в «братьев милосердия».
В вагоне, чтобы расширить место на нижней полке, подставили сбоку чемоданы, сверху положили два матраца. Островский уехал в Сочи".
Описывая столь подробно весьма краткую встречу с Островским, Новиков ничего не говорит о том, что его друг начал писать книгу, хотя такой значительный факт в жизни больного человека невозможно было утаить ни самому Островскому, ни его жене, которая в своих воспоминаниях вообще отрицает приезд Новикова и Карася в это время.
Ещё больше непонятного в этот незначительный отрезок времени вносят воспоминания Феденёва. Вот что он пишет весьма коротко, но определённо по поводу апреля 1930 г.:
"В 1930 году Островский поселился в Москве в переулке с мрачным названием «Мёртвый».
Забегая к нему со службы, уставший, я часами сидел и слушал его рассказ о проделанной работе (он уже писал тогда свой роман). Вот он лежит передо мной, и несгибаема его сила воли, а я раскис. Позор! Становилось стыдно за себя.
Раиса Порфирьевна тогда работала на фабрике, вела общественную работу, возвращалась домой поздно. Коля всегда радостно встречал свою подругу. Она рассказывала о своей работе, и они вместе решали возникавшие вопросы.
– Это моя воспитанница, и я счастлив, что она принята в партию, – говорил Островский".
По воспоминаниям Иннокентия Павловича Феденёва получается, что в эти две недели пребывания Островского в Мёртвом переулке ему доводилось быть частым гостем Николая и, если не был свидетелем, то знал о начале работы над романом. Почему же тогда в письме Жигиревой Островский подчёркивает в приписке, «Оказалось так, что у нас нет в Москве ни одного друга (один парень, что приезжал к тебе)», имея в виду Финкельштейна?
О своём друге Феденёве Островский вспомнит позже, в сентябре 1930 года, когда встретится с ним в Сочи и напишет об этом Жигиревой:
«В санатории находятся 2 моих приятеля – Пузыревский и Феденёв. Они мне помогут перебраться в Мацесту».
Феденёв пока лишь приятель, не более ни менее. Но это важно иметь в виду. Об этих приятелях Жигиревой сообщается в письме от 10 сентября. А буквально на следующий день в письме Петру Новикову Островский пишет важные для прояснения творческой лаборатории писателя строки:
"Петя! У меня есть план, имеющий целью наполнить жизнь мою содержанием, необходимым для оправдания самой жизни.
Я о нём сейчас писать не буду, поскольку это проект. Скажу пока кратко: это касается меня, литературы, издательства «Молодая гвардия».
План этот очень труден и сложен. Если удастся реализовать, тогда поговорим. Вообще же непланированного у меня ничего нет. В своей дороге я не путляю,
не делаю зигзагов. Я знаю свои этапы, и потому мне нечего лихорадить. Я органически, злобно ненавижу людей, которые под беспощадными ударами жизни начинают выть и кидаться в истерике по углам.
То, что я сейчас прикован к постели, не значит, что я больной человек. Это неверно! Это чушь! Я совершенно здоровый парень! То, что у меня не двигаются ноги,
и я ни черта не вижу, – сплошное недоразумение, идиотская какая-то шутка, сатанинская! Если мне сейчас дать одну ногу и один глаз (о большем я не мечтаю), – я буду такой же скаженный, как и любой из вас, дерущихся на всех участках нашей стройки <…>".
Эти строки цитировались исследователями бесчисленное количество раз, но до сих пор остаётся неясным, почему именно в это время появился у Островского в жизни план, который по его словам "касается меня, литературы, издательства «Молодая гвардия»? Почему он связывает свою литературную деятельность не с каким-нибудь украинским издательством, в чём мог бы помочь Михаил Паньков, с которым поддерживается связь? Почему «Молодая гвардия»?
Может быть, причина во встрече с Иннокентием Феденёвым, с которым только что состоялась встреча в Сочи? Ведь в последствии Феденёв и будет заниматься продвижением трудов Островского в издательства, хоть сам он не являлся издательским работником, но зато был партийным деятелем, что в те времена было даже важнее.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































