Текст книги "Литературное досье Николая Островского"
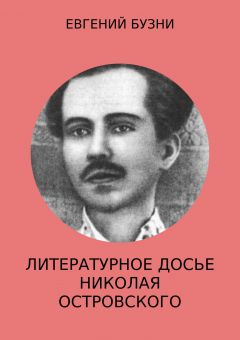
Автор книги: Евгений Бузни
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
Ты ни словом не обмолвилась о своем мнении насчёт работы. Из этого – логический вывод: настолько плохо, что и говорить не хочешь. Нет большевистской смелости это сказать. Эх ты, «самокритик»! Я же просил – говори, где плохо, что плохо, ругай, издевайся, язви, подвергай жесточайшей критике все дубовые обороты, всё, что натянуто, неживо, скучно. Крой до корня. А ты что? Молчишь, «зараза». Я тебе этого не могу простить. Это не коммуна, а парламент. Да, дитя, бить за это надо. Я очень сердит.
Коля".
Вот, значит, как. Редакция «Молодой гвардии» просит для просмотра все шесть глав. Стало быть, им уже известно, что шесть глав написано. Значит, вся работа молодого начинающего писателя находится под бдительным контролем издательских работников. Кто это был, столь чутко отнёсшийся к больному ещё не писателю, но стремящемуся всеми силами к тому? Это одна из тайн Мёртвого переулка, в доме которого писалась первая часть романа «Как закалялась сталь».
Раскрыть эту тайну сегодня, как и многие другие, связанные с рождением романа "Как закалялась сталь" сегодня весьма трудно по той причине, что архивы издательства "Молодой гвардии" довоенного периода, к сожалению, погибли во время Великой Отечественной войны. Поэтому у нас даже нет редакторских экземпляров рукописей романа, чтобы понять степень вмешательства редакторов на первом этапе работы.
Однако есть же и другие издательства, которые тоже рассматривали первый вариант романа. От одного из таких издательств в Ленинграде ждёт отзыва Островский, когда пишет нетерпеливо Жигиревой 25 октября 1931 г.:
"Милая Шура!
Вчера получили твоё заказное письмо. Несколько недель тому я написал тебе большое письмо, не знаю, получила ли ты; после этого, правда, не писал. Оправданием тому служит моя ударная работа. Все свои силы я устремил на то, чтобы закончить свой труд, а это в моих условиях очень и очень трудно. Всё же, несмотря ни на что, работа закончена. Написаны все девять глав и отпечатаны на машинке. Сейчас произвожу монтаж книги, и просматриваю последний раз орфографию, и делаю поправки. В ближайшие дни я вышлю тебе посылкой всё напечатанное. Ты ознакомишься прежде всего сама, а потом, милый друг, прошу тебя передать работу квалифицированным мастерам слова и в редакцию, где будет произнесен приговор моему труду.
Как только прочтёшь, то напиши свой чистосердечный отзыв и, конечно, не скрывай от меня, если работа будет нехороша, я верю твоей искренности, Шура. Я слыхал о большом бюрократизме в редакции, где рукописи тонут в портфелях, тем более что редакции за валены ими в связи с походом ударников в литературу.
Ты писала о товарище Романе. Если он действительно пожелает отдать своё время на просмотр работы, это будет хорошо.
Шурочка, если ты не сможешь продвинуть в редакции просмотр моей работы или вообще с этим делом будут большие затруднения, то, ознакомившись с работой, прошу переслать её мне. Я буду сам начинать «хождение по мукам».
Всего несколько дней, как я выбрался из тяжёлого недуга. Моё физическое состояние надавило на девятую главу тяжёлым прессом. Она получилась не так, как я хотел.
Она должна быть шире и полнее и вообще должна быть ярче. Но, Шурочка, разве хоть один товарищ писал в такой обстановке, как я? Наверно, нет.
У нас в комнате сейчас 8 человек. Мама тяжело переболела и сейчас ходит еле-еле. У Раи на фабрике прорыв, так что дни и ночи её проходят там. В этом оправдание её молчания. Уходит в 6 часов утра и приходит в 2 часа ночи.
Несмотря на то, что писем тебе не пишем часто, всё же тебя никто из нас не забывает и <все> шлют свои приветы.
Итак, Шурочка, через несколько дней, в крайнем случае через две недели, ты получишь мою работу. Я буду с нетерпением ждать от тебя писем с отзывом о ней.
Я очень критически отношусь к написанному, где много недостатков, но ведь это моя первая работа. Если её не угробят по первому разряду, если она не окажется литературно неценной, то это будет для меня революция.
Итак, милый товарищ, жму крепко твои руки. Письма с рукописью не буду посылать. Смотри же, не забудь, что я с большим нетерпением буду ожидать твоего отзыва.
Твой Николай Островский".
Не менее интересно в этом плане и следующее письмо, написанное той же Жигиревой. Разумеется, длинные письма можно было бы пересказать в двух-трёх словах, но читателю несомненно гораздо любопытнее читать те самые строки, что писались в прошлом веке, ибо только они могут донести истинное дыхание времени и подлинные чувства человека, жаждущего жизнь прожить не зря, человека, находящегося буквально на краю жизни, но мечтающего хоть что-то успеть сделать для человечества. Это ощущается в каждой строке, в каждом слове писателя. Прочтём же очередное послание, как бы устремлённое к нам в будущее, написанное 9 декабря 1931 г.
"Шурочка, милая!
Твоё письмо сейчас получил. Милая! Если бы мне не так тяжело писать, сколько бы писем я тебе, моему другу, написал бы! Я с большим волнением ожидал от тебя письма, твоего впечатления о книге.
Шурочка! Я не в силах в письме описать, в каких условиях писалась книга <…>. Шурочка, книга была бы несравненно лучше, она должна быть лучше, если бы не невыразимо тяжёлые условия. Не было, кому писать, не было спокоя… не было ничего. Я не могу себя расстреливать, не пытаясь проверить ещё возможность быть партии не балластом. Я берусь за литучебу всерьёз. Я ведь почти безграмотен в литучёбе. И я знаю, что смогу написать лучше.
При упорной учёбе, при большом труде можно дать качество. Но это возможно лишь при условии, если меня не постигнет грубый разгром в редакциях, если меня с первых ступенек не швырнут за дверь. А это я ожидаю, так как чувствую всю слабость труда. Ты одна знаешь мою трагедию, но редакции знают одно – качество. Писать такой бедноте трудно. Рукопись стоит мне 245 руб. В МАПП даже бумаги не продали, купил по 15 коп. за лист. Машинистке за страницу 75 коп. Все эти причины затрудняют работу.
Ты неплохо отзываешься о написанном, радостно это. Если я в этой беспросветной обстановке смог написать так, что ты не считаешь худым и бесцветным, то я рад. Я даю тебе полное право распоряжаться рукописью. Я безусловно верю, что ты сделаешь все, что в силах, дабы редакция просмотрела и вынесла свое суждение. Именно об этом я и писал. Я ведь хочу одного, чтобы книга не плавала по три года в редакционных дебрях. В литературу входят ударные массы, и редакции захлебнулись от тысяч рукописей, из которых свет увидят единицы.
Я ожидаю твоего письма большого. Не жури меня за редкие письма. Тяжело писать не своей рукой. В своём письме напиши и о Корчагине. Как, сумел ли я хоть отчасти правдиво написать о юном рабочем-комсомольце?
Пиши о себе. Мы ждём большого письма, Шуринька, хотелось бы с тобой видеться. У нас морозы – 20—24°. Все в семье переболели, и Раинька тоже. От друзей редкие вести. Крепко жму руки. Не забывай нас. И, не стесняясь, рассказывай, как меня кроют за книгу.
Николай.
Декабрь, 9-го."
Феденёв, который, как мы знаем уже, курировал весь ход написания первой части романа, между тем, в своих воспоминаниях почему-то совершенно упускает все эти подробности с отдельными главами. Вот как он пишет о своём участии в работе с книгой:
"Помню тот день, когда Николай Алексеевич дал мне законченную рукопись первой части романа «Как закалялась сталь». Вручая её, он сказал:
– Прочти сначала сам, если одобришь, отнеси её в издательство «Молодая гвардия».
Второй экземпляр рукописи он послал в Ленинград своему другу Александре Жигиревой.
Роман произвел на меня огромное впечатление. Прочитав рукопись, я отнёс её в издательство «Молодая гвардия». Папку приняла от меня секретарь, молодая девушка. Я коротко рассказал ей биографию автора, Рукопись передали рецензенту на отзыв.
Чуть не каждый день я заходил в издательство, но ответа не было. Не было ответа и из Ленинграда. Тревога за судьбу рукописи охватила меня. Нечего говорить о том, что переживал Островский в эти дни ожиданий. Ведь решался вопрос: победа или поражение? У него вкрадывалось подозрение: от него что-то скрывают, не хотят сказать, что работа забракована.
Наконец мне дали прочесть в издательстве отзыв рецензента, в котором было написано, что автор не справился со своей задачей, выведенные им типы нереальны, рукопись не может быть принята к печати. Как сказать обо всём этом Николаю? Я колебался. Не лучше ли подождать отзыва ещё одного рецензента? Однако мне вспомнились слова Коли: «Самая горькая правда мне дороже слащавой лжи». Он не любил,
когда от него что-нибудь скрывали. И я решил рассказать ему всё, как было.
Мне не пришлось успокаивать его. Наоборот, к великому моему изумлению, он сам стал успокаивать меня:
– Теперь столько расплодилось писателей, и все хотят, чтобы их печатали. Если рукопись забракована, значит, она действительно плоха. Нужно поработать ещё, чтобы сделать её хорошей. Победа даётся нелегко.
Николай Островский упорно шёл к своей цели, он знал, что добьётся победы, и трудности его не страшили".
Понятно, что эти воспоминания во многом не совпадают с тем, что писал Николай Островский в своих письмах. Но в данном случае интересна судьба рукописей первой части романа. По словам Феденёва один экземпляр он отнёс в «Молодую гвардию», а второй отправили в Ленинград. И всё.
А вот что пишет в своих воспоминаниях второй очевидец – Раиса Порфирьевна:
"По вечерам под диктовку обычно писала я. Но темпы работы не удовлетворяли Николая. Тогда по его просьбе Ольга Осиповна обратилась за помощью к соседке по квартире, восемнадцатилетней девушке Гале Алексеевой. Галя согласилась. Она писала седьмую, восьмую и девятую главы первой части романа «Как закалялась сталь».
Над первой частью романа Николай трудился два года. За это время он дважды болел крупозным воспалением лёгких. Едва спадала температура, он весь уходил в работу.
И вот работа стала подходить к концу. Нужно было перепечатать рукопись на машинке. Снова помогли друзья. Одни главы рукописи посылали для перепечатки в Харьков Петру Новикову, другие в Новороссийск моей сестре, машинистке. Сколько было волнений!
Наконец в ноябре 1931 года все девять глав первой части романа были собраны и отправлены в Ленинград Жигиревой и в Харьков Новикову для передачи в издательства. В Москве Иннокентий Павлович Феденёв отнёс рукопись в издательство «Молодая гвардия».
Началось томительное ожидание. Не было вестей из Ленинграда и Харькова. Молчала и Москва. Но вот Иннокентий Павлович приносит печальное известие: рецензент издательства «Молодая гвардия» дал заключение, что автор не справился со своей задачей.
На наше предложение на время оставить работу Николай решительно ответил:
– Завтра же снова возьмусь за неё! Если не сумею написать книгу, достойную печати, буду решать другой вопрос!..
Я не уточняла, какой вопрос он собирался решать. Вспомнила Новороссийск: ещё тогда у него появлялась мысль свести счёты с жизнью. Но он выстоял.
Свой суровый приговор он высказал через Корчагина:
«Сумей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай её полезной…»
Читателю уже видно, что эти воспоминания тоже не очень состыковываются с письмами Островского, судя по которым работа над первой частью романа началась в мае, а завершена была в октябре 1931 года, то есть на это ушло ровно пол года, а не два, как вспоминает Островская. Но мы сейчас обратим внимание на другое. По словам жены писателя, было отправлено три экземпляра рукописи: один – в Харьков Новикову, второй – в Ленинград Жигиревой и третий – в «Молодую гвардию».
Не стану приводить текст из книги Островской "Николай Островский", выпущенной в серии "Жизнь замечательных людей", поскольку процессу написания первой части романа посвящено несколько страниц, в которых опять-таки утверждается, что Островский работал над первой частью двадцать месяцев, а к маю 1931 года им было уже написано пять глав, хотя из писем Островского абсолютно понятно, что в мае он только начал писать первую главу.
В данном случае важно лишь то, что копии рукописи были направлены в три адреса. Но в книге "Николай Островский" Раиса Порфирьевна уточняет:
"У нас было три «свободных» беловых экземпляра. Один контрольный. Один черновик.
Беловой экземпляр послали в Ленинград Жигиревой – для передачи в одно из ленинградских издательств. Другой вручили Феденёву – для издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Третий отправили Новикову в Харьков – для издательства ЦК ЛКСМУ «Молодой большевик» (ныне «Молодь»)".
Однако оказывается, ещё в один адрес направляли рукопись, о чём Островский сообщил в письме Жигиревой 28 декабря 1931 г.:
"Милая Шурочка!
Хочу тебе писать, хотя не знаю, разберёшь ли мои каракули. Из Шепетовки на шесть дней к нам приехал брат. Там на активе читали черновик. О работе отозвались хорошо, приветствуя работу над историей рев<олюционного> движения в городе. Сейчас проходит всесоюзный смотр комсомольской литературы, и издательство «Молодая гвардия» мне предложило дать им на просмотр рукопись. Но я решил ждать твоего ответа из города Ленина. Ведь если забракуют в Л<енингра>де, то и здесь тоже. Как жаль, что т. Камегулова нет, ведь он замещает Горького в журнале «Литературная учёба» и его отзыв ценен.
Сейчас я ещё не пишу, я страшно устал в связи со всем пережитым за эти месяцы".
Седьмое чувство… ошибочно
И в самом деле, трудно писать продолжение, если не знаешь, что начало кем-то признано и будет напечатано. Ожидание того, что вот-вот судьба написанного хорошо ли, плохо ли, но решится, не позволяет снова взяться за работу. Ожиданием проникнуты все письма.
23 января Жигиревой:
"Шурочка, милая!
Я хочу тебе написать. Заждался твоего письма, но его пока нет ещё. Я уже решил, что меня в редакции разгромили и что тебе тяжело мне об этом сообщать. Но пусть тебя это не смущает. Я ведь это предвидел".
31 января Жигиревой:
"Шурочка, милая!
Вчера, 30-го, получили от тебя письмо. Знаешь, родная, у меня сердце забилось, когда его читали. Неужели, думаю, мне счастье подаст руку и я из глубокого архива перейду в действующую армию? Неужели, думаю, ты, парнишка, сможешь возвратить своей партии хоть часть задолженности и перестанешь прогуливать? И я себя остужаю: «Сиди тише, парень, не увлекайся, жизнь может стукнуть по затылку за увлечение мечтами». И я, чтобы не так обидно было потом, не верю себе. Жизнь требует верить только фактам, но всё же твои письма я слушаю с большим волнением, хотя не хочу, чтобы это кто знал. Но тебе я всё рассказываю как другу.
Ты меня не жури за мои письма. Письма я пишу сжато, и они у меня сухи. У нас мама всё время болеет. Сестра тоже, как пришибленная, и в связи с этим у них настроение упадническое. Я часто устаю их оживлять и сдерживать.
Я это говорю, понимая их слабость, но меня иногда грызёт голод по людям, наполненным силой и оптимизмом.
Раинька целые дни на фабрике, и я решил, если книгу в самом деле напечатают, завязать связи в МАПП, и чтобы в нашей комнате появилась горячая молодёжь.
Я занялся организацией в Шепетовке лит<ературной> группы из молодняка.
Моё предложение принято редакцией газеты «Путь Октября», которая даёт раз в декаду литстраницу.
Сам недоношенный писатель, я стал руководителем литгруппы, я уже получил первые стихи на украинском языке для оценки".
7 февраля Новиковой:
"Я всё ещё не могу, Мара, сказать, что моя книга не утонет в редакциях. Сколько она уже прошла мытарств. И в Москве бюрократизма больше, чем в городе Ленина. Ленинградский облполитпросвет рекомендовал её Ленгизу издать, и книга проходит последние заграждения в Ленгизе. Со дня на день ожидаю приговора. Я бросился на прорыв железного кольца, которым жизнь меня охватила. Я пытаюсь из глубокого тыла перейти на передовые позиции борьбы и труда своего класса. Не прав тот, кто думает: большевик не может быть полезен своей партии даже в таком, казалось, безнадежном положении. Если меня разгромят в Госиздате, я ещё раз возьмусь за работу. Это будет последний и решительный. Я должен, я страстно хочу получить «путёвку в жизнь». И как бы ни темны были сумерки моей личной жизни, тем ярче моё устремление. Жму ваши с Петей руки. Ждите вести… хочу… о победе".
17 февраля Ляхович:
"Милая Роза!
Долго ты молчишь. «Жива ль ты, моя старушка…» Или тебя кто обидел, дитя непоседливое? Хочу разбудить тебя. До сих пор не имею окончательного решения насчёт моей рукописи. Хождение по портфелям редакторов продолжается. Хотя бы дали срок. Знатоки говорят, что легче ослу стать лошадью, чем пройти впервые сей путь, и, несмотря на ряд хороших слухов, моё седьмое чувство предугадывает разгром.
И я, предвидя это, готовлюсь перейти в контратаку, т. е. складываю план новой работы. Ведь я должен напрячь все силы и добиться того, чтобы новая работа была лучше и чтобы её признали. Это очень и очень трудно в моих условиях. Но я должен это сделать, и я это выполню".
Прошло почти четыре месяца со дня завершения работы над первой частью романа. Месяцы томительного ожидания. Месяцы бездействия. Вот что больше всего гнетёт Островского. Руки чешутся взяться снова за перо, чтобы взяться за продолжение или переписывать начало. И потому всё стало, когда не знаешь, что же именно делать и делать ли вообще. И тут, наконец, приходит первая настоящая радость, о которой счастливый автор романа, не медля, пишет своей наставнице и покровителю.
22 февраля Жигиревой:
"Милый мой друг Шурочка!
Хочу поделиться с тобой хорошими вестями с литфронта. Вчера у меня были Феденёв и редактор журнала «Молодая гвардия» т. Колосов. В Москве мою рукопись прорабатывали. Тов. Колосов тоже её прочёл. И вот пришёл и говорит: «У нас нет такого материала, книга написана хорошо. У тебя есть все данные для творчества. Меня лично книга взволновала, мы её издадим, я лично берусь выправить небольшие углы. Я свяжу тебя с писателями, мы тебя примем членом МАПП до издания книги». Обещал приехать через декаду за ответом. Итак, Шурочка, если в городе Ленина меня затрут, то есть резерв – прямое предложение издать книгу. Всё это еще не документ, это не договор, а беседа, но это почти победа. Почти… ведь Ильич предупреждал на слово не верить.
А каковы у нас с тобой, Шурочка, дела в Ленгизе – успех или поражение? Ожидаю каждый день вестей от тебя. Нет от меня спокоя, скажи, когда этот несносный парень перестанет тебя тормошить? Не знаю.
Моя работа оживляет утерянные связи. Я получаю письма от тех, кто меня давно забыл. Да здравствует труд и борьба! Пожелаем с тобой, чтобы Коля прорвался из железного круга и стал бы в ряды наступающего, несмотря на все страдания в прошлом и напряжение в настоящем, пролетариата.
Я принимаюсь за литучебу и намечаю план новой работы. Но учёба и учёба <…>.
Твой Коля".
Да, «седьмое чувство», о котором он писал Ляхович, к счастью, обмануло Островского – провал книги не состоялся. Её приняли в «Молодой гвардии». Тогда ещё никто не мог предполагать, что с этого момента начинается сначала медленно, как бы примериваясь, а потом всё быстрее и быстрее фантастический лебединый полёт по земле российской и по всем континентам романа Николая Островского «Как закалялась сталь».
С этого момента воспоминания очевидцев и письма Островского родным и друзьям начинают совпадать в своём фактографическом содержании. Первый редактор Николая Островского Марк Колосов так вспоминает о своих первых впечатлениях от романа и его автора:
"Моё знакомство с автором романа «Как закалялась сталь» началось с рукописи. Её принёс старый коммунист Феденёв, выведенный во второй части романа под фамилией Леденёв. Я работал тогда в журнале «Молодая гвардия».
Не соглашаясь с отрицательной рецензией, полученной в издательстве «Молодая гвардия» Феденёв сказал, что издательство решило передать рукопись на вторую рецензию мне и просит меня дать своё заключение. Рецензент упрекал автора не только в литературной неопытности, но и в том, что литературные типы нереальны, то есть нетипичны. Возможно ли, чтобы рабочий паренёк влюбился в гимназистку? Такие случаи бывали, но большей частью рабочие ребята влюблялись в девушек-работниц. И уж коль автор выбрал нетипичный случай, то Павка должен перевоспитать любимую девушку. Иначе, какой же он комсомолец?
Так, помнится, рассуждал рецензент…
Я читал рукопись не отрываясь. С первых страниц меня покорила та сила жизненной правды, которая в искусстве достигается не хаотичным нагромождением фактов, а умением вести рассказ и точно воспроизводить диалектику душевной жизни героя…
…я позвонил Анне Караваевой – ответственному редактору журнала и написал отзыв для издательства. Было решено подписать договор с Островским на отдельное издание книги, приурочить выпуск к 15-летию Октябрьской революции. Об этом я позвонил Феденёву и условился с ним о дне встречи с автором. 21 февраля 1932 года вместе с Феденёвым я приехал к Островскому.
Он жил тогда в Мёртвом переулке, ныне переименованном в переулок его имени. В узкой продолговатой комнате на кровати лежал крайне истощённый болезнью молодой человек. Тело его было неподвижно, но глаза не были похожи на глаза слепого. Он протянул мне руку и, крепко сжав мою, долго не отпускал".
А вот что пишет Островский об этой встрече своим друзьям Новиковым:
"Мара и Петя!
Спешу поделиться с вами радостной вестью. Взяты передовые укрепления на литфронте. Вчера у меня были Феденёв и редактор журнала «Молодая гвардия» т. Колосов – он как представитель издательства «Молодая гвардия»… «Твоя книга нами будет издана, она волнует, у нас нет однородного с ней материала. Я сам берусь за редакторскую правку. Через 8 дней я приду к тебе, и мы углы сгладим. Ты, Островский, ещё послужишь партии. Когда книгу оформим, заключим с тобой договор. Введём тебя ещё до издания членом Московской ассоциации пролетарских писателей и поможем пособиями в литучебе».
Вот основные слова тов. Колосова. Это ещё не документ, но это всё же победа на 75%. Остальные 25% будут в договоре".
Началась новая биография Островского, ибо теперь после появления книги как-то так получалось, что все поверили в то, что Павка Корчагин и есть Николай Островский. И сам писатель ничего не мог с этим поделать. Книга разлетелась по всему миру и теперь владела автором, а не он книгой. Хотя, конечно, этому многие помогали. Нас же сегодня интересует всё, как оно было на самом деле, ибо без этого мы не поймём феномен романа «Как закалялась сталь» и феномен писателя Николая Островского.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































