Текст книги "Литературное досье Николая Островского"
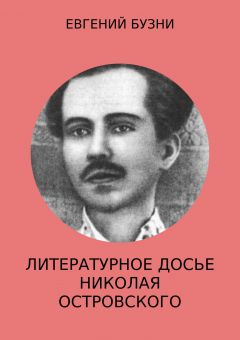
Автор книги: Евгений Бузни
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
НЕ0ЖИВШИЙ СЦЕНАРИЙ
Первой экранизации романа «Как закалялась сталь» по сценарию, написанному самим автором романа Николаем Островским в содружестве с известным в то время киносценаристов Михаилом Зацем, не суждено было осуществиться. Рождение фильма оказалось делом не менее сложным, чем рождение самого романа. Во всяком случае, на роды, в результате которых Павка Корчагин появился на экране, ушло значительно больше времени.
Сначала постановка фильма намечалась на Киевской киностудии. В конце мая 1935 года к Островскому в Сочи приезжает опытный сценарист, автор нескольких фильмов, в том числе популярной тогда кинокартины "Сумка дипкурьера", Михаил Борисович Зац. Начинается напряженная работа, о которой Островский неоднократно сообщает в письмах своим друзьям. По ним можно судить о том, как постепенно зарождался замысел фильма, трансформируясь по ходу работы в какой-то степени, но ни на йоту не отклоняясь от основной идеи показа героя своего времени. Любопытно, что, говоря о будущем герое фильма, Островский, сам того не замечая, сопоставляет его характер со своим собственным. Так в письме И.А. Гориной от 29 мая 1935 года он пишет:
"Павка Корчагин не забывает и никогда не забудет исторического заседания губкома. Есть несчастные люди, обиженные природой, которые не знают, что жизнь прекрасна. Счастье, что я не принадлежу к этой категории дефективных.
Приехал кинодраматург, развесёлый парнишка.
В основном мы решили писать сценарий по первой части «Как закалялась сталь» и закончить картину появлением Павки на трибуне собрания со словами: «Разве я мог умереть в такое время!»
Да, сценарий писался оптимистичным, хотя Островский в это время был жестоко болен, и врачи не разрешали работать целый месяц. Тем не менее замыслы осуществлялись, всё время ширясь, и к августу стало ясно, что идея романа в сценарий одной серии не укладывается. Между тем не складываются по каким-то причинам отношения с Киевской киностудией и сценарий передают Одесской кинофабрике. Об этом мы узнаём из письма Островского управляющему Украинфильма И.М. Кудрину, где он писал 7 августа 1935 года:
«Вчера я получил от одесской кинофабрики прекрасное письмо, в котором они сообщают, что Вы передали постановку картины „Как закалялась сталь“ комсомольской кинофабрике. Это можно только приветствовать, тем более что после всего того, что киевская кинофабрика проделала по отношению к нашей работе, не очень приятно было бы с ней доводить её до конца. Я разговаривал по этому поводу с товарищем Зацем. Он со своей стороны тоже принципиально не возражает против передачи этого сценария Одессе».
На той или другой киностудии, но фильм должен был выйти, и автора романа беспокоило только, чтобы экранизация была интересной и не искажала основной идеи. Именно на это он обращает внимание молодежи, когда пишет в ноябре письмо творческому коллективу одесской комсомольской кинофабрики?
"Пусть же каждый товарищ от режиссёра до рабочего-электромонтёра отнесется к этому делу любовно. Пусть молодые артисты, которые должны будут воплотить в жизнь образы книги и сценария, глубоко продумают свои роли, чтобы многомиллионный наш зритель увидал на экране правдивые, страстные, порывистые, беспредельно преданные своей партии образы первых комсомольцев и старых большевиков периода гражданской войны и последующих годов.
Помните, что Павка Корчагин был жизнерадостный, страстно любящий юноша. И вот, любя эту жизнь, он всегда готов был пожертвовать ею для своей Родины. Павка не должен выйти суровым, хотя он хотел казаться таким. Жизнь била в нём ключом, прорывалась наружу сквозь внешнюю суровость. Он часто и заразительно смеялся в кругу своих друзей. Но, сталкиваясь с врагами, он был страшным для них человеком. Его рука не знала пощады для вооружённого врага…"
Таким хотел видеть своего героя Островский. Быть может, он создавал образ, которому подражал бы и сам, который носил в своём воображении долгие годы. Ведь судьба не баловала будущего писателя и была к нему значительно беспощаднее, чем к Павке Корчагину.
Довольно обеспеченное и сравнительно счастливое детство Николая Островского в семье торговца спиртным довольно скоро кончилось разорением семьи, и началось тяжёлое трудовое отрочество, когда двенадцатилетнему парнишке пришлось идти на работу и лишь время от времени находить возможность для продолжения учёбы. В эти годы уже схватывает цепкими пальцами болезнь, так и не отпустившая до конца дней. Началось с водянки колен, затем явились долгие месяцы тифа, выпотной синавит коленных суставов, а проще, туберкулёз укладывает в больницу – медико-механический институт, вывихнута правая рука и затем происходит срастание её с плечом, появляются проблемы с позвоночником и вот анкилозирующий полиартрит – почти полная неподвижность при постоянном ощущении болей, почти одновременно постепенно теряется зрение и мучает психостения. На фоне всего этого воспаление лёгких и другие не менее серьёзные болезни кажутся как бы попутными, второстепенными, о которых сам Островский сообщал, например, в письме А.А. Караваевой 1 сентября 1936 года с определённой долей юмора:
"Ты, наверное, знаешь, что месяца два тому назад я едва не погиб, у меня камень разорвал желчный пузырь, получилось кровоизлияние и отравление желчью. Врачи тогда в один голос сказали: «Ну, теперь амба!» Но у них опять не вышло, и я выцарапался, опять напутав в медицинских аксиомах".
Однако такой оптимизм и такая сила духа рождались у Островского вместе с рождением романа о Павке Корчагине, ибо в ранних письмах юного Николая просматривались совсем иные – грустные мелодии упадничества, впрочем, возможно характерные для возраста. Восемнадцатилетний Островский направляется на лечение в Бердянский санаторий, где главный врач Беренфус обращает внимание на мрачного, замкнутого, старающегося уйти в себя молодого человека и, чтобы вывести его из угнетённого состояния, знакомит пациента со своей дочерью Люси – молодой красивой девушкой. Они быстро сдружились, но лечение в санатории весьма коротко, и вскоре пришло расставание. По возвращении в Шепетовку Островский пишет своей подруге трогательные романтичные и вместе с тем очень пессимистичные письма, в одном из которых, написанном 3 октября 1922 года, есть такие строки:
"Мадемуазель Люси?
Прощаясь с Вами в Бердянске, я говорил, что напишу Вам, когда буду чувствовать приближение конца… или одного из тех настроений, когда я чувствую пустоту, ощущение которой так ярко обрисовывается, когда между бессознательным движением и действиями с ничего не рассуждающим мозгом вдруг очнёшься и тогда ярко и как-то жутко чувствуешь эту пустоту. Это, бессомненно, признак больного организма, и больного не так физически, как душевно.
Люси! Уже 3-й год я периодически чувствую эти приступы полного упадка энергии и умственной работы и желания уйти куда-нибудь совсем".
Мысль о ненужности в этой жизни беспокоит Островского во всех письмах, адресованных Беренфус, кроме последнего, написанного уже писателем в 1935 году. А пока, даже когда Николай стал уже комсомольским работником и весь горит в борьбе, как его будущий герой Павка, мы всё же видим в письме Люси от 8 августа 1924 года все те же грустные нотки, не связанные с болезнью:
"Я пишу Вам одной, что нет и минуты в жизни моей после того лета, где была ласка девушки такая редкая гостья в моей жизни. Вырос я в такой жестокой, такой тяжёлой обстановке, что не будь той сумасшедшей борьбы рабочей тяжелой, без всего того, что красит жизнь, она была бы такой бледной, что не стоило бы болтаться. Я спотыкался много раз и был один. Никто не знал о том, что я много раз разбивался так больно, как может лишь одинокий, без друзей человек затеряться во всём движении".
Какая удивительная грусть и тоска в письме комсомольского работника! Но вот 1930 год. Безнадёжно больной Островский лечится в Мацестинском санатории. Пройдёт ещё целый год до появления на бумаге первой части романа «Как закалялась сталь», но в письме А.А. Жигиревой от 3 октября мы уже узнаём в Островском будущего Корчагина, когда он пишет:
«Часто льётся моя песенка здесь, и слыву я за весёлого парня. Ведь в сердечке бьётся 26 лет, и никогда не затухнет динамо молодости и огня. Ведь если жить, то не скрипеть».
И это после многочисленных операций, после потери подвижности и зрения, когда потеряны последние надежды на восстановление хоть чего-то из ушедшего навсегда. «Не скрипеть!» – становится главным лозунгом жизни, и он начинает писать.
Островский понимает, что в трудное послереволюционное время, когда страна с трудом поднимается из разрухи, читателям нужен оптимизм, ибо только с его помощью можно преодолевать самые трудные препятствия. Впрочем, понимает он это скорее сердцем, а не сознанием, ибо, приступая к работе над книгой, еще не знал и не мог знать, что сможет стать писателем и, тем более, таким известным. Однако оптимизм был им угадан абсолютно верно, что и создало славу книге, тогда как многие ничуть не хуже написанные в те годы произведения Всеволода Иванова, Виктора Кина, Аркадия Гайдара и других современников Островского не смогли подняться до уровня популярности романа "Как закалялась сталь", возможно, лишь потому, что в них не было столь высокой степени оптимизма и революционного пафоса.
И всё же это не означает, что Островский хотел вылепить героя для подражания. Нет, он брал его из жизни, частично из своей, но, как и положено художнику, расставляя акценты на том, что находил более важным. И ему очень хотелось, чтобы постановщики фильмов и спектаклей правильно понимали эти акценты. Поэтому при обсуждении текста пьесы В. Рафаловича, написанной по роману "Как закалялась сталь", Островский был чрезвычайно раздражён существенными отклонениями от замыслов романа и искажениями образов и сцен. Например, он говорит по поводу одного эпизода, названного условно "Глубокий тыл":
"Эта сцена не годится. Недопустимо такое противопоставление Павла и Артёма. Такого в романе нигде нет. В конце книги Артём – активный партиец. Вы даёте его таким, каким он был в 1922 году, а дело происходит в 1929-1930 годах. Тут Павел, может быть, показан уже скованным – просит передвинуть пешку, например. Артём беспокоится, что Павел убивает себя напряжённой учёбой, и просит Долинника повлиять. Узнав о мечте Павла написать книгу, он не верит в возможность этого, но поддерживает его, чтобы не разочаровать Павла. Надо очень точно показать это.
Показать на игре в шахматы, как Павел воспринимает удары жизни. Это ожесточённое мужество. Это как в боксе – он падает, но моментально поднимается и бросается на противника снова и снова. И он не мрачен. Вы не даёте его обаятельным. Знайте, он страдает, но улыбается. Это настоящий рабочий парень, боец. Не надо разговоров о трагизме, но надо дать так, чтобы зритель почувствовал трагедию".
Островский хочет видеть в постановках жизненные образы, позволить зрителю понять правду жизни и сопереживать ей, поэтому он откровенно говорит Рафаловичу:
"Я тревожусь за пьесу. Я не чувствую победы автора. Только несколько сцен взволновали меня, но я не потрясён. Я искренен с вами – пьеса не производит большого впечатления. Многое огорчает меня. Рита и Павел не захватывают. Жухрай удался лучше – его слова доходят. Он чувствуется как руководитель. А Павла и Риту надо как-то отеплить, облагородить, очеловечить. Пусть зритель почувствует любовь Риты к Павлу. И потом, надо лучше, убедительнее показать рост Павла".
В заключение своих критических замечаний по поводу пьесы Островский сказал: «Вы должны понять, что пьеса эта – наше общее дело и победа или поражение будет также общим».
Писатель хотел видеть интерпретацию своего произведения, как на сцене, так и на экране искренней, честной, правдивой по отношению не столько к роману, сколько к жизни. Островский допускал отклонения от содержания, позволял убирать или добавлять сюжеты, но зорко следил за сохранением смысла, идеи, правды жизни.
ОСТРОВСКИЙ ПРОТИВ ОБЫВАТЕЛЯ
Слову «обыватель» Владимир Даль в словаре русского языка давал следующее толкование: «Обыватель… – житель на месте, всегдашний; водворенный, поселенный прочно, владелец места, дома». В начале нашего века с приходом новой жизни, новых понятий и представлений, почти полностью вытеснив первое значение слова «обыватель», на смену ему пришло второе, прочно укрепившееся в обиходной речи и объясненное в Словаре современного русского языка следующим образом: «Человек, лишенный общественного кругозора, с косными, мещанскими взглядами, живущий мелкими, личными интересами». О таком человеке и пойдет речь.
В период Октябрьской революции и последовавшей затем гражданской войны, когда полыхали пожарами поместья угнетателей, а сердца молодых людей нового поколения пламенели огнем ненависти ко всему старому, когда напрочь отбрасывалось прошлое и казалось, что сразу за ним начинается будущее, в это тревожно-мятежное время не было места золотой середине, – нужно было решать: либо «за», либо «против». Вот тогда-то трудно стало жить обывателям, как, впрочем, трудно им жить и сегодня, когда опять поставлен перед ними вопрос ребром: вы за новую жизнь или против? За общее счастье для всех людей или только за свою собственную, личную выгоду?
Николай Островский в своем ответе на статью критика Б. Дайреджиева по поводу только что опубликованного тогда романа «Как закалялась сталь» писал:
«Если Вы, т. Дайреджиев, не поняли глубоко партийного содержания борьбы Корчагина с ворвавшейся в его семью мелкобуржуазной стихией, обывательщиной и превратили все это в семейные дрязги, то где же Ваше критическое чутье? Никогда ни Корчагин, ни Островский не жаловались на свою судьбу, не скулили, по-Дайреджиеву».
Да, Николай Островский боролся с обывательщиной. Но, как это ни парадоксально, массовый читатель романа «Как закалялась сталь», изданного миллионными тиражами, мало что об этом знает, так как один из главных действующих персонажей рукописи романа—обыватель—почти полностью отсутствует в опубликованном варианте.
Рукой всемогущего редактора рукопись романа Николая Островского «Как закалялась сталь» была сокращена почти на треть, что, безусловно, оказалось для нас потерей, ибо и сегодня живы обыватели. Это они составляют частенько послушное большинство в залах, голосуя не по убеждению, а так, как «надо». Это они занимают порой высокие кресла, используя свое положение не пользы народа для, а ради собственного благополучия. Это они прячут тайком кубышки с купюрами и драгоценностями в хрустальные потолочные люстры и фаянсовые умывальники. Именно о них с гневом и сарказмом писал на неопубликованных страницах пусть не всегда технически грамотно, но художественно зорко и метко Николай Островский. Эти страницы и являются предметом нашего внимания сегодня. Знакомство с ними позволяет во многом по-новому увидеть общество, в котором жил непримиримый коммунист Павка Корчагин, взглянуть иначе на время двадцатых годов, лучше понять самого писателя Николая Островского.
У некоторых читателей могут возникнуть естественные сомнения. Они вспомнят письма Островского к редакторам, в которых он утверждал, что собственной рукой вычеркивал страницы и главы из своей книги. Все это действительно так, но письма Островского требуют самого серьезного прочтения.
20 мая 1932 года в письме к своему старшему другу А. Жигиревой Островский сообщает о начале публикации первой части романа в журнале «Молодая гвардия» и при этом сетует:
«Конец книги срезали: очень большая получилась—нет бумаги. Повырезали кое-где для сокращения, немного покалечили книгу, но что поделаешь – первый шаг».
В другом письме говорится о том, что подобное не будет позволено сделать со второй частью романа, но после ее выхода, в 1934 году, Н. Островский пишет Финкельштейну:
«…из шестнадцати с половиной листов33
Имеется в виду объем в печатных листах (прим. авт.).
[Закрыть] напечатали десять с половиной. Комментарии излишни».
Еще позже, через год, Островский обращается к редактору издательства «Молодая гвардия» с просьбой не публиковать во второй части романа начало первой главы, где рассказывается об участии Павла Корчагина в оппозиции. Аргументируя такое решение тем, что «герои нашей эпохи – это люди, никогда не сбивающиеся с генеральной линии партии», Островский не случайно добавляет: «Это общее мнение партийных товарищей».
Да, под давлением «общего мнения» приходилось соглашаться с купюрами, но мог ли поступать иначе слепой, прикованный к постели, начинающий писатель?
Восстановим же некоторые из не публиковавшихся при жизни писателя и долгие годы после его смерти страниц книги, прочитаем их внимательно.
Четвертая глава первой части книги начинается с рассказа о том, как в маленький городок Шепетовку одна за другой приходят банды атаманов Павлюка и Голуба. Повздорив между собой, они начинают перестрелку, напоминающую настоящий бой. Далее в рукописи описываются переживания обывателя в этот момент.
«Автоном Петрович поднял голову, прислушался44
Здесь и далее текст дается по рукописи без редакторской правки, за исключением орфографии и синтаксиса, которые приведены к современным нормам (прим. авт.).
[Закрыть]. Нет, он не ошибся – стреляют, и быстро вскочил на ноги. Влипнув носом в стекло окна, он простоял несколько секунд. Сомнений быть не могло – в городе шел бой.
Надо снимать флажки сейчас же под портретом Шевченко. За петлюровские флажки от красных попасть может, а портрет Шевченко, как те, так и другие уважают. Хороший человек Тарас Шевченко: повесишь его и не бойся – кто бы ни пришел, слова плохого не скажет. Флажки – это другое дело. Он, Автоном Петрович, не дурак, он не растяпа, как Герасим Леонтьевич. Зачем рисковать Лениным, когда есть такой удобный выход?
Он постепенно отдирает флажки, но гвоздь вбит крепко. С силой рванул его и, потеряв равновесие, плюхается со всего размаха на пол. Разбуженная шумом жена вскакивает.
– Ты что с ума сошел, что ли, старый дурак?
Но Автоном Петрович, пребольно ударившись крестцом о пол, подстегиваемый болью, накидывается на жену:
– Тебе лишь бы спать. Ты царство небесное так проспишь. В городе черт знает что делается, а она спит себе. Я и флажки вывешивай, я и снимай, а тебя это, значит, не касается.
Брызги его слюны попадают на щеку жены. Она закрывается одеялом, и Автоном Петрович слышит ее придушенное:
– Идиот!
А в окна стучал молотком отзвук стихающих выстрелов, и на краю города, у паровой мельницы, отрывисто, по-собачьи лаял пулемет».
Одновременно смешно и грустно читать этот отрывок, не вошедший в книгу. Грустно от сознания того, что и сегодня немало таких же автономов петровичей, меняющих флажки и портреты на стенах в зависимости от ситуации. Разве не является для некоторых из них сегодня перестройка просто новым флажком, который можно поднять, раз надо, а потом и опустить, коль потребуется? Обрати мы на них большее внимание в то время, как это делал писатель Николай Островский, и кто знает, может, сегодня их было бы в нашей жизни хоть чуточку меньше?
Аналогичную боязнь перемены власти, когда обыватель не хочет рисковать, не хочет с оружием в руках защищать себя и других, предоставляя это делать кому-то, мы встречаем в рукописи четвертой главы второй части книги.
В пограничном городе Берездове Советская власть. Но вот приходит сообщение о приближении крупной банды, переброшенной через границу. Павел Корчагин и его товарищи берутся за оружие и спешат за околицу встретить врага, только служащий исполкома Коляско принимает для себя иное решение.
«К дверям одного из домов заячьей припрыжкой подлетел высокий длинношеий человек невесть почему в студенческой фуражке. Это был агент финотдела Коляско, молодой человек, черный, как жук, с глазами навыкате, с крючковатым, как у вороны, носом и вихлястой походкой.
Коляско, почуяв, что пахнет горелым, пользуясь тем, что все были заняты сбором, постарался в кратчайший срок отдалить себя от исполкома на возможно большее расстояние. Сейчас он спешил укрыться у себя в комнате, которую он получил по ордеру в доме одного бакалейного торговца.
Коляско награждал дверь градом ударов, но у хозяев не было ни малейшего желания пускать в дом своего неблагодарного жильца. Этот Коляско мало того, что влез нахалом в дом, да еще взял и донес в финотдел о настоящей сумме оборота хозяина, так что бакалейщику пришлось выложить на стол еще восемнадцать червонцев, которые он уже считал своими. Но как его не пустить, когда он собирается двери выламывать?
Жена торговца, злая, как фурия, местечковая чемпионша по скандалам и руготне, не выдерживает этого стука, подскакивает к двери и отбрасывает тяжелый крючок.
– А чтоб вам по гробу дети так стучали. Что за паскудный человек. Какой вам трясун здесь нужно? А не уберетесь ли вы к чертовой матери, пока я вам сковородкой по голове не стукнула? – бешено брызжа слюной, зловеще зашипела на финагента мегера, готовая вцепиться когтями в ненавистного финотдельщика. Она стояла в дверях, преграждая ему дорогу.
Коляско, неспокойно оглядываясь назад, заговорил своей бессвязной скороговоркой. Слова булькали в его горле, словно он пил из бутылки, запрокинув голову:
– Тут, понимаете ли, банду ожидают. И-к! Говорят, что в соседнем исполкоме вырубили всех служащих, но я хоть человек маленький, – Убирайтесь из моего дома! Никуда я вас не пущу.
Через площадь проскакал к исполкому Лисицын. Это еще больше напугало Коляско. Он не давал закрыть дверь, пытаясь проникнуть в дом».
Дальше по тексту идет опубликованная часть главы, в которой рассказывается о том, как залегшие в садах на околице села Корчагин с товарищами пропускают через село неожиданно появившийся седьмой полк красного казачества. И после слов: «Застава пропустила красных казаков и снова залегла в садах» – в рукописи продолжен рассказ о Коляско.
«Стук копыт на площади заставил Коляско обернуться. Целый отряд конников скакал по улице в синих шароварах с лампасами. Передние были уже недалеко.
– Банда!
Коляско ринулся к двери, сшиб с ног хозяйку и, подхлестываемый непреодолимым страхом, устремился к лестнице, идущей на чердак. В два счета он уже был наверху и откидывал рукой половину чердачной двери.
Вскочив на ноги, хозяйка с растрепанными как у ведьмы волосами вылетела на крыльцо.
– Вот он, вот он, хватайте его, он на чердак спрятался, – кричала осатанелая женщина.
Ее дикий крик заставил командира сотни остановиться.
– Кто спрятался?
– Хватайте его! Я не хочу за него отвечать.
Несколько человек спрыгнули с лошадей и побежали в дом.
Коляско вступил уже одной ногой на чердак, но вторая половинка двери, на которую он ступил, оборвалась. На ней лежал раскрытый куль муки. Тяжелый мешок упал на голову Коляско, и несчастный финагент с грохотом покатился по лестнице вниз. Мешок с мукой настиг его на самом низу и чуть не придушил его, осыпав облаком белой пыли. Красноармейцам были видны только дрыгающие под мешком ноги.
Когда Коляско был извлечен из муки и поставлен на ноги, произошел короткий допрос. Коляско и хозяйку повели к исполкому. Мегеру посадили в милиции под замок, а Коляско отпустили для поправки нервов и приведения растрепанных чувств в спокойствие. А среди красноармейцев долго не смолкал сумасшедший хохот, когда трое очевидцев рассказывали об этой трагикомедии. С тех пор Коляско получил вторую фамилию – Чердашник. И далеко за пределы района разнеслась слава об этой популярной личности. На него указывали пальцем новичкам и удивленно спрашивали:
– Неужели вы его не знаете? Да это же Чердашник».
Другой тип обывателя Островский показывает в образах Шарапоня и его компании. Впервые мы знакомимся с ними в рукописи второй главы второй части романа.
Действие происходит в Киеве. Возникла необходимость послать молодёжь в Боярку для строительства узкоколейной железной дороги, и Корчагин идёт агитировать студентов в техникум путей сообщения.
«В большом двухэтажном здании техникума путей сообщения гудел рой голосов – старосты курсов собирали на общее собрание коллектив студентов.
Павла кто-то потянул за рукав.
– Здравствуй, Павлуша! Какими судьбами ты здесь? – спросил его молодой парень с серьезными глазами в технической фуражке, из-под которой на лоб шел кудреватый вихор.
Это был Алеша Коханский, сверстник Павлуши из его родного города. Брат Алеши работал в депо слесарем вместе с Артемом. Семья Коханских делала все, чтобы дать Алеше образование, и парнишка, совмещая труд со школой, окончил высшеначальное училище и двинул в Киев. Бегло рассказывал Павлу свои приключения Алеша:
– Из городка нас шестеро сюда двинуло. Ты их всех, наверное, знаешь: Сухарько Шурка, Заливанов, Шарапонь – одноглазая шельма, помнишь? Чеботарь Сашка и Ванька Юрии. Вот мы и поехали. Им всем мамашеньки и варенья, и колбасы, и коржиков разных напекли на дорогу, а я набил ящик сухарями черными – больше не за что хвататься. В дороге заели меня насмешками гимназистики эти. До того допекли, что я уже решился бы ло глушить стервецов. Их хотя пятеро мордопасов, ну, думаю, мне попадет, но и я уж кого-нибудь поздравлю. Терпенья, понимаешь, не хватало. «Куда, – говорят, – внучек несчастный, прешься? Сиди, дурак, дома и копай картошку».
Ну ладно. Приехали. Они все с рекомендациями к начальству разному пошли, а я в штаб округа. На летчика хотел учиться. Сплю и вижу, как бы я в воздухе винта нарезал.
Павел улыбнулся.
– На земле тебе тесно? – шутливо спросил он Коханского.
Алеша сверкнул в улыбке свежей белизной зубов.
– Вот же мне в штабе и говорят: «Зачем тебе в облака забираться? По земле вернее». Смеются. А я из укомола даже рекомендацию привез с просьбой оказать содействие насчет авиации. В нашей квартире военком снабжения жил, Андреев. Так тот на обороте бумажки от себя шкарябнул. Вот слово в слово:
«Замечал тов. Коханского как сознательного. Семейственность рабочая. Раз у него охота к летанию, пущай учится на поддержку мировой революции. Подписал военком снабрига сто тридцатой Богунской Андреев».
Павел от души смеялся. Алеша же хохотал так раскатисто, что вокруг них стали собираться студенты. Сквозь смех Коханский продолжал:
– Да, с авиацией не склеилось. В штабе растолковали мне, что летать сейчас не на чем, и будет неплохо пока по технике подучиться. А летать, говорят, никогда не поздно. Я сюда подал заявление. Оказывается, прием по конкурсу. Тут же и эти.
Экзамены через две недели. Я вижу – дело дрянь: на одно место восемь охотников, и все больше брашка городская. К профессорам репетировать ходили или, как наша орава, по семь классов гимназии отмолотили.
Просмотрел я книжата. Освежил память. Вагон дров выгружу – есть на два дня покушать. Потом дров не стало, сижу на декофте. А наша шатия по театрам шатается, в общежитие ночью приходят. Комнаты пустые – почти все студенты в летнем отпуске. Если эта шатия вернулась, заниматься нельзя: крик, гогот. Заливанов Сенька их всех в оперетках с артистками познакомил, а те у них в три дня всю монету выудили до копья. А когда им жрать стало нечего, так эта сволота у одного парнюги, что приехал поступать, сорок яиц стырили и без меня остаток сухарей в один присест сожрали.
Наконец день испытаний. Первое – геометрия. Дали нам бумагу с печатями, тридцать пять минут на решение задач. Я, как на доску глянул, вижу – решу, а гимназистики, гляжу, запарились вконец. Рожи у них злые, ерзают, словно им кто шпиляк в стулья насажал. А с Шарапоня пот градом, морда у него придурковатая, блыкает одним глазом. Ага, думаю, это тебе не девочек, сукин сын, щипать за икры.
Давясь смехом, Алеша досказывал:
– Решил я задачку, встал, чтоб отнести профессору, а Сухарько и Заливанов шипят, как гуси: «Передай шпаргалку». Я же без пересядки к столу мимо Чеботаря прохожу. Он меня шепотом матом обложил.
За два дня по четыре двойки заработали и с конкурса вышли. Я держусь. Что ж они делают? Сухарько подходит ко мне и говорит: «Брось здесь валандаться. Мы по секрету от преподавателя узнали – у тебя две двойки. Не пройдешь все равно, идем с нами, пока не поздно, подавать в строительный техникум. Там легче».
Я было поверил, но с экзамена не ушел – все равно еще два предмета, и все будет ясно. Оказалось – это меня на пушку брали. Прошел я, а эта брашка, чтобы дома своим очки втереть, поступила в двухклассное училище при техникуме. Их приняли без всякого испытания. Там ведь требуются знания двухклассной школы. Получили билеты, провизионные карточки и вот ездят по всем дорогам, мешочничают. Занялись спекуляцией. Денег у них полные карманы. Жрут и пьянствуют. Уже в городе три квартиры сменили. Отовсюду их гонят за скандалы и пьянку. Ванька Юрин от них в сторону подался. Попал в строительный.
Толкотня в коридоре усиливалась. Большой класс наполнялся молодежью. Пошли туда и Павел с Алешей. Уже на ходу Коханский вспомнил что-то и вновь поперхнулся смехом.
– Ванька недавно к ним заскочил. Там картежка. Ванька тоже приладился и обыграл их нечаянно. Что ж ты думаешь? Они у него деньги отобрали, вдобавок морду набили и выставили на улицу. Заработал, называется.
До позднего вечера в обширном классе шла борьба за большинство. Жаркий выступал трижды. О поездке на стройку большинство студентов и слушать не хотело. Крикуны в технических тужурках, с молоточками на петлицах, второй раз срывали голосование. Здесь Жаркому не на кого было опереться. Два комсомольца на пятьсот учащихся, из которых две трети «папины сынки». Наиболее демократическим был первый курс, где руководил старостатом Коханский. Этот курс и механический первый, где за поездку высказался их староста Данилов, юноша с мечтательными глазами, дали большинство. И наутро коллектив обязался послать сорок студентов на помощь стройке».
Линия Шарапоня и компании в романе на этом не обрывается. Поведению этой компании Островский уделил весьма много внимания, противопоставляя мещанские интересы отщепенцев общества трудовому героизму передовой молодёжи. Это сопоставление представляет особый интерес именно сегодня, когда в печати, на телевидении и с подмостков эстрады всё явственнее стали проступать нотки скептицизма в отношении таких понятий, как «коллективизм» и «массовый героизм». Некоторые же новоявленные «идеологи» в нашей стране и вовсе перестали скрывать свой нигилизм к традициям коммунистического воспитания.
Молодость от природы полна энергии, которой нужен выход, нужно применение. Молодости характерно стремление к самопожертвованию во имя высших идеалов, во имя благополучия и счастья своего народа. Если же отобрать у юных веру в достижимость этих идеалов, то кипящая энергия молодости в поисках выхода выплеснется в иные формы – кутежи, разбои, разврат. То, что во времена Островского носило порой зачаточный характер, сегодня если не впрямую, то косвенно, способствует росту массовой преступности, наркомании, мафии, рэкету, о которых не мог знать писатель, но возможность которых хотел предупредить, рассказывая подробно о деградации Шарапоня и компании.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































