Текст книги "Пинбол"
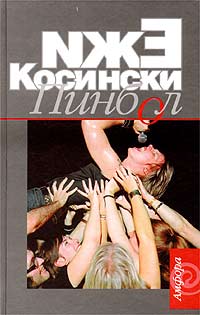
Автор книги: Ежи Косинский
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
И все же он желал ее. Он желал ее, потому что она была молода, а он нет; он хотел, чтобы она в нем нуждалась, дабы через эту ее потребность – хотя бы сиюминутную – снова почувствовать себя мужчиной, достойным любви. Влечение его к Донне было вполне плотским, ибо, лишь физически ею обладая, он получал надежду, пусть даже рискуя оказаться несостоятельным как мужчина, вновь стать самим собой.
Каждую ночь, закончив работу и переехав ведущий в Манхэттен мост, он, как бездомный кот, слонялся от одного бара к другому, из одного клуба в следующий и, настороже от каждого звука, убивал час за часом время, отделявшее его от Донны.
А утром его терзания прятались за вежливой улыбкой, он приветствовал Донну обычным рукопожатием и дружеским поцелуем в щеку, а затем сразу приступал к назначенной на сегодня работе. И ни разу голос его не сорвался, обнаруживая, насколько мучительно ему сохранять это безразличие.
Чем меньше времени оставалось до отъезда в Варшаву, тем сильнее волновалась Донна. Всего через несколько дней ей предстояло состязаться в чужой стране, перед незнакомой аудиторией и жюри, чье холодное, беспристрастное мнение о ее игре способно повлиять на всю ее дальнейшую жизнь.
В Джульярде она всегда ощущала, что заслуживает внимания, но в реальном мире ее вполне мог ожидать провал, даже позор, и ей казалось, что ни родные, ни друзья – среди которых лишь немногих она считала достаточно близкими – не способны понять, как это страшно, и тем более утешить или помочь советом. Она знала, что все это может ей дать Домострой, но он, словно желая обидеть именно в тот момент, когда она так ждала его мнения о ней самой и ее шансах в Варшаве, предпочел в отношениях с Донной холодную сдержанность.
Как-то утром, целиком поглощенная подобными мыслями, она сидела за роялем и, готовясь к напряженным усилиям, расстегнула верхнюю пуговицу блузки и ослабила на юбке пояс. Не глядя на Домостроя, она начала играть величественный Полонез ля бемоль, не забыв сдержать чрезмерное изобилие в первых фразах, чтобы затем взорваться в следующих четырех восьмых с такой силой и страстью, что звуки разнеслись по всему просторному танцевальному залу.
Она остановилась, доиграв пьесу до середины, подумала и начала Этюд в терциях. Домострой следил за ее левой рукой и вспоминал один из первых их уроков. Тогда он объяснял ей, что, так как в большинстве произведений, написанных для рояля, основная мелодия лежит в верхнем регистре, то есть исполняется правой рукой, то многие пианисты, даже в высшей степени искусные, невольно считают, что левая рука важна, лишь когда она ведет мотив; они склонны ослаблять левую, когда берут ею долгие ноты, играя правой мелодию вдвое или втрое быстрее. Исполняя сейчас такой пассаж, Донна показывала, что не забыла урок.
Внезапно прервав пьесу, она тут же заиграла «Желание», веселую, изощренную мазурку, слова которой: «Будь я солнцем в синем небе, лишь тебе бы воссиял…» – так часто мурлыкал при ней Домострой.
И вновь, не доиграв, она перескочила теперь на Вальс фа мажор, который из-за грациозных сдвигов на первых трех тактах основного мотива в три восьмые получил наименование «Кошачий вальс».
Не закончив и вальса, Донна вдруг опустила крышку рояля и, не говоря ни слова, закрыла лицо руками. Она слышала приближающиеся шаги Домостроя.
Он сдержал порыв сесть рядом с ней, отказав себе в счастье вдохнуть аромат ее тела. Он остался стоять, прислонившись к роялю.
– Почему ты перестала играть?
– Мне не хочется, – отозвалась она.
– Почему?
– Какой в этом смысл? – опустив голову, обреченно прошептала она.
– Смысл? Смысл в том, чтобы играть хорошо, – мягко заметил он.
– Кому?
– Другим. Тем, кто, подобно мне, хочет тебя слушать. Доставлять им удовольствие. Заставлять нас чувствовать то, чего без тебя мы никогда почувствовать не сможем.
Донна выпрямилась, и, когда посмотрела на Домостроя, он увидел в ее глазах слезы.
– Мне нет дела до других, – сквозь слезы пробормотала она. – Они не могут прожить за меня мою жизнь или думать моими мыслями. – Губы ее задрожали, и слезы покатились по щекам на блузку. – Почему, Патрик? Почему? – задыхаясь, воскликнула она.
Он шагнул к ней. В ярких лучах солнца, падающих на нее через потолочное окно, она выглядела, словно ожившая бронзовая статуя.
– Что – почему? – спросил Домострой.
– Ты заботишься обо мне, а больше ничего, – еле слышно вымолвила она. – Почему?
Он осторожно похлопал ее по плечу – что-то вроде поцелуя в щеку.
– Я забочусь о тебе – забочусь более, чем о ком-либо или о чем-либо еще, – очень медленно проговорил он, все еще находясь под властью своих чувств.
Она подняла голову и повернулась к нему. Ее глаза, полные света и слез, казались изумрудно-зелеными. Она прикусила губу, потом почти шепотом сказала:
– Ты заботишься, да. Но я думала, когда впервые пришла сюда, что ты любишь меня.
– И по-прежнему люблю. – Он убрал руку с ее плеча, отошел на несколько шагов, остановился в тени, боясь, что она заметит бурю чувств на его лице. – Я люблю тебя, Донна. Я дорожу каждым мгновением, проведенным с тобой.
– Тогда… почему ты… почему не…– она подбирала слова, – даже ни разу не попросил остаться с тобой? Ты ведь знаешь, что чувствую я! – вспыхнула она.
Он вернулся к роялю и посмотрел ей в глаза.
– Просто я боялся, что однажды, обретя твердость и уверенность в себе, ты оглянешься и подумаешь, что я воспользовался твоим испугом, слабостью и зависимостью от моей помощи.
Он помолчал, а потом добавил:
– Пока я не твой любовник, ты знаешь, что я люблю тебя далеко не за одну твою красоту.
Она встала, оглянулась, безмятежным движением вынула из волос заколку, так что пышная, сверкающая грива упала на плечи. Затем, спиной к Домострою, неторопливо, словно исполняя длинный и послушный музыкальный пассаж, она расстегнула блузку, распустила молнию сбоку на юбке, сняла и то, и другое и положила на крышку рояля. Сбросила туфли, трусики и повернулась к нему.
Он ждал, что она подойдет к нему, но она медлила. Нагая, омываемая лучами света, струящимися с ее плеч, грудей, бедер, она смахнула одежду с крышки, села за рояль, открыла его и начала играть. Исступленно лирические звуки Скерцо си минор звучали все сильнее и сильнее, пока весь гигантский зал не проникся «жалью», этим непостижимым чувством безысходной славянской тоски.
Глядя на нее и слушая ее игру, Домострой думал о том, как в конце концов произойдет то, чего он ждет. Казалось, все теперь зависело лишь от его воли, однако он заметил, что прилагает усилия, чтобы отсрочить момент близости, боясь, что, когда это наступит, он может оказаться несостоятельным или, подобно мужчинам, о которых она рассказывала, пассивным, жаждущим наслаждения, но неспособным взять инициативу на себя. Взгляд его блуждал по телу Донны, потом перекинулся на ее тонкие кисти и гибкие запястья, он наблюдал за ее пальцами, вдруг с легкостью растянувшимися на треть клавиатуры, столь мощно, быстро и живо, будто они действуют независимо от рук, движимые той же силой, что и дыхание.
Домострой знал, что исполнитель, дабы проникнуться духом мелодии и добиться необходимой благозвучию прозрачности, должен быть совершенно умиротворен, согласуя собственный физический ритм с течением музыки. Малейшее напряжение влияет на кисти, запястья и плечи музыканта и затрудняет исполнение. И сейчас он слышал, как все более напряженной и неуверенной в себе становится Донна.
Он испытывал возбуждение, однако заставил себя полностью сосредоточиться на ее игре, замечая, что все в ней: сгорбившиеся плечи, напряженная шея, скованные движения ног, беззвучные вздохи, даже то, как она поднимает руку с колена на клавиши, – выдает тревогу, чувство обреченности, поражение, признание собственной несостоятельности. В считанные минуты музыка ее стала задыхаться, как и она сама. Игра ее стала вялой, звуки, что прежде изливались из самого сердца, лишились силы, словно исходили теперь лишь из нотного листка над клавиатурой, столь же обособленные от пианистки, как она сама от инструмента, на котором играла.
Если бы она поехала в Варшаву прямо сейчас, подумал Домострой, то внутренний беспорядок лишил бы ее малейшего шанса на победу или хотя бы достойного места в конкурсе. Он знал, что ни количество часов, проведенных за роялем, ни физические или умственные усилия сами по себе не способны устранить столь глубоко засевшую тревогу или освободить от страха перед сценой на время, достаточное для победы.
Он рванулся к ней, он теперь тоже был пианистом, тянулся к клавишам, стремясь к тому, что готов был совершить, и одновременно боялся испортить неверным касанием самый первый такт, из которого вытекает вся пьеса. Он должен был постараться сделать то, чего пытается добиться перед концертом каждый пианист, – отдаться порыву, исходящему более не из пальцев, запястий, рук или плеч, но из самого сокровенного, что есть у него, – из его души.
Он застыл всего лишь в нескольких дюймах от нее, но она продолжала играть, словно не замечала его присутствия. И хотя он стоял так близко, что чувствовал тепло и запах ее тела, ему казалось, что он удалился от самого себя и, коснувшись ее, вернется в собственную действительность, которой, если он этого не сделает, будет теперь так страшно противостоять в одиночку.
Кончиками пальцев он коснулся ее шеи. Дрожь пробежала по ее телу, но она продолжала играть. Плоть ее напряглась в ответ на его прикосновение, но, когда он нажал сильнее, как будто поддалась, и он не понимал, от нее ли исходило изначальное сопротивление, или то была погрешность его собственного осязания, неспособного оценить, какое напряжение ладоней, рук и плеч необходимо для ласки. Он скользнул руками по лопаткам Донны – ее плечи и спина тоже чуть напряглись в ответ. Она не прекращала игру, и его настойчивость возрастала, наконец он почувствовал, как растворяется в нем напряжение, исчезает подавленность, уступая уверенности, что теперь лишь его одежда остается помехой их близости. Сейчас, когда сознание его очистилось, он, пальцами одной руки продолжая с упоением гладить ее шею, плечи, спину, другой раздевался сам.
Обнажившись, он прижался животом и грудью к ее спине, и она, затрепетав, подалась ему навстречу, и руки ее оторвались от клавиш. Она перестала играть и, словно не понимая, что делать теперь с руками, повернулась к нему. Он взял ее за плечи и крепко обнял, словно опасаясь, что она может упасть, а внутри его росла всепоглощающая жажда обладания этой женщиной. Лишь одно теперь имело значение: наполнить ее своим существованием, слиться с ней воедино.
Он осторожно повернул ее лицом к роялю, она положила руки на клавиши и тут же начала играть «Чары», печальную, сладостную песню Шопена. Десятитактовая фраза строфической мелодии воскресила в памяти слова, которые он пел мальчишкой, слушая, как мать репетирует перед концертом в Варшаве:
Когда пою с ней, трепещу;
А без нее печаль безмерна;
Я радоваться так хочу
И не могу!
И нет сомненья.
Что это чары!
Припав к ее плечу, он коснулся ее спины кончиком отвердевшего пениса, словно настаивая на еще большей близости, целовал ее шею, подбородок, ухо, прижимался щекой к ее волосам.
Он склонился над ней, касаясь локтями плеч, и легчайшими прикосновениями стал ласкать ее груди, подушечки пальцев скользили по соскам, заставляя их твердеть и заостряться, по ареолам вокруг сосков, затем опустились ниже, к пупку, затем обратно и снова вниз. Одной рукой он теперь уже крепко сжимал ей бедро, а ладонь другой легла на лоно, и кончики пальцев опустились еще ниже, поглаживая и проникая в ее плоть.
Он прижался грудью к ее спине, прильнул щекой к ее щеке, гладил ее бедра, а она продолжала играть, но уже была готова отдаться порыву страсти.
И когда руки девушки, казалось, перестали ее слушаться и тело бессильно склонилось над клавишами. Донна начала играть «С глаз долой», одну из экспрессивных двустрофных песен Шопена на стихи Адама Мицкевича, любимую ими обоими.
И светлым днем,
И в час ночной,
Повсюду, где играл с тобой
И плакал я с тобой,
Везде останусь я навек
С тобой,
Ибо оставил здесь
Я часть своей души.
Не позволяя ей прервать игру, он сел рядом. Нежно приподняв девушку, он опустил ее себе на бедра, вошел в нее, наполняя ее плоть своею, удерживая грудью ее податливое тело, ритмично с нею покачиваясь, плавно входя и выходя из нее, притягивая ее все крепче. Она содрогнулась и застонала. Плавное движение ее пальцев нарушилось, руки упали вдоль тела.
Он снова приподнял Донну, оттолкнул табурет и опустил ее на пол. Постелью им служила одежда, публикой – пустые кресла танцевального зала. Донна приникла к нему нежно и страстно, жертвенно и требовательно.
В аэропорт они поехали на его машине, и два больших чемодана Донны – один целиком заполненный вечерними платьями для выступлений и официальных обедов в Варшаве – заняли оба задних сиденья. Она сидела рядом с Домостроем, так что он держал руль одной рукой, а другой обнимал ее за плечи, то теребя ей волосы, то прикасаясь к шее. Она без слов сняла его руку с плеч и сжала между бедрами. Дыхание ее участилось, грудь вздымалась и опускалась, она придвинулась к нему и еще крепче стиснула его ладонь, согревая ее жаром своей плоти. Потом она положила голову ему на плечо, они встретились глазами, и из ее сухих, приоткрытых губ вылетел слабый стон.
Хотя она просила его поехать с ней в Варшаву, а у него была возможность пуститься в такое путешествие на деньги, сэкономленные от платежей Андреа, он решил, что для Донны важно оказаться в Варшаве без его надзирающего ока и уха, «один на один» с публикой, которую ей предстоит покорить.
Она сказала, что в зале отправления ее ждут мать и четыре младшие сестры, а еще там должны быть газетчики, чтобы взять у нее интервью. Домострой убедил ее отправиться к ним в одиночестве. В аэропорту он остановился у поребрика, вышел из машины, открыл дверцу для Донны, препоручил ее багаж носильщику и вновь скользнул за руль при виде приближающихся к ней родственников и репортеров со вспыхивающими камерами. Падкая до новизны пресса нашла в Донне Даунз идеальный образ для освещения знаменитого шопеновского конкурса.
К тому времени, как Домострой поставил машину на стоянку и прошел в зал ожидания, Донну окружила плотная стена репортеров и телеоператоров, ухитрившихся оттеснить в сторону ее семью. Он едва мог видеть девушку поверх голов, однако отметил, что выглядит она прекрасно, а на бесконечные вопросы отвечает взвешенно и достаточно уверенно. Он видел также, что она озирается, ищет взглядом его, но он каждый раз скрывался из поля ее зрения, рассудив, что этот момент принадлежит ей одной.
Интервью закончилось, и свора газетчиков и операторов кинулась освещать прибытие самолета с телами убитых где-то в Южной Америке американских солдат.
Сопровождаемая семьей и несколькими подругами по Джульярду, Донна медленно шла к выходу на посадку, по-прежнему оглядываясь в поисках Домостроя. Он следовал за ней, скрытый группой тучных восточноевропейских чиновников, дружно шагавших к тому же выходу. Потеряв надежду увидеть его до отлета, Донна попрощалась со всеми остальными и нехотя направилась к проходу для досмотра. Лишь тогда он вышел из толпы и помахал ей рукой, и тут же выражение ее лица изменилось, словно у ребенка при виде неожиданного подарка. Она подбежала к нему, стиснула в объятиях и на глазах у изумленной матери и хихикающих сестренок принялась осыпать поцелуями его шею, глаза, губы, а он, забыв теперь о ее семье и прочих зрителях, обнял Донну и приник губами к ее губам. Но вот настало время идти. Она оторвалась от него и пошла по длинному проходу. Он смотрел вслед, пока мог различить ее высокий силуэт в коридоре, ведущем к самолету. Улыбнувшись, он чуть поклонился ее родственникам, повернулся и направился к выходу, но успел сделать лишь несколько шагов, как его окликнула низенькая очкастая женщина в туфлях на толстой подошве и широкополой шляпе, украшенной букетом цветов.
– Простите, сэр, – умоляюще произнесла женщина, подняв на него блеклые водянистые глаза, увеличенные толстыми стеклами. – Эта молодая красивая леди, которую вы только что целовали, какая-то знаменитость?
– Пока нет, мадам, – терпеливо ответил Домострой, – но будет, когда вернется.
– Я так и думала! – торжествующе воскликнула женщина, блеснув искусственными зубами. – Я так и думала, – повторила она. – Я всегда угадываю знаменитостей!
IV
Этим вечером Андреа вновь согласилась пообедать с Остеном. После обеда он отправился в банк, чтобы получить деньги по чеку, а заодно навестить арендованный сейф в подвале, дабы еще раз просмотреть письма из Белого дома в надежде обнаружить там какие-то мысли или обороты, способные разоблачить автора. Однако в последний момент он переменил свое решение, подумав, что вернее будет взять с собой на свидание миниатюрный сверхчувствительный магнитофон.
Он встретил Андреа у «Страха сцены», уютного ресторанчика вблизи Линкольновского центра [24] [24] Театрально-концертный комплекс в Нью-Йорке, куда входит и Джульярд.
[Закрыть], известного превосходной кухней и привлекательной обслугой – сплошь актерами и актрисами, подрабатывающими здесь между ангажементами. В полупрозрачной блузке и тесной юбке, подчеркивающей великолепные линии ее тела, Андреа выглядела потрясающе.
Они говорили о проводах Донны в Варшаву, которые оба смотрели по телевизору. Затем, словно для того, чтобы отвлечь Остена от неприятных воспоминаний, связанных с его бывшей возлюбленной, Андреа рассказала о романе Донны с Диком Лонго, порнозвездой, и Остен смеялся, слушая ее, хотя ему было больно узнать наконец, кем был тот сверходаренный мужскими достоинствами самец из фотоальбома.
Воспользовавшись моментом, Остен признался Андреа, что, впервые увидев ее в кафетерии Джульярда, сразу заинтересовался, есть ли у нее постоянный друг. А теперь, узнав ее чуточку лучше, он задает себе вопрос, было ли в ее жизни столь значительное увлечение, каким до недавнего времени для него являлась Донна.
На мгновение Андреа нахмурилась. Затем сообщила, что дружка у нее нет. Большую часть своего времени она уделяет занятиям, а выходные обычно проводит с родителями в Такседо Парк, месте, где выросла и о котором сохранила самые лучшие воспоминания. Возможно, когда-нибудь, сказала она, Остен сможет отправиться туда вместе с ней, чтобы поплавать в бассейне под чуть ли не самыми старыми дубами и кедрами во всей округе.
Чем непринужденней становилась беседа, тем больше радовался Остен, что не стал перечитывать письма из Белого дома ради изучения использованных там слов и оборотов речи, так что мог теперь слушать Андреа без всяких задних мыслей, просто наслаждаясь отчетливыми, ясно выраженными мнениями и получая немалое удовольствие от звука ее голоса – ничего общего с монологами Донны, которые он считал несколько манерными вследствие ее воспитания.
– Почему ты не расспрашивал обо мне Донну? – между прочим спросила Андреа. – Уверена, она бы разразилась целым потоком старых школьных сплетен.
– Ты сразу так мне понравилась, что я предпочел не рисковать, опасаясь ревности Донны.
Они молча смотрели друг на друга.
– После нашей мимолетной встречи в кафетерии я стал часто думать о тебе, – наконец продолжил Остен. Его захватили воспоминания, и он, прикрыв глаза, медленно произнес: – Ты вставала перед моими глазами в самые неподходящие моменты.
– Когда же? – понизила голос Андреа.
– Когда я занимался любовью с Донной, – ответил он, опять встретившись взглядом с Андреа. – Стоило закрыть глаза, и мне казалось, что со мною ты. И я не мог этому помешать. Это было словно предчувствие.
– Предчувствие… чего? – спросила она, казалось, покоренная его искренностью.
– Любви, – ответил он и, лишь услышав это слово из собственных уст, осознал, насколько просто и недвусмысленно было его желание. – К тебе, – добавил он и, протянув руку, осторожно положил на ее ладонь. И тут же ощутил ее желание отдернуть руку. – Я впервые коснулся тебя, – мягко, почти извиняясь, произнес он.
– Ты нравишься мне, Джимми Остен, – медленно, взвешивая каждое слово, сказала она. – Очень. Ты нравился мне, еще когда был с Донной. Я даже чуточку к ней ревновала. Я чувствовала – и надеялась, – что между вами нет истинной страсти. Что вы хоть и вместе, но не друг с другом, разделены, как черное с белым. Я рада, что все кончилось. Рада за тебя и, что греха таить, за себя, за нас.
Когда разговор о чувствах иссяк, Остен попросил Андреа рассказать ему о своей жизни и с восторгом слушал о ее занятиях, о ее затяжных прыжках с парашютом, о том, как она писала музыкальные рецензии в «Сохо Саундз», авангардистскую рок-газету, но более всего о ее надеждах стать режиссером бродвейских спектаклей и мюзиклов.
Вечер пролетел незаметно. Отвозя девушку домой, Остен заметил, что она как можно дальше от него отодвинулась. Он воспринял это как знак ее неготовности к более близким отношениям, несмотря на то, что сам он весь ужин всячески демонстрировал свое влечение к ней.
Он с уважением, даже восхищением отнесся к ее сдержанности и, выйдя из машины, чтобы проводить Андреа до дверей ее дома, оставил мотор включенным.
– Разве ты не зайдешь? – спросила она совершенно бесстрастно.
– Не слишком ли поздно… я имею в виду, для тебя? – запинаясь, проговорил он, вдруг растеряв всю свою уверенность.
– Ничуть. Завтра у меня нет занятий. Кроме того, я страдаю бессонницей! «Макбет зарезал сон», – процитировала она.
Она ждала у двери, пока Остен искал место для стоянки. В машине взгляд его упал на сумку, в которой лежал магнитофон. Он заколебался. Интуиция подсказывала ему бросить эту затею. Со времен Лейлы он не был так сильно увлечен женщиной, а потому ему было совершенно не по душе видеть в Андреа возможную сообщницу столь порочного типа, как Патрик Домострой. К тому же за весь вечер Остен не заметил в ее речи ничего, хотя бы отдаленно напоминавшего мысли и формулировки писем из Белого дома.
И все же в последний момент, уже готовый захлопнуть дверцу машины, Остен подумал, что если у него есть хотя бы ничтожный шанс узнать, кто же все-таки посылал ему письма из Белого дома – Андреа или кто-то другой, шанс этот упускать нельзя. Он украдкой выхватил магнитофон из сумки и сунул его во внутренний карман куртки. После чего присоединился к Андреа.
Поднимаясь по лестнице, он искренне сожалел, что не может стать с ней открытым до конца и просто рассказать, кто он такой и почему скрывает свое истинное лицо.
Ему понравился порядок в квартире Андреа: прекрасно подобранная старинная мебель, аккуратно сложенные тетради, семейные фотографии в серебряных рамках, полки с книгами и пластинками без единой пылинки. Она достала серебряную шкатулку, в которой лежал пластиковый пакетик марихуаны, пачка папиросных бумажек и миниатюрная машинка для скручивания сигарет. Когда она показывала ему свою коллекцию старинных парфюмерных флаконов, Остен встал у нее за спиной, а затем сделал еще шаг и взял ее за плечи, так что тела их соприкоснулись. Он повернул девушку лицом к себе. Она чуть приобняла его, глаза их встретились, и тут же она отошла откупорить бутылку вина. Затем Андреа спросила, не хочет ли он включить музыку, добавив при этом, что в шкафу у нее есть несколько сочинений Домостроя, на случай, если ему хочется освежить память об этом композиторе. Подойдя к шкафу с коллекцией грампластинок, он проворно сунул магнитофон за кипу альбомов. Таймер должен был сработать на следующее утро на запись.
Он просмотрел пластинки, с удовольствием отметив полную коллекцию Годдара. Возник соблазн поставить одну из них, но он все-таки решил этого не делать и включил радио.
Андреа принесла самокрутки и вино, достала пепельницу и серебряную защепку для окурка, после чего села на кровать рядом с Остеном, откинулась на гору подушек и подобрала под себя ноги. Они закурили, и по комнате медленно поплыли клубы дыма.
– Кстати говоря, ты когда-нибудь встречалась с Патриком Домостроем? – пристально посмотрел на нее Остен.
– Нет, не привелось, но кое-что я о нем знаю, – настолько непринужденно ответила она, что у него не возникло и тени сомнения в ее искренности. Она глотнула вина и передала ему самокрутку. – Мои родители сталкивались с ним много лет назад в Такседо Парк. Домострой встречался с одной писательницей, что жила рядом с ними. Он, вообще, интересный человек? – взглянула она на Остена и засмеялась. – Хотя в этом деле вряд ли можно ждать от тебя объективности.
– Действительно. – Он тоже засмеялся. – Даже мой отец, который никогда ни о ком слова плохого не скажет, и тот не слишком высокого мнения о его образе жизни.
– А как насчет его музыки?
– Мой отец считает, что она примитивна и апеллирует к низменным чувствам. Он приписывает эти качества неестественной сексуальной озабоченности Домостроя.
Андреа выказала живейший интерес:
– В каком смысле неестественной?
– Я точно не знаю, – признался Остен, – но помню, как несколько лет назад – я, кажется, как раз тогда закончил школу – на отцовском званом вечере Домострой привел в ужас всех гостей омерзительным рассказом о Шопене.
– Интересно, рассказывал ли он подобные истории Донне, – засмеялась Андреа.
– Ей бы они не понравились. Она боготворит Шопена.
– И что же это была за история? – поинтересовалась Андреа.
– Всем известно, какое место занимал секс в жизни Шопена, – Жорж Санд и все такое прочее, правда? Однако многие из обожающих его современников утверждали, что из-за своего туберкулеза он ничего не мог с этим поделать. Они водрузили его на пьедестал, а грешки оправдывали болезнью. Если верить Домострою, то поклонники Шопена, дабы сохранить его доброе имя – или то, что от него осталось, – не позволили опубликовать ни письма его, ни мемуары, да и вообще никаких письменных свидетельств. Однако о связях Шопена написали его более объективные современники. И эти документы сохранились в архивах и библиотеках. Их изучали многие историки и критики, включая самого Домостроя.
– Зачем же Домострою понадобились все эти изыскания?
– Мне кажется, чтобы написать книгу, раз уж он больше не способен сочинять музыку, и развить в ней свою излюбленную мысль о том, что только сексуальная свобода может избавить от душевной смуты, одиночества и застенчивости. Гению, дескать, это идет на пользу! Я прочел кое-что из книг о Шопене и обнаружил там несколько странных моментов. Шопен увлекался неким маркизом де Кюстином, а также кругом его довольно-таки скверных приятелей.
– Кюстин был так же ужасен, как тот, другой маркиз?
– Маркиз де Сад? Трудно сказать. Де Сад выдумал большинство своих сексуальных штучек, а Кюстин нет: у него с приятелями, включая Шопена, все было по-настоящему.
Кюстин превратил свою блестящую виллу в непотребный притон, где Шопен нередко исполнял роль piece de resistance [25] [25] Piece de resistance (фр.) – коронное блюдо; дословный перевод– «кусок сопротивления».
[Закрыть] – впрочем, он не особенно сопротивлялся.
Домострой утверждает, причем на полном серьезе, что избыточный секс продлил, или даже породил, творческую жизнь Шопена. Таким образом он боролся со своей скованностью, становился менее замкнутым. По Домострою, у Шопена вследствие болезни была такая высокая температура тела, что он постоянно пребывал в половом возбуждении, а любая сексуальная активность поднимала температуру еще выше – так что начинала гибнуть часть туберкулезных палочек, а сопротивляемость организма оставшимся возрастала! Предполагают, что после оргии Шопен действительно чувствовал себя лучше и, следовательно, мог дальше писать музыку, выступать и, разумеется, снова и снова пускаться во все тяжкие с кем попало, никак не отбирая своих партнеров, многих из которых он, без сомнения, заразил туберкулезом, пока сам не подхватил герпес, одну из самых заразных болезней! Прелестное недомогание, не так ли?
– Спать с кем попало? Или мучиться туберкулезом? – игриво поинтересовалась Андреа. – Тебе, похоже, нравится выкапывать из книжек все эти сплетни. В своем деле ты, как видно, отличный специалист.
Они прикончили вторую самокрутку и устремились друг к другу, словно в танце. Его рука, скользнув по волосам, легла ей на шею; она обняла его за плечи. Он уложил ее рядом с собой и, опершись на локоть, заглянул ей в глаза. От марихуаны ее глаза заблестели, так что казалось, что она грезит наяву. Желание возникло в нем с новой силой, страстные мечты, с какими он наблюдал за нею издалека, обернулись явью, и он, откинув волосы с ее щек и шеи, осыпал поцелуями лоб, щеки, шею и плечи, но не припадал к губам, оставляя ей право первого поцелуя, который вовлечет его в цепочку событий, и разорвать ее будет уже невозможно.
Она поцеловала его, сначала лишь чуть, потом все более страстно, язык ее касался его языка, то нажимая, то отступая, она все сильнее прижималась губами к его губам, и вот уже он был поглощен ею без остатка: одна рука у нее на груди, другая ласкает бедра, задирает юбку, пальцы ощущают жар ее паха и влажную плоть.
Не прерывая поцелуя, с неохотой оторвавшись друг от друга, они принялись раздеваться, сплетаясь и расплетаясь телами. Она выскользнула из блузки и дала ему стащить с себя юбку и трусики, а сама голой ступней спихнула к лодыжкам его брюки с трусами, так что он смог стянуть их ногами.
Теперь она была обнажена и полностью для него открыта. Он охватил глазами ее тело, и перед ним, в наркотическом тумане, прозрачной завесой предстал вставший между ним и Андреа безликий образ обнаженной из Белого дома. У него родилась смутная мысль, что, как бы ни были похожи эти женщины, на фотографиях нет никаких доказательств, Андреа это или не Андреа. Но теперь это уже не имело значения.
Остен проснулся около полудня. Андреа еще спала. Он встал и, стараясь не разбудить ее, прошмыгнул в ванную. Его тошнило, а голова просто раскалывалась; боль застучала в висках, когда вспыхнул свет в ванной. Конопля сыграла с ним злую шутку: то ли он никогда не курил так много, то ли она оказалась сильнее, нежели та, которую ему случалось изредка пробовать в Калифорнии.
Он тихо оделся и собрался уйти. Андреа лежала спиной к нему. Он решил ее не будить. Склонившись над полками, он потянулся за магнитофоном. Однако вместо того, чтобы забрать его, как только что собирался, оставил на месте, готовым к записи.
Несмотря на головную боль, он чувствовал себя бодро. От ночи остались лишь смутные воспоминания, что все у них прошло хорошо. Он помнил, как она говорила, что чувствует себя с ним раскрепощенной, а потом, когда дурман вознес их до вершин страсти, он понял, что заходит с ней так далеко, как никогда ни с одной женщиной не решался.
Он вернулся в свою квартирку и долго лежал в ванной, а пока отмокал, вспомнил, не без некоторого усилия, как много говорила Андреа о своем увлечении оккультизмом. Еще всплывало в памяти что-то насчет автоматического письма. Вот оба они, разгоряченные травкой и сексом, в клубах благовоний, при свете единственной маленькой свечи, и она заставляет его что-то писать с закрытыми глазами. В каком-то одурении, почти в трансе он что-то писал… Что именно? Этого он вспомнить не мог. Свое имя? Реплику из «Макбета»? Он помнил, как Андреа говорила, что его почерк расскажет ей о нем больше, чем мог бы он сам.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































