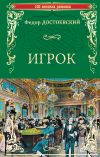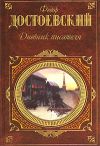Текст книги "Дневник писателя (1880-1881)"

Автор книги: Федор Достоевский
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
Умные люди тут рассмеются и скажут: «Хорошо же, после того, хлопотать о самосовершенствовании в духе христианской любви, когда настоящего христианства, стало быть, нет совсем на земле, или так мало, что и разглядеть трудно, иначе (по моим же, то есть, словам) мигом все бы уладилось, всякое рабство уничтожилось, Коробочки переродились бы в светлых гениев, и всем бы оставалось только запеть Богу гимн?» Да, конечно, господа насмешники, настоящих христиан еще ужасно мало (хотя они и есть). Но почем вы знаете, сколько именно надо их, чтоб не умирал идеал христианства в народе, а с ним и великая надежда его? Примените к светским понятиям: сколько надо настоящих граждан, чтоб не умирала в обществе гражданская доблесть? И на это тоже вы не ответите. Тут своя политическая экономия, совсем особого рода, и нам неизвестная, даже вам неизвестная, г-н Градовский. Скажут опять: «Если так мало исповедников великой идеи, то какая в ней польза?» А вы почему знаете, к какой это пользе в конце концов приведет? До сих пор, по-видимому, только того и надо было, чтоб не умирала великая мысль. Вот другое дело теперь, когда что-то новое надвигается в мире повсеместно и надо быть готовым… Да и дело-то тут вовсе не в пользе, а в истине. Ведь если я верю, что истина тут, вот именно в том, во что я верую, то какое мне дело, если б даже весь мир не поверил моей истине, насмеялся надо мной и пошел иною дорогой? Да тем-то и сильна великая нравственная мысль, тем-то и единит она людей в крепчайший союз, что измеряется она не немедленной пользой, а стремит их в будущее, к целям вековечным, к радости абсолютной. Чем соедините вы людей для достижения ваших гражданских целей, если нет у вас основы в первоначальной великой идее нравственной? А нравственные идеи только одни: все основаны на идее личного абсолютного самосовершенствования впереди, в идеале, ибо оно несет в себе все, все стремления, все жажды, а, стало быть, из него же исходят и все ваши гражданские идеалы. Попробуйте-ка соединить людей в гражданское общество с одной только целью «спасти животишки»? Ничего не получите, кроме нравственной формулы: «Chacun pour soi et Dieu pour tous» [8]8
«Каждый за себя, а Бог за всех» (фр.).
[Закрыть]. С такой формулой никакое гражданское учреждение долго не проживет, г-н Градовский.
Но я пойду далее, я намерен вас удивить: узнайте, ученый профессор, что общественных гражданских идеалов, как таких, как не связанных органически с идеалами нравственными, а существующих сами по себе, в виде отдельной половинки, откромсанной от целого вашим ученым ножом; как таких, наконец, которые могут быть взяты извне и пересажены на какое угодно новое место с успехом, в виде отдельного «учреждения», таких идеалов, говорю я, – нет вовсе, не существовало никогда, да и не может существовать! Да и что такое общественный идеал, как понимать это слово? Конечно, суть его в стремлении людей отыскать себе формулу общественного устройства, по возможности безошибочную и всех удовлетворяющую – ведь так? Но формулы этой люди не знают, люди ищут ее все шесть тысяч лет своего исторического периода и не могут найти. Муравей знает формулу своего муравейника, пчела тоже своего улья (хоть не знают по-человечески, так знают по-своему, им больше не надо), но человек не знает своей формулы. Откуда же, коли так, взяться идеалу гражданского устройства в обществе человеческом? А следите исторически, и тотчас увидите, из чего он берется. Увидите, что он есть единственно только продукт нравственного самосовершенствования единиц, с него и начинается, и что было так спокон века и пребудет во веки веков. При начале всякого народа, всякой национальности идея нравственная всегда предшествовала зарождению национальности, ибо она же и создавала ее. Исходила же эта нравственная идея всегда из идей мистических, из убеждений, что человек вечен, что он не простое земное животное, а связан с другими мирами и с вечностью. Эти убеждения формулировались всегда и везде в религию, в исповедание новой идеи, и всегда, как только начиналась новая религия, так тотчас же и создавалась граждански новая национальность. Взгляните на евреев и мусульман: национальность у евреев сложилась только после закона Моисеева, хотя и началась еще из закона Авраамова, а национальности мусульманские явились только после Корана. Чтоб сохранить полученную духовную драгоценность, тотчас же и влекутся друг к другу люди, и тогда только, ревностно и тревожно, «работою друг подле друга, друг для друга и друг с другом» (как вы красноречиво написали), – тогда только и начинают отыскивать люди: как бы им так устроиться, чтоб сохранить полученную драгоценность, не потеряв из нее ничего, как бы отыскать такую гражданскую формулу совместного жития, которая именно помогла бы им выдвинуть на весь мир, в самой полной ее славе, ту нравственную драгоценность, которую они получили. И заметьте, как только после времен и веков (потому что тут тоже свой закон, нам неведомый) начинал расшатываться и ослабевать в данной национальности ее идеал духовный, так тотчас же начинала падать и национальность, а вместе падал и весь ее гражданский устав, и померкали все те гражданские идеалы, которые успевали в ней сложиться. В каком характере слагалась в народе религия, в таком характере зарождались и формулировались и гражданские формы этого народа. Стало быть, гражданские идеалы всегда прямо и органически связаны с идеалами нравственными, а главное то, что несомненно из них только одних и выходят. Сами же по себе никогда не являются, ибо, являясь, имеют лишь целью утоление нравственного стремления данной национальности, как и поскольку это нравственное стремление в ней сложилось. А стало быть, «самосовершенствование в духе религиозном» в жизни народов есть основание всему, ибо самосовершенствование и есть исповедание полученной религии, а «гражданские идеалы» сами, без этого стремления к самосовершенствованию, никогда не приходят, да и зародиться не могут. Вы скажете, может быть, что вы и сами говорили, что «личное самосовершенствование есть начало всему» и что вовсе ничего не делили ножом. То-то и есть, что делили, что разрезывали живой организм на две половинки. Не «начало только всему» есть личное самосовершенствование, но и продолжение всего и исход. Оно объемлет, зиждет и сохраняет организм национальности, и только оно одно. Для него и живет гражданская формула нации, ибо и создалась для того только, чтоб сохранять его как первоначально полученную драгоценность. Когда же утрачивается в национальности потребность общего единичного самосовершенствования в том духе, который зародил ее, тогда постепенно исчезают все «гражданские учреждения», ибо нечего более охранять. Таким образом, никак нельзя сказать то, что вы сказали в следующей вашей фразе:
«Вот почему в весьма великой степени общественное совершенство людей зависит от совершенства общественных учреждений, воспитывающих в человеке если не христианские, то гражданские доблести».
«Если не христианские, то гражданские доблести!» Разве не виден тут ученый нож, делящий неделимое, разрезающий целокупный живой организм на две отдельные мертвые половинки – нравственную и гражданскую? Вы скажете, что и «в общественных учреждениях» и в сане «гражданина» может заключаться величайшая нравственная идея, что «гражданская идея» в нациях уже зрелых, развившихся, всегда заменяет первоначальную идею религиозную, которая в нее и вырождается и которую она по праву наследует. Да, так многие утверждают, но мы такой фантазии еще не видали в осуществлении. Когда изживалась нравственно-религиозная идея в национальности, то всегда наступала панически-трусливая потребность единения, с единственною целью «спасти животишки» – других целей гражданского единения тогда не бывает. Вот теперь французская буржуазия единится именно с этою целью «спасения животишек» от четвертого ломящегося в ее дверь сословия. Но «спасение животишек» есть самая бессильная и последняя идея из всех идей, единящих человечество. Это уже начало конца, предчувствие конца. Единятся, а сами уже навострили глаза, как бы при первой опасности поскорее рассыпаться врознь. И что тут может спасти «учреждение» как таковое, как взятое само по себе? Были бы братья, будет и братство. Если же нет братьев, то никаким «учреждением» не получите братства. Что толку поставить «учреждение» и написать на нем: «Liberté, egalité, fraternité»?[9]9
«Свобода, равенство, братство» (фр.).
[Закрыть] Ровно никакого толку не добьетесь тут «учреждением», так что придется – необходимо, неминуемо придется – присовокупить к трем «учредительным» словечкам четвертое: «оu la mort», «fraternité ou la mort»[10]10
«Или смерть», «братство или смерть» (фр.).
[Закрыть], – и пойдут братья откалывать головы братьям, чтоб получить чрез «гражданское учреждение» братство. Это только пример, но хороший. Вы, г-н Градовский, как и Алеко, ищете спасения в вещах и в явлениях внешних: пусть-де у нас в России поминутно глупцы и мошенники (на иной взгляд, может, и так), но стоит лишь пересадить к нам из Европы какое-нибудь «учреждение» и, по-вашему, все спасено. Механическое перенесение к нам европейских форм (которые там завтра же рухнут), народу нашему чуждых и воле его не пригожих, есть, как известно, самое важное слово русского европеизма. Кстати, вот вы, г-н Градовский, осуждая наше неустройство, стыдя тем Россию и указывая ей на Европу, изволите говорить:
«А пока что мы не можем справиться даже с такими несогласиями и противоречиями, с которыми Европа справилась давным-давно…»
Это Европа-то справилась? Да кто только мог вам это сказать? Да она накануне падения, ваша Европа, повсеместного, общего и ужасного. Муравейник, давно уже созидавшийся в ней без церкви и без Христа (ибо церковь, замутив идеал свой, давно уже и повсеместно перевоплотилась там в государство), с расшатанным до основания нравственным началом, утратившим все, все общее и все абсолютное, – этот созидавшийся муравейник, говорю я, весь подкопан. Грядет четвертое сословие, стучится и ломится в дверь и, если ему не отворят, сломает дверь. Не хочет оно прежних идеалов, отвергает всяк доселе бывший закон. На компромисс, на уступочки не пойдет, подпорочками не спасете здания. Уступочки только разжигают, а оно хочет всего. Наступит нечто такое, чего никто и не мыслит. Все эти парламентаризмы, все исповедоваемые теперь гражданские теории, все накопленные богатства, банки, науки, жиды – все это рухнет в один миг и бесследно – кроме разве жидов, которые и тогда найдутся как поступить, так что им даже в руку будет работа. Все это «близко, при дверях». Вы смеетесь? Блаженны смеющиеся. Дай бог вам веку, сами увидите. Удивитесь тогда. Вы скажете мне, смеясь: «Хорошо же вы любите Европу, коли так ей пророчите». А я разве радуюсь? Я только предчувствую, что подведен итог. Окончательный же расчет, уплата по итогу может произойти даже гораздо скорее, чем самая сильная фантазия могла бы предположить. Симптомы ужасны. Уж одно только стародавне-неестественное политическое положение европейских государств может послужить началом всему. Да и как бы оно могло быть естественным, когда неестественность заложена в основании их и накоплялась веками? Не может одна малая часть человечества владеть всем остальным человечеством как рабом, а ведь для этой единственно цели и слагались до сих пор все гражданские (уже давно не христианские) учреждения Европы, теперь совершенно языческой. Эта неестественность и эти «неразрешимые» политические вопросы (всем известные, впрочем) непременно должны привести к огромной, окончательной, разделочной политической войне, в которой все будут замешаны и которая разразится в нынешнем еще столетии, может, даже в наступающем десятилетии. Как вы думаете: выдержит там теперь длинную политическую войну общество? Фабрикант труслив и пуглив, жид тоже, фабрики и банки закроются все, чуть-чуть лишь война затянется или погрозит затянуться, и миллионы голодных ртов, отверженных пролетариев, брошены будут на улицу. Уж не надеетесь ли вы на благоразумие политических мужей и на то, что они не затеят войну? Да когда же на это благоразумие можно было надеяться? Уж не надеетесь ли вы на палаты, что они не дадут денег на войну, предвидя последствия? Да когда же там палаты предвидели последствия и отказывали в деньгах чуть-чуть настойчивому руководящему человеку? И вот пролетарий на улице. Как вы думаете, будет он теперь по-прежнему терпеливо ждать, умирая с голоду? Это после политического-то социализма, после интернационалки, социальных конгрессов и Парижской коммуны? Нет, теперь уже не по-прежнему будет: они бросятся на Европу, и все старое рухнет навеки. Волны разобьются лишь о наш берег, ибо тогда только, въявь и воочию, обнаружится перед всеми, до какой степени наш национальный организм особлив от европейского. Тогда и вы, г-да доктринеры, может быть, схватитесь и начнете искать у нас «народных начал», над которыми теперь только смеетесь. А теперь-то вы, господа, теперь-то указываете нам на Европу и зовете пересаживать к нам именно те самые учреждения, которые там завтра же рухнут, как изживший свой век абсурд, и в которые и там уже многие умные люди давно не верят, которые держатся и существуют там до сих пор лишь по одной инерции. Да и кто, кроме отвлеченного доктринера, мог принимать комедию буржуазного единения, которую видим в Европе, за нормальную формулу человеческого единения на земле? Они-де у себя давно справились: это после двадцати-то конституций менее чем в столетие и без малого после десятка революций? О, может быть, только тогда, освобожденные на миг от Европы, мы займемся уж сами, без европейской опеки, нашими общественными идеалами, и непременно исходящими из Христа и личного самосовершенствования, г-н Градовский. Вы спросите: какие же могут быть у нас свои общественные и гражданские идеалы мимо Европы? Да, общественные и гражданские, и наши общественные идеалы – лучше ваших европейских, крепче ваших и даже – о ужас! – либеральнее ваших! Да, либеральнее, потому что исходят прямо из организма народа нашего, а не лакейски безличная пересадка с Запада. Теперь я, конечно, не могу об этом распространиться, ну хоть по тому одному, что и без того статья длинна вышла. Кстати, вспомните: что такое и чем таким стремилась быть древняя христианская церковь? Началась она сейчас же после Христа, всего с нескольких человек, и тотчас, чуть не в первые дни после Христа, устремилась отыскивать свою «гражданскую формулу», всю основанную на нравственной надежде утоления духа по началам личного самосовершенствования. Начались христианские общины – церкви, затем быстро начала созидаться новая; неслыханная дотоле национальность – всебратская, всечеловеческая, в форме общей вселенской церкви. Но она была гонима, идеал созидался под землею, а над ним, поверх земли тоже созидалось огромное здание, громадный муравейник – древняя Римская империя, тоже являвшаяся как бы идеалом и исходом нравственных стремлений всего древнего мира: являлся человекобог, империя сама воплощалась как религиозная идея, дающая в себе и собою исход всем нравственным стремлениям древнего мира. Но муравейник не заключился, он был подкопан церковью. Произошло столкновение двух самых противоположных идей, которые только могли существовать на земле: человекобог встретил богочеловека, Аполлон Бельведерский Христа. Явился компромисс: империя приняла христианство, а церковь – римское право и государство. Малая часть церкви ушла в пустыню и стала продолжать прежнюю работу: явились опять христианские общины, потом монастыри – все только лишь пробы, даже до наших дней. Оставшаяся же огромная часть церкви разделилась впоследствии, как известно, на две половины. В западной половине государство одолело наконец церковь совершенно. Церковь уничтожилась и перевоплотилась уже окончательно в государство. Явилось папство – продолжение древней Римской империи в новом воплощении. В восточной же половине государство было покорено и разрушено мечом Магомета, и остался лишь Христос, уже отделенный от государства. А то государство, которое приняло и вновь вознесло Христа, претерпело такие страшные вековые страдания от врагов, от татарщины, от неустройства, от крепостного права, от Европы и европеизма и столько их до сих пор выносит, что настоящей общественной формулы, в смысле духа любви и христианского самосовершенствования, действительно еще в нем не выработалось. Но не вам бы только укорять его за это, г-н Градовский. Пока народ наш хоть только носитель Христа, на него одного и надеется. Он назвал себя крестьянином, то есть христианином, и тут не одно только слово, тут идея на все его будущее. Вы, г-н Градовский, безжалостно укоряете Россию за ее неустройство. А кто мешал до сих пор ей устроиться во все эти два последние века и особенно в последнее пятидесятилетие? А вот все подобные вам, русские европейцы, г-н Градовский, которые у нас все два века не переводились, а теперь особенно на нас насели. Кто враг органическому и самостоятельному развитию России на собственных ее народных началах? Кто насмешливо не признает даже существование этих начал и не хочет их замечать? Кто хотел переделать народ наш, фантастически «возвышая его до себя», – попросту наделать все таких же, как сами, либеральных европейских человеков, отрывая, от времени до времени, от народной массы по человечку и развращая его в европейца даже хоть фалдочками мундира? Этим я не говорю, что европеец развратен; я говорю только, что переделывать русского в европейца так, как либералы его переделывают, – есть сущий разврат зачастую. А ведь в этом-то состоит весь идеал ихней программы деятельности: именно в отлупливании по человечку от общей массы – экой абсурд! Это они так хотели все восемьдесят миллионов народа нашего отколупать и переделать? Да неужели же вы серьезно думаете, что наш народ весь, всей массой своей, согласится стать такою же безличностью, как эти господа русские европейцы?
IV. Одному смирись, а другому гордись. Буря в стаканчике
До сих пор я только препирался с вами, г-н Градовский, теперь же хочу вас и упрекнуть за намеренное искажение моей мысли, главного пункта в моей речи.
Вы пишете:
«Еще слишком много неправды, остатков векового рабства засело в нем (то есть в народе нашем), чтоб он мог требовать себе поклонения и, сверх того, претендовать еще на обращение всей Европы на путь истинный, как это предсказывает г-н Достоевский.
Странное дело! Человек, казнящий гордость в лице отдельных скитальцев, призывает к гордости целый народ, в котором он видит какого-то всемирного апостола. Одним он говорит: „Смирись!“ Другому говорит: „Возвышайся!“»
И далее:
«А тут, не сделавшись как следует народностью, вдруг мечтать о всечеловеческой роли! Не рано ли? Г-н Достоевский гордится тем, что мы два века служили Европе. Признаемся, это „служение“ вызывает в нас не радостное чувство. Время ли Венского конгресса и вообще эпохи конгрессов может быть предметом нашей „гордости“? То ли время, когда мы, служа Меттерниху, подавляли национальное движение в Италии и Германии и косились даже на единоверных греков? И какую ненависть нажили мы в Европе именно за это „служение“!»
Остановлюсь сначала на этой последней, маленькой, почти невинной передержке: да разве я, сказав, что «мы в последние два века служили Европе, может быть, даже более, чем себе», – разве я хвалил то, как мы служили? Я только хотел отметить факт служения, и факт этот истинен. Но факт служения и то, как мы служили, – два дела совсем разные. Мы могли наделать очень много политических ошибок, да и европейцы их делают во множестве поминутно, но не промахи наши я хвалил, я только факт нашего служения (почти всегда бескорыстного) обозначил. Неужели вы не понимаете, что это две вещи разные? «Г-н Достоевский гордится тем, что мы служили Европе», – говорите вы. Да вовсе и не гордясь я это сказал, я только обозначал черту нашего народного духа, черту многознаменующую. Так отыскать прекрасную, здоровую черту в духе национальном – значит уж непременно гордиться? А что вы говорите про Меттерниха и про конгрессы? Это вы-то меня будете в этом учить? Да я еще, когда вы были студентом, про служение Меттерниху говорил, да еще посильнее вашего, и именно за слова об неудачном служении Меттерниху (между другими словами, конечно) – тридцать лет тому назад известным образом и ответил. Для чего же вы это исказили? А вот, чтоб показать: «Видите ли, какой я либерал, а вот поэт, восторженный-то любитель народа, слышите, какие ретроградные вещи мелет, гордясь нашим служением Меттерниху». Самолюбие, г-н Градовский.
Но это, конечно, пустяки, а вот следующее не пустяки.
Итак, сказав народу: «Возвышайся духом» – значит сказать ему: «Гордись», значит склонять его к гордости, учить его гордости? Вообразите, г-н Градовский, что вы вашим родным детям говорите: «Дети, возвышайте дух ваш, дети, будьте благородны!» – неужели же это значит, что вы их гордости учите или что вы сами, уча их, гордитесь? А я что сказал? Я говорил о надежде «стать братом всех людей в конце концов», прося подчеркнуть слово: «в конце концов». Неужели же светлая надежда, что хоть когда-нибудь в нашем страдающем мире осуществится братство и что нам, может быть, позволят стать братьями всех людей, – неужели эта надежда есть уже гордость и призыв к гордости? Да ведь я прямо, прямо сказал в конце речи: «Что же, разве я про экономическую славу говорю, про славу меча иль науки? Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемирному, ко всечеловечески братскому единению сердце русское, может быть, из всех народов наиболее предназначено…» Вот мои слова. И неужто в них призыв к гордости? Сейчас после приведенных слов моей речи я прибавил: «Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю в рабском виде исходил благословляя Христос. Почему же нам не вместить последнего слова его?» Это слово-то Христово значит призыв к гордости, а надежда вместить это слово есть гордость? Вы в негодовании пишете, «что нам слишком рано требовать себе поклонения». Да какое же тут требование поклонения – помилуйте? Это желание-то всеслужения, стать всем слугами и братьями и служить им своею любовью – значит требовать от всех поклонения? Да если тут требование поклонения, то святое, бескорыстное желание всеслужения становится тотчас абсурдом. Слугам не кланяются, а брат не коленопреклонений пожелает от брата.
Представьте, г-н Градовский, что вы сделали какое-нибудь доброе дело или идете только сделать его, и вот вы дорогою, в добром умилении вашем думаете и воображаете: «Как обрадуется этот несчастный неожиданной помощи, которую я ему несу, как воспрянет духом, как воскреснет, пойдет расскажет о своей радости своим домашним, своим детям, заплачет с ними…» – думая и воображая это, вы, конечно, сами почувствуете умиление, иногда даже слезы (неужели этого с вами никогда не случалось?), и вот подле вас умный голос вам в ухо: «Это ты гордишься, воображая все это себе! Это ты от гордости проливаешь слезы!» Помилуйте, да одна уже надежда на то, что и мы, русские, можем хоть что-нибудь значить в человечестве и хотя бы в конце концов удостоимся братски послужить ему, – одна уж эта надежда вызвала восторг и слезы восторга в тысячной массе слушателей. Я ведь не для похвальбы, не из гордости это припоминаю, я только обозначаю серьезность момента. Дана была только светлая надежда, что и мы можем быть чем-нибудь в человечестве, хотя бы только братьями другим людям, и вот один только горячий намек соединяет всех в одну мысль и в одно чувство. Обнимались незнакомые и клялись друг другу впредь быть лучшими. Ко мне подошли два старика и сказали мне: «Мы двадцать лет были врагами друг другу и вредили друг другу, а по вашему слову мы помирились». В одной газете поспешили заметить, что весь этот восторг ничего не выражает, что было-де такое уж настроение «с целованием рук» и что напрасно ораторы всходили и говорили и доканчивали свои речи… «Что бы они ни сказали, все тот же де был бы восторг, ибо такое уж благодушное настроение в Москве объявилось». А вот поехал бы этот журналист сам туда и сказал бы что-нибудь от себя: кинулись ли бы к нему так, как ко мне, или нет? Отчего же три дня перед тем говорили речи и были огромные овации говорящим, но того, что случилось после моей речи, ни с кем там не было? Это был единственный момент на празднике Пушкина и не повторялся. Видит Бог, не для восхваления своего говорю, но момент этот был слишком серьезен, и я не могу о нем умолчать. Серьезность его состояла именно в том, что в обществе ярко и ясно объявились новые элементы, объявились люди, которые жаждут подвига, утешающей мысли, обетования дела. Значит, не хочет уже общество удовлетворяться одним только нашим либеральным хихиканием над Россией, значит, мерзит уже ученье о вековечном бессилии России! Одна только надежда, один намек, и сердца зажглись святою жаждою всечеловеческого дела, всебратского служения и подвига. Это от гордости они зажглись? Это от гордости пролились слезы? Это к гордости я их призывал? Ах, вы!
Видите ли, г-н Градовский: серьезность этого момента вдруг многих испугала в нашем либеральном стаканчике, тем более, что это было так неожиданно. «Как? До сих пор мы так приятно и себе полезно хихикали и все оплевывали, а тут вдруг… да это ведь бунт? Полицию!» Выскочило несколько перепуганных разных господ: «Как же с нами-то теперь? Ведь и мы тоже писали… куда же нас теперь денут? Затереть, затереть это все поскорее и чтоб не осталось и следа, разъяснить скорее на всю Россию, что это только такое благодушное настроение в хлебосольной Москве случилось, миленький моментик после ряда обедов, а более ничего, ну, а бунт укротить полицией!» И принялись: и трус-то я, и поэт-то я, и ничтожен-то я, и нулевое-то значение имеет моя речь, – одним словом, сгоряча поступили даже неосторожно: публика могла и не поверить. Надо было, напротив, это дело сделать умеючи, подойти хладнокровнее, даже хоть что-нибудь и похвалить в моей речи: «Дескать, все-таки есть течение мыслей», а затем, мало-помалу, мало-помалу, все и заплевать, и затереть, к общему удовлетворению. Одним словом, поступили не столь искусно. Явился пробел, его надо было поскорее восполнить, и вот немедленно отыскался солидный, опытный уже критик, соединяющий безотчетность нападений с надлежащею комильфотностью. Этот критик были вы, г-н Градовский: вы написали, вас прочли и все успокоились. Вы послужили общему и прекрасному делу, по крайней мере вас везде перепечатали: «Не выдерживает, дескать, строгой критики речь поэта; поэты поэтами, а вот умные-то люди стоят на страже и всегда вовремя обкатят холодной водой мечтателя». В самом конце вашей статьи вы просите меня извинить вам выражения, которые я, в статье вашей, мог бы счесть резкими. Я, кончая мою статью, не прошу у вас извинения за резкости, г-н Градовский, буде таковые в статье моей есть. Я отвечал не лично А. Д. Градовскому, а публицисту А. Градовскому. Лично я не имею ни малейших причин не уважать вас. Если же не уважаю ваши мнения и остаюсь при том, то чем смягчу, прося извинений? Но мне тяжело было видеть, что весьма серьезная и знаменательная минута в жизни общества нашего представлена извращенно, разъяснена ошибочно. Тяжело было видеть, что идею, которой служу я, волокут по улице. Вот вы-то ее и поволокли.
Я знаю, мне скажут со всех сторон, что не стоило и смешно было писать такой длинный ответ на вашу довольно короткую, сравнительно с моей, статью. Но, повторяю, ваша статья послужила только предлогом: мне хотелось кое-что вообще высказать. Я намерен с будущего года «Дневник писателя» возобновить. Так вот этот теперешний номер «Дневника» пусть послужит моим profession de foi[11]11
Программным (фр.).
[Закрыть] на будущее, «пробным», так сказать, номером.
Скажут еще, пожалуй, что я моим вам ответом уничтожил весь смысл моей речи, произнесенной в Москве, где сам призывал обе партии русские к единению и примирению и признавал законность той и другой. Нет, совсем нет, смысл речи не уничтожен, а, напротив, – еще более закреплен, ибо именно я обозначаю в моем вам ответе, что обе партии, в отчуждении одна от другой, во вражде одна с другой, сами ставят себя и свою деятельность в ненормальное положение, тогда как в единении и в соглашении друг с другом могли бы, может быть, все вознести, все спасти, возбудить бесконечные силы и воззвать Россию к новой, здоровой, великой жизни, доселе еще невиданной!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.