Текст книги "Основания морали"
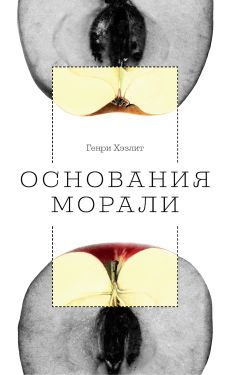
Автор книги: Генри Хэзлитт
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
6. Максимум и минимум
Однако сейчас нас интересует, можно ли сформулировать общее правило, регламентирующее обязанность или пределы самопожертвования, – скажем, ради блага тех, кого мы не знаем, или даже ради блага тех, кто нам неприятен. Главная трудность в том, что такое общее правило не может быть простым. Как я уже говорил, наличие или отсутствие обязательности может зависеть от отношений, в которых мы находимся к другим людям, отношений порой совершенно случайных. Так, например, если мы идем по пустынной дороге или временно находимся в другой стране и обнаруживаем человека, который сбит машиной или ограблен, изувечен и лежит полумертвым, мы не можем пройти мимо, не оглянувшись, и сказать себе, что это вообще не наше дело, да к тому же мы все равно уже опоздали. Наш долг действовать как добрый самаритянин. Но из этого отнюдь не следует, что мы обязаны взвалить на себя все мировое бремя или постоянно искать, кому бы помочь, – вне зависимости от того, как они попали в бедственное положение и какое долгосрочное воздействие окажет на них наша помощь.
Это значит, что мы должны провести четкую грань между особым случаем и общим правилом и даже между любым частным случаем, рассматриваемым изолированно, и общим правилом. Если вы даете доллар нищему или даже 1000 долларов случайному бедняку, который «нуждается» в деньгах больше вас, то арифметическое сопоставление (если такая операция в принципе возможна) предельной полезности этих денег для него и гораздо меньшей предельной полезности их для вас может в результате показать чистый прирост счастья для вас обоих, вместе взятых. Но если мы извлечем из этого случая общее правило и превратим его во всеобщую обязанность, результатом будет чистое убывание счастья для сообщества, взятого в целом.
Иными словами, единичный акт не мотивированного определенными соображениями (или мотивированного только желанием сблизить доходы без учета каких-либо иных критериев) благодеяния, может быть, и увеличит счастье получающего в большей мере, чем уменьшит счастье дарителя. Но если придать столь широкой и практически ничем не ограниченной благотворительности статус общего морального правила, обязательного для нас, это приведет к значительному уменьшению счастья, поскольку будет порождать иждивенческие настроения у все большего числа людей, поощряя их считать такую помощь «правильной», и снижать энергию и мотивацию тех, на кого возложено это моральное бремя.
Подведем теперь промежуточный итог наших рассуждений. На практике во многих случаях крайне трудно определить, как применять наш принцип, гласящий, что самопожертвование необходимо, но только в тех случаях, когда оно с наибольшей вероятностью способствует увеличению общего количества счастья и благополучия. Ничем не ограниченная благотворительность или ничем не лимитированная обязанность делать добро не может привести к такому результату. Все мы не можем продать все, что у нас есть, и отдать бедным19. Если этот принцип сделать всеобщим, он приводит к противоречию: не будет никого, кому можно что-то продать. Между полным отказом от благотворительности и полным отказом от всего имущества лежит широкая сфера возможностей, для которых нельзя установить единообразное и безоговорочное правило. В каких-то случаях будет правильно оказать помощь, но не будет совсем неправильно ее не оказывать.
Но если у проблемы нет точного решения, это не значит, что ее нельзя решить в рамках, заданных верхней и нижней границей. Верхним пределом, как мы установили, служит условие: оправдан лишь такой акт самопожертвования, который доставляет другому благо большее, чем то, которое было пожертвовано. Нижний предел, естественно, таков: следует воздерживаться от сознательного причинения ближним любого ущерба. Между этими пределами находится обширная зона промежуточных обязанностей.
Проблему, вероятно, можно решить и при более узком зазоре между максимумом и минимумом20. Важнейший критерий оценки правил этики – общественное сотрудничество. Мы должны устанавливать такие правила взаимных обязательств, которые, будучи сделаны всеобщими, в наибольшей мере способствуют общественному сотрудничеству.
7. Эгоизм или нравственность?
Проблему, которой мы занимаемся в данной главе, можно сформулировать иначе. В главе 7 мы предпочли определить нравственность как «по существу своему не подчинение “индивидуального” “общественному”, а подчинение ближайших целей отдаленным».
Каждый из нас постоянно вынужден идти на временные жертвы ради своих долгосрочных интересов. Но требует ли нравственность жертв «в чистом виде», т. е. жертв с итоговым отрицательным балансом, жертв, на полную компенсацию которых мы не можем рассчитывать даже в долгосрочной перспективе?
Многое проясняющий, но парадоксальный ответ на этот вопрос дал Курт Байер. Частично я уже привел его в главе 7 (с. 58–59). Сейчас я хочу привести его в более полном виде и проанализировать подробнее, поскольку в нем формулируется, вероятно, самая главная проблема этики: «Моральные правила – это системы принципов, принятие которых каждым с целью сопротивления требованиям эгоизма равно отвечает интересам каждого, – хотя следование моральным правилам, разумеется, отнюдь не то же самое, что следование эгоистическому интересу. Если бы никакой разницы не было, между нравственностью и эгоистическим интересом не существовало бы никакого противоречия и вообще не было бы смысла иметь правила, противостоящие эгоистическому интересу… Поэтому ответ на вопрос “зачем быть нравственными?” таков. Мы должны быть нравственными потому, что быть нравственным значит следовать правилам, созданным для преодоления эгоизма, – коль скоро равно в интересах каждого, чтобы каждый отказался от своего эгоизма. Такое утверждение не будет внутренне противоречивым, потому что иногда в интересах человека наследовать своему эгоизму. Мы уже видели, что просвещенный эгоизм признает это. Но если просвещенный эгоизм ни от кого не требует жертв в чистом виде, то нравственность требует. Ради самой возможности достойной жизни для всех от каждого иногда требуются добровольные жертвы. Отдельно взятому человеку, возможно, выгоднее руководствоваться просвещенным эгоизмом, чем нравственностью. Но невозможно, чтобы всем вместе было выгоднее следовать просвещенному эгоизму, а не нравственности. Наилучшая возможная жизнь для всех возможна лишь при условии, что каждый следует правилам нравственности, т. е. правилам, которые достаточно часто могут требовать от людей принесения жертв в чистом виде»21.
Я уже обращал внимание на одно слабое место в этом оригинальном рассуждении. Парадоксальную форму ему придает использование слова «эгоизм» в двух разных значениях. Но эта парадоксальность в основном исчезает, если мы четко различаем краткосрочные и долгосрочные интересы <личности>, и в свободном от нее виде формулировка звучит так: моральные правила – это системы принципов, принятие которых каждым с целью сопротивления требованиям краткосрочных интересов одинаково отвечает долгосрочным интересам каждого.
Высказывание «в равной степени в интересах каждого, чтобы каждый отказался от своего эгоизма», несомненно, является внутренне противоречивым. Но не будет противоречием сказать, что в равной степени в долгосрочных интересах каждого отказаться от преследования сиюминутных интересов, если они несовместимы с долгосрочными интересами других. Будет противоречием сказать, что «иногда в интересах человека исследовать своему эгоизму». Но не будет противоречием сказать, что долгосрочным интересам человека порой отвечает отказ от некоторых сиюминутных интересов.
Различение между краткосрочными и долгосрочными интересами устраняет добрую половину проблем, которые так или иначе поднимает Байер, но не устраняет все проблемы. Они остаются, поскольку возможна несовместимость между интересами разных людей. Но можно ли на этом основании говорить о противоречии между требованиями «просвещенного эгоизма» и требованиями «нравственности»? Моральные правила – это именно те правила поведения, которые созданы для максимального увеличения удовлетворенности если не абсолютно каждого человека, то наибольшего возможного количества людей. Огромная выгода каждого человека от добросовестного соблюдения этих правил неизмеримо перевешивает ситуативные жертвы, которые это соблюдение порой подразумевает. Я бы сказал, для 99 % людей в 99 % случаев действия, диктуемые просвещенным эгоизмом, совпадают с действиями, диктуемыми нравственностью.
Как я уже сказал, убедительность явного у Байера противопоставления «эгоизма» и «нравственности» сводится на нет использованием слова «эгоизм» в двух разных смыслах. Байер не учел различие между краткосрочными и долгосрочными интересами. Не избежал он двусмысленности и в другом важном отношении – в трактовке (прослеживаемой по всей книге) личного интереса и «эгоизма». Если мы (прямо или косвенно) определяем «эгоизм» и «корыстный интерес» как «пренебрежение или безразличие к интересам других людей», тогда антитеза Байера обоснована, – но лишь постольку, поскольку значение терминов установлено заранее и коррекции не подлежит. А это работает лишь при условии, что мы заведомо сочли «эгоиста» холодным расчетливым человеком, который привык считать свой «корыстный интерес» несовместимым с интересами других. Но такие «эгоисты» – редкость. Большинство людей сознательно преследуют не своекорыстные интересы, а просто интересы. Эти интересы отнюдь не обязательно пренебрегают чужими интересами. Люди, как правило, стихийно сочувствуют другим и получают не меньшее удовлетворение от чужого счастья, чем от своего собственного. Большинство людей сознают, пусть и смутно, что главный их интерес, – жить в нравственном и отзывчивом обществе.
Однако следует признать, что это только частичный ответ на концепцию Байера. Ему не хватает завершенности. Остается тот редкий случай, когда перед индивидуумом встает необходимость принести «настоящую» жертву. Это тот случай, когда солдат, капитан корабля, полицейский, пожарный, врач или, скажем, мать, отец, муж, брат обязаны рисковать и даже рисковать жизнью ради выполнения того или иного безусловного долга. Здесь уже нельзя принимать в расчет будущую «долгосрочную перспективу», которая, возможно, могла бы компенсировать жертву. В таких ситуациях общество или правила нравственности говорят: «Вы должны пойти на этот риск, должны принести эту жертву вне зависимости от того, соответствует она вашему просвещенному эгоизму или нет, поскольку в долгосрочных интересах всех нас, чтобы каждый неукоснительно выполнял обязанности, возложенные на него общепринятыми правилами нравственности».
Это цена, которую любой из нас может быть однажды призван заплатить за неисчислимую пользу, получаемую каждым из нас благодаря существованию морального кодекса и его соблюдению всеми остальными людьми.
Это и есть зерно истины, содержащееся в формулировке Байера. Хотя он и ошибается, настаивая на существовании конфликта между требованиями «просвещенного эгоизма» и требованиями «нравственности» (поскольку, напротив, в их отношениях преобладают гармония и совпадение), он прав, когда утверждает, что эти требования не могут быть тождественными во всех случаях. В другом месте он, отдавая должное элементу истины в этике Канта, пишет: «Принятие нравственной позиции подразумевает, что действие основано на принципе, подразумевает подчинение правилам даже тогда, когда это неприятно, болезненно, разорительно или гибельно»22. Однако это верно именно потому, что всеобщее и неукоснительное соблюдение моральных правил отвечает долгосрочным интересам всех и каждого. Если же мы допустим, чтобы хоть один стал исключением и толковал правила, как ему выгодно, мы подорвем незыблемость той самой цели, ради которой и были созданы правила. Но разве это не другой способ сказать, что в личных интересах каждого соблюдать правила и настаивать на столь же неукоснительном их соблюдении всеми другими?
Иными словами, Байер ошибается, когда противопоставляет «нравственность» и «преследование эгоистического интереса». Моральные правила для того и созданы, чтобы в максимальной степени содействовать личному интересу. Действительное противоречие существует лишь между тем видом эгоизма, который несовместим с интересами других, и тем его видом, который с ними совместим. Точно так же, как наилучшие правила дорожного движения те, которые обеспечивают наибольшее удобство движения для наибольшего количества транспортных средств, так и наилучшие моральные правила те, которые в наибольшей мере содействуют эгоистическим интересам наибольшего числа людей. Будет противоречием в определении утверждать, что наибольший интерес всех обеспечивается за счет ограничения заботы каждого о своем собственном интересе. Верно, кому-то приходится отказываться от преследования определенных мнимых или сиюминутных выгод, поскольку эти выгоды по свойству своему входят в противоречие с действительными интересами не только большинства других людей, но даже и его самого. Но счастье всех не может стать наибольшим, если не будет наибольшим счастье каждого.
Возьмем ради простоты примера общество, состоящее только из двух людей А н В. Тогда правила поведения, которые они должны принять и выполнять, не могут отвечать только интересам А или только интересам В: они отвечают долгосрочным интересам обоих. В долгосрочной перспективе те правила, которые в наибольшей мере отвечают интересам обоих, должны быть такими, которые в наибольшей мере отвечают интересам каждого. Это положение остается верным, когда наше гипотетическое общество расширяется с Аи В до всех от А до Z.
Этот мутуализм и примиряет «эгоизм» с «нравственностью», поскольку в долгосрочной перспективе наилучшей заботой о собственном интересе является именно соблюдение правил, в наибольшей мере отвечающих интересам всех, и сотрудничество с другими ради того, чтобы все остальные соблюдали эти правила. Если в долгосрочных интересах всех соблюдать и поддерживать моральные правила, это должно быть и в моих интересах.
Подведем итог. Идеальные моральные правила те, которые в наибольшей мере способствуют общественному сотрудничеству и тем самым осуществлению наибольшего возможного числа интересов наибольшего возможного числа людей. Задача нравственности, как ее сформулировал Тулмин, состоит в том, чтобы «сообразовывать чувства и поведение таким образом, чтобы сделать их в наивозможной мере совместимыми с достижением целей и осуществлением желаний каждого»23. Но точно так же, как все интересы, значительные и незначительные, долгосрочные и краткосрочные, невозможно соблюдать всегда (отчасти потому, что некоторые из них принципиально неосуществимы, а отчасти потому, что одни несовместимы с другими), невозможно всегда обеспечить соблюдение интересов каждого. Если мы представим редкую критическую ситуацию, когда люди садятся в спасательные шлюпки на тонущем корабле, то наибольшее количество спасется в том случае, если посадка будет упорядоченной мутуалистской процедурой, а не беспорядочной и отвратительной дракой за места. Но даже и при «нравственном» варианте некоторыми людьми, возможно, придется пожертвовать. И хотя жертв будет меньше, чем было бы при безнравственной схватке, эти люди безусловно будут людьми иного свойства. Ведь многие из них могли бы оказаться среди тех, кто смог бы спасти себя за счет беспощадной жестокости. Таким образом, идеальные нравственные правила порой могут обязывать человека не только к незначительным или временным жертвам ради его собственных долгосрочных интересов, но даже (правда, крайне редко) к пожертвованию своих долгосрочных интересов ради более обширных долгосрочных интересов всех остальных.
Итак, мы вновь приходим к заключению: подлинные интересы индивидуума и общества почти всегда совпадают, но (таков уж удел рода человеческого) не в каждом случае тождественны.
Глава 15
Цели и средства
1. Как средства становятся целями
Все люди действуют. Они действуют целенаправленно. Они используют средства для достижения целей. Это может казаться элементарно ясным. И тем не менее в этической теории не было более обильного источника недоразумений, чем соотношение средств и целей.
Как уверяют многие исследователи этики, «цели» могут быть «множественными», – но только если понимать под ними подчиненные, или промежуточные, цели. Множественные цели всегда можно свести к меньшему числу целей. Выбирая между подчиненными целями – что нам приходится делать постоянно, – мы непременно руководствуемся предпочтением одной цели перед другой. А предпочтение основано на нашей оценке, согласно которой одна из этих «целей» для нас ближе к конечной цели или, по крайней мере, помогает достижению конечной цели больше, чем другая.
Таким образом, промежуточные цели – это одновременно и средства, и цели. Чтобы подчеркнуть эту двойственную природу, я предлагаю новый термин «средства-цели».
Нашу ближайшую цель всегда можно описать как удовлетворение или устранение неудовлетворенности. Даже нашу конечную цель можно описать как достижение такого состояния, которое устраивает нас больше, чем любое другое1. Но для достижения любой цели мы используем определенные средства, которые, в свою очередь, тоже можем считать целями. Допустим, супружеская пара из Нью-Йорка решила поехать на греческие острова. Формально это для нее – главная цель, хотя саму цель можно счесть только средством для получения удовольствия от поездки. Поскольку супруги никогда не бывали за границей, они решили по пути в Грецию посетить Лондон, Париж и Рим. Каждый из этих пунктов тоже становится целью. Они решили плыть на корабле; пересечение океана, следовательно, тоже становится отдельной целью. Но супруга считает океанское путешествие «самой приятной частью поездки»; следовательно, с ее точки зрения, то, что изначальное выглядело чистым средством для достижения более значимой цели, само становится целью более значимой, чем первоначально задуманная.
Такое превращение средств в цели происходит на протяжении всей жизни. Человек хочет не только предохранить себя от голода и холода; он хочет иметь удобный и красивый дом, вступить в брак, вырастить детей и дать им образование. Чтобы достичь этих более отдаленных целей, ему в первую очередь нужны деньги. «Заработок» становится средством и вместе с тем целью второй степени. Чтобы заработать, нужна работа. Получение работы – тоже средство и вместе с тем цель третьей степени. Иначе говоря, действие и жизнь – это непрерывный ряд, где каждый очередной шаг является целью по отношению к предыдущему и средством по отношению к последующему.
Мудрый человек воспринимает свою работу, свой отдых и свои желания именно сквозь такую двойную призму. Он живет не только сегодняшним днем, потому что в противном случае не мог бы благоразумно готовиться к будущему. Но он не живет и одним будущим, ибо это не позволило бы ему в полной мере пользоваться настоящим. Он живет и настоящим, и будущим. Он с удовольствием пользуется тем, что дает ему жизнь в данный момент, но постоянно ставит себе цель или цели, к которым должен стремиться.
Идеального баланса добиться трудно. Темперамент или привычки могут склонить нас к ошибкам в ту или другую сторону. Одна ошибка – представлять все лишь средством для чего-то другого: целиком отдаваться работе или обязанностям, жить только неутолимым стремлением к следующему успеху, не наслаждаясь плодами предыдущего, или, по словам Эмерсона, «всегда готовиться к жизни, но никогда не жить». Другая – забывать, что какие-то вещи суть только средства, и рассматривать их как цель саму по себе. Типичный пример – скряга, который постоянно копит деньги и вкладывает в это все силы, но никогда деньги не тратит.
2. Дьюи, Кант и Милль
Та же самые недоразумения по поводу средств и целей, которые свойственны людям в повседневной жизни, присутствуют и в философских этических теориях. Образцовый пример одной крайности мы находим у Джона Дьюи. Он совершенно устраняет всякое различение между целью и средством: все средства для него являются целями, а все цели – средствами. Нет ничего (включая даже идеалы), утверждает он, постоянного или неизменного; абсолютно все непрерывно движется, меняется, стремится вперед: «Цель – не конечный пункт, не предел, которого нужно достигнуть. Это активный процесс преобразования наличного положения вещей… Рост сам по себе – вот единственная моральная цель»2.
Но тут же возникает вопрос: рост в каком направлении? Нужно ли людям расти до двух с половиной метров и выше? Нужны ли безостановочный рост населения, перенаселенность, рост государственной власти, преступности, загрязнения или онкологических заболеваний? Если единственной моральной целью является рост сам по себе, тогда рост страдания и нищеты – такая же моральная цель, как рост блага. Абсолютизация роста ради роста, изменения ради изменения, движения ради движения напоминает слова из старинной народной песни: «Не знаю, куда я иду, но я на верном пути!». Такое учение разрушает и превращает в ничто этические ценности и идеалы, а также различие между средствами и целями.
Но, пожалуй, чаще встречается у прежних теоретиков этики противоположная крайность – стремление рассматривать средство как конечную цель или как конечный идеал. Это заблуждение особенно заметно у такого мыслителя, как Кант; его учение о повиновении долгу ради самого долга мы рассмотрим в следующей главе. Однако в несколько более мягкой форме ошибка встречается даже у современных мыслителей, называющих себя «идеал-утилитаристами», – в частности, у Хастингса Рэшдалла3. «Вывод, к которому мы пришли, таков: моральность наших действий в конечном счете определяется их способностью содействовать достижению всеобщей цели, а эта цель состоит из многих целей и прежде всего из двух – из Нравственности и удовольствия»4. В других местах Рэшдалл использует термины Добродетель и Счастье как синонимы нравственности и удовольствия и дает понять, что «Высшее благо» состоит из этих двух элементов.
Но если Конечная цель в равной мере состоит из Добродетели и Счастья, становится невозможно свести их друг к другу. Они оказываются не только несоизмеримыми, но и несопоставимыми. И когда мы встаем перед выбором одного образа действий из двух, причем один больше способствует Добродетели, чем Счастью, а второй больше способствует Счастью, чем Добродетели (или один больше приращивает Добродетель, чем Счастье, а второй – больше Счастье, чем Добродетель), то как нам решить, что выбрать?
Цели не обязательно должны быть соизмеримыми, но они должны быть сопоставимыми5; в противном случае выбор между ними невозможен. По сути дела это означает, что мы не можем иметь «множественные» или внутренне неоднородные конечные цели. Когда нам предлагаются две гипотетические конечные цели или больше, либо две или больше «части» конечной цели, ни одна из которых не может быть сведена к другой без остатка или адекватно выражена через другую, мы поступим правильно, если заподозрим, что имеем дело просто с концептуальной путаницей и что одна из двух «конечных» целей есть всего лишь средство для достижения другой.
Рассмотрим это недоразумение на примере Канта. Канта традиционно – и справедливо – считают крайним антигедонистом и антиутилитаристом. Но в одном примечательном месте он отводит счастью столь важную роль, что фактически вплотную подходит к эвдемонизму: «Добродетель (как достойность быть счастливым) есть первое условие всего того, что только может нам казаться желательным, а следовательно, всех наших поисков счастья, и поэтому есть верховное благо. Но она еще не есть полное и совершенное благо как объект способности желания разумных существ; чтобы быть таким благом, для этого нужно еще счастье… Поскольку же добродетель и счастье вместе составляют все обладание высшим благом в одной личности, причем счастье распределяется в точной соразмерности с нравственностью (как достоинством личности и ее достойностью быть счастливой), составляют высшее благо возможного мира, то это означает все благо в целом, в котором добродетель как условие всегда есть верховное благо, так как она уже не имеет над собой никакого условия, а счастье всегда есть нечто такое, что, хотя оно и приятно тому, кто им обладает, само по себе не есть нечто доброе безусловно и во всех отношениях, а всегда предполагает как свое условие моральное законосообразное поведение»6.
Дальнейшее рассуждение Канта о соотношении Добродетели и Счастья настолько запутанно, что, пожалуй, нет смысла за ним следить. В числе прочего Кант заключает, что «счастье и нравственность – это два специфически совершенно различных элемента высшего блага, и их соединение, следовательно, невозможно познать аналитически»7. Несколько выше он формулирует (и отвергает) ответ «эпикурейца»: «Эпикуреец утверждал, что счастье есть все высшее благо, а добродетель только форма максимы поисков этого счастья, а именно [состоит] в разумном применении средств для него»8.
Если, однако, мы будем понимать «счастье» в данном контексте не только как краткосрочное счастье отдельно взятого субъекта действия, но и как общее долговременное счастье всего сообщества, то «эпикурейское» решение безусловно правильно.
Бертран Рассел сформулировал свой ответ ясно и просто: «То, что называется благим поведением – это поведение, служащее средством для достижения вещей, которые являются благими сами по себе»9.
Кого-то такая формулировка, возможно, покоробит, поскольку они поймут ее как низведение добродетели или нравственности на уровень чистых средств. Но мы редко считаем средства, необходимые для достижения великой цели, только средствами; они сами по себе становятся целями (пусть промежуточными или второстепенными) и даже воспринимаются нашим сознанием как неотъемлемая составная часть конечной цели.
Все это точно подмечено в «Утилитаризме» Джона Стюарта Милля: «Каково бы ни было мнение утилитаристских этиков о первоначальных условиях, делающих добродетель добродетелью, они, однако, могут считать (как они и делают), что действия и нравы добродетельны лишь постольку, поскольку имеют в виду иную цель, нежели добродетель… Они не только помещают добродетель на первое место среди вещей, которые суть благо как средство достижения конечной цели, но также признают психологическим фактом возможность того, что для индивидуума она будет благом сама по себе, не преследующим никакой иной цели… будет вещью, желаемой ради нее самой, – даже если в данном конкретном случае она не будет приносить тех других желанных плодов, которые призвана приносить и на основании которых, собственно, считается добродетелью»10.
Впоследствии Дж. Э. Мур решительно раскритиковал все рассуждение Милля, фрагмент которого приведен выше, обвинил его в «вопиющем противоречии» и в «уничтожении всякого различия между средством и целью». «Потом нам скажут, – заключил свою тираду Мур, – что этот стол на самом деле решительно ничем не отличается от этой комнаты»11. Милль действительно допустил ряд противоречий, но его понимание соотношения средства и цели психологически вполне корректно. Между средством и целью действительно есть различие, без которого невозможно обойтись в разумном поведении. Но оно не является неустранимым, объективным, – таким, какое всегда существует между столом и комнатой. Различие между средством и целью чисто субъективное. Средство и цель обретают свое специфическое значение лишь в контексте человеческих намерений и человеческой удовлетворенности, а для каждого конкретного индивидуума – в контексте его личных намерений и его личной удовлетворенности. Объект не может быть в один момент столом, а в другой – комнатой, но вполне может быть в один момент средством, а в другой – целью. Для нас он может даже быть целью и средством одновременно, быть ими в равной мере, быть промежуточной целью, – если мы сочтем, что именно в таком качестве он содействует реализации наших намерений и получению нашего удовлетворения.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































