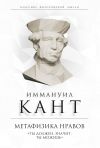Текст книги "Основания морали"
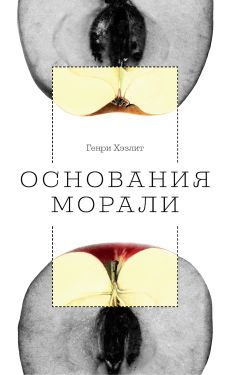
Автор книги: Генри Хэзлитт
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
2. Проверка на всеобщую применимость
Первым делом Кант выдвигает свое знаменитое понятие Категорического императива. Долг – это категорический императив, поскольку когда мы понимаем, что данную вещь совершить хорошо, в нас возникает категорическое, абсолютное веление совершить это действие, и оно будет целью для самого себя, будет «объективно необходимым». Следует различать чисто гипотетический императив, который представляет «практическую необходимость возможного поступка как средство для чего-то другого»6, – например, для сохранения здоровья, обретения счастья или вечного блаженства. Если гипотетический императив сам зависит от того, какова наша конкретная цель, то «чистое понятие категорического императива» эту цель формулирует: «Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом»7.
На первый взгляд, это положение весьма привлекательно, но попытка Канта вывести из него свод нравственных правил, с моей точки зрения, кончилась полным провалом. Такие правила могут быть дедуцированы только с учетом реальных или возможных последствий действий или правил действия и на основе оценки желательности или нежелательности этих последствий. Кант пытается доказать, что несоблюдение максимы нравственного действия ведет к логическому противоречию, но приводимые им примеры этого не подтверждают. Так, например, он считает ложь недопустимой на том основании, что если бы лгал каждый, никто никому не верил бы и ложь, таким образом, стала бы совершенно напрасной и бесполезной. Но отсюда никак не следует, что во всеобщей лжи есть нечто логически противоречивое; пример лишь показывает, что одно из последствий будет нравственно-дурным. Фактически Кант здесь сам апеллирует к практическим последствиям и далеко не к самым плохим, какими были бы вред, причиняемый жертвам обмана, пока они в него еще верят, и разрушение почти всякого общественного сотрудничества, как только люди убедятся, что не могут доверять словам и обещаниям друг друга.
Кантовский критерий всеобщности нравственных правил, если его правильно интерпретировать, будет, возможно, необходимым, но еще не достаточным условием нравственных правил. Его можно использовать, например, для опровержения аристотелевского представления о человеке великой души, «который может оказывать благодеяния, но стыдится принимать их»8. Трудно представить, чтобы два таких человека великой души сосуществовали в согласии. Каждый будет навязывать другому благодеяния, которые тот будет отвергать как оскорбительные. Кантовскую максиму можно использовать и против сверхчеловека Ницше. Все люди одновременно не могут руководствоваться моралью господина; чтобы действовать, как господин, нужно иметь хотя бы одного раба. Чтобы моральные правила Ницше стали действительными хотя бы для половины человечества, другая половина должна принять рабскую, т. е. антиницшеанскую, мораль.
С другой стороны, есть такие схемы действия, которые безусловно нравственны, даже если не могут быть универсализированы и даже если использующий их человек не желает их универсализации. Человек может решить стать министром или адвокатом; но все поголовно не могут быть министрами или адвокатами, потому что тогда мы умрем с голоду. Человек может решить выучиться играть на скрипке, но при этом не желать, чтобы это делали все. Более того, если он рассчитывает зарабатывать игрой на скрипке, то в целях повышения собственной ценности как скрипача и своего дохода он будет желать, чтобы хороших скрипачей было как можно меньше.
Можно, конечно, возразить, что с моей стороны это необоснованные придирки, что Кант вовсе не распространял свою максиму всеобщности на конкретную профессиональную деятельность и что максима всеобщности для подобных случаев могла бы звучать так: «В интересах разделения труда каждый должен овладеть той или иной профессией», или: «Каждый должен овладеть профессией, к которой он наилучшим образом приспособлен (или в которой может принести наибольшую пользу)». Но каковы все же допустимые пределы генерализации или конкретизации при формулировании «всеобщего» закона? «Лгать дозволительно каждому, но только именно в таком тяжелом положении, в каком сейчас нахожусь я»? Кант был холостяком и девственником. Имел ли он право требовать, чтобы все были такими? И как формулировался всеобщий закон, который разрешал ему быть таким?
Наконец, какое значение имеет кантовская максима? Думаю, мы можем признать, что определенное отрицательное значение она имеет. Она указывает, что наши нравственные правила не должны противоречить друг другу. Мы не вправе изымать наше собственное поведение из подчинения правилам, выполнения которых ожидаем от других. Мы не вправе сами следовать максимам, которые находим неприемлемыми в поведении других. Мы не можем приводить в свое оправдание извинения, которые не приняли бы от других. Короче говоря, нравственные правила, как и юридические правила, должны иметь максимально возможный уровень всеобщности и распространяться на всех без различия, – на нас самих, на наших друзей и врагов без всякой дискриминации и без всякого фаворитизма. Они должны быть совершенно беспристрастны. Они должны отвечать условию обратимости, т. е. быть приемлемыми для человека независимо от того, является он субъектом или объектом действия9.
Но ни одно из этих несомненных положений нисколько не помогает нам выработать положительное определение наших нравственных правил. Вполне можно представить, что все или почти все курят или пьют виски; но это еще не основание считать первое или второе долгом.
На самом деле установить или выработать нравственные правила можно только одним способом: принять во внимание последствия действий по этим правилам и оценить желательность или нежелательность этих последствий. Ведь и категорический императив Канта так или иначе основан на скрытой оценке последствий. Фактически Кант говорит: «Лгать недопустимо, поскольку если лжет каждый, последствия будут такие-то и такие-то». Но ему не удается показать, что во всеобщей лжи заключено логическое противоречие. Он показывает лишь (и этого вполне достаточно), что последствия всеобщей лжи будут для нас крайне нежелательными.
Однако ход мысли Канта приводит к тому, что нравственные доводы против лжи выглядят слабее, чем они есть на самом деле. Ложь была бы предосудительна не только в случае провозглашения ее всеобщим правилом. Почти каждая отдельная ложь приносит какой-то вред. Разумеется, чем больше будет распространена ложь, тем больше вреда она принесет. Но ложь ничуть не больше убийства достойна осуждения на том лишь основании, что ее нельзя делать всеобщим принципом. На самом деле и ложь, и убийство теоретически можно сделать таким принципом; просто для нас неприемлемы последствия. Принципу убийства можно следовать до тех пор, пока в живых не останется единственный человек, – да и ему ничто не помешает совершить самоубийство. Универсализация безбрачия приведет к исчезновению человечества; но Кант не считал на этом основании собственное безбрачие преступлением.
Позволим себе повторение и представим вышеизложенные соображения в другой формулировке. Возьмем категорический императив Канта: «Действуй по такой максиме, которую ты в то же самое время хотел бы сделать всеобщим законом» – и переведем его на более простой и понятный язык. Тогда у нас получится: «Действуй согласно лишь тому правилу, соблюдения которого ты хочешь и от всех остальных». В сущности, это означает, что ни у кого нет права считать себя исключением. Это означает, что нравственность – это свод правил поведения, соблюдать которые должен каждый, и что этот свод искажается и разрушается, если всякий или кто-нибудь считает себя исключением из правил. Но это решительно ничего не говорит нам о содержании правила или свода правил. А причина проста: фактически здесь негласно принят как нечто само собой разумеющееся утилитаристский критерий. Ведь каждый из нас хотел бы всеобщего соблюдения таких правил, которые содействуют наибольшему счастью и сводят к минимуму страдание и несчастье, – как применительно к нему лично, так и применительно ко всем другим. Кант не заметил, что в его формулировке категорический императив основан на основополагающем естественном желании индивидуума. Правило, всеобщую применимость которого индивидуум утверждает нравственным решением воли, есть то же самое правило, всеобщей применимости которого он естественным образом желает и к ней естественным образом стремится. Кант был зашифрованным утилитаристом правил.
3. Другие максимы Канта
Итак, самую знаменитую формулу Канта мы рассмотрели. Но категорический императив включает два других положения, которые, пока мы не расстались с Кантом, нам следует рассмотреть. Первое из них гласит: «Поступай так, чтобы человек и в твоем лице, и в лице других в каждом случае был также и целью, а не средством только»10. Вот что говорит по этому поводу Ивинг: «Эти слова Канта имели, пожалуй, такое влияние, как ни одно из философских высказываний. Они стали подлинным лозунгом либерального и демократического движения последних времен. Они осуждают рабство, эксплуатацию, неуважение к человеческой личности и человеческому достоинству, превращение человека в простой инструмент Государства, нарушение прав. Они выражают главную нравственную идею Нового времени и, можно было бы добавить, величайшую нравственную (в отличие от чисто «религиозной») идею христианства»11. Сам Кант говорит, что эта максима направлена против ложных обещаний другим и покушений на свободу и собственность других людей.
Но напрашиваются два вопроса. Первый: нужна ли нам эта максима для установления безнравственности лжи, воровства или принуждения, – т. е. являются ли правила, направленные против лжи, воровства, принуждения, нарушения прав и т. д., исключительно выводами из максимы Канта? Или же эти правила можно обосновать независимо от нее?
Второй вопрос: можно ли считать максиму Канта, рассмотренную изолированно, определенной по значению, корректной или даже истинной. Мы постоянно используем друг друга как средство. Собственно, в этом суть так называемых «деловых отношений». Мы используем носильщика, чтобы донести наши вещи из поезда; мы используем таксиста, чтобы добраться до гостиницы; мы используем официанта, чтобы получить еду, и повара, чтобы ее приготовить. А носильщик, таксист, официант и повар, в свою очередь, используют нас как средство получения дохода, с помощью которого могут сами использовать других для получения нужных им услуг. Все мы используем друг друга как «чистое» средство для удовлетворения наших желаний. Иными словами, все мы предоставляем себя или наши ресурсы для содействия осуществлению целей других людей как косвенному средству осуществления наших собственных12. Это основа общественного сотрудничества.
И наши ближайшие друзья, и члены нашей семьи для нас, естественно, являются и «целью», и «средством». Можно сказать, что даже тех, кто оказывает нам услуги, мы воспринимаем как цель, когда справляемся об их здоровье и здоровье их детей. Мы обязаны, – даже (и особенно) если эти люди оказывают нам услуги или нам подчинены, – обращаться с ними любезно, обходительно и уважать их человеческое достоинство. И разумеется, мы обязаны признавать и уважать права друг друга. Мир вполне мог прийти и пришел к пониманию и признанию этих обязанностей практически без всякого обращения к максиме Канта. Эта максима в лучшем случае помогает прояснить и консолидировать общий принцип.
Третья максима, или третья формулировка категорического императива, гласящая: «Действуй, как член царства целей», – на самом деле есть не более чем разновидность второй максимы. Мы должны рассматривать себя и других как цели; мы должны считать каждое человеческое существо обладающим равными правами; мы должны считать благо других равным нашему собственному. В сущности, это равнозначно требованиям справедливости и равенства перед законом.
Повторим еще раз: пригодность правила для постоянного или всеобщего использования сама по себе еще ничего не говорит о том, хорошее это правило или дурное. Это можно установить только на основе рассмотрения последствий следования данному правилу и оценки их желательности или нежелательности. Нравственность есть в первую очередь средство – средство, необходимое для человеческого счастья. Если мы заявляем, что мы обязаны исполнять долг ради самого долга, безотносительно к целям, которым этот долг служит, мы лишаем себя всякой возможности решить, в чем, в любой конкретной ситуации, действительно состоит наш долг или в чем он должен состоять.
Но Кант не только ошибочно принял средство за цель. Он еще и чрезмерно упростил нравственную проблему. Например, он утверждал, что ложь не имеет оправдания ни при каких обстоятельствах, – даже в том случае, если может спасти человека от убийцы. Он отказался признавать, что могут возникать такие ситуации, когда два или более нравственных принципа, сами по себе бесспорные, вступают в конфликт или когда нам приходится выбирать не безусловное благо, а меньшее из нескольких зол. Но таков удел рода человеческого.
Для завершения этой главы я не могу подобрать ничего более удачного, чем высказывания Ф. Г. Брэдли, заимствованные из его статьи «Долг ради долга». Брэдли, по его собственному признанию, ориентируется на Гегеля; поэтому данная его работа (как, впрочем, и все, что написано им по этике) эксцентрична, местами темна, наполнена парадоксами и внутренними противоречиями. Но ее заключительные абзацы пронизаны замечательным светом здравого смысла: «Является ли долг ради долга безусловно корректным принципом, – в том смысле, что мы всегда должны поступать по закону и только по закону, а закон не может иметь исключений, т. е. не может быть частных случаев, когда он не применяется? Утвердительный ответ будет означать, что мы заведомо считаем жизнь слишком простой, настолько простой, что нам никогда не приходится рассматривать более одного требования долга; однако в действительности нам приходится иметь дело с конфликтующими требованиями, и конфликт, как правило, снимается лишь потому, что нам понятно, какое требование предпочтительнее. Ошибочно полагать, что такое столкновение требований – это редкость или исключение… Если говорить совсем просто, то совершенно очевидно, что в каждом конкретном случае передо мной могут встать несколько требований долга, а выполнить я могу лишь одно. Тем самым я вынужден нарушить некий “категорический” закон, и перед обычным человеком встает вопрос: какой именно долг мне выполнять? Ответ может быть таким: “Все требования долга имеют пределы и подчинены одно другому. Их невозможно облечь в форму единого ‘категорического императива’ (т. е. в форму закона, имеющего абсолютный характер и зависящего только от себя самого) без исключений и изменений столь существенных, что во многих случаях вы, возможно, будете вынуждены отказываться от соблюдения закона как такового… Все, что предписывает [категорический императив], на самом деле сводится к следующему (и это, мы должны помнить, очень важная истина): мы никогда не должны нарушать закон долга ради нашего собственного удобства, никогда не должны нарушать его ради цели, которая не является долгом, но только ради более высокого и более властного долга… Итак, мы видим, что принцип “долг ради долга” говорит лишь одно: “Поступай нравственно-правильно ради самой нравственной правильности”; но он не объясняет нам, что есть “нравственно-правильное”…»13
Глава 17
Абсолютность и относительность
1. Дилемма Юма и Спенсера
Одна из центральных проблем этики – это свойство этических правил и императивов быть абсолютными или только относительными. Эта проблема до сих пор не имеет удовлетворительного решения прежде всего по той причине, что само ее существование редко признается в открытую. По одну сторону – такие абсолютисты, как Кант, с его категорическим императивом и молчаливой презумпцией неизменной простоты, ясности и неконфликтности наших нравственных обязанностей. По другую – этические анархисты, или ситуативные утилитаристы, с чьей точки зрения общие правила суть вещи ненужные, невыполнимые или абсурдные, а любое этическое решение должно основываться исключительно на конкретных обстоятельствах момента и уникальной «сути дела». Лишь крайне редко в расчет принимается возможность того, что наши нравственные обязанности в одних отношениях могут быть абсолютными, а в других относительными, и еще реже поднимается вопрос о четких пределах этой абсолютности или относительности.
Герберт Спенсер – один из немногих среди сонма моралистов, кто рассмотрел проблему специально и подробно. И хотя его рассуждения во многих отношениях уязвимы, в них есть несколько верных мыслей, которые могут послужить нам полезной отправной точкой.
Спенсер начинает1 с критики одного утверждения (впоследствии опущенного) в первом издании книги Генри Сиджвика «Методы этики»: «Что при всяких данных обстоятельствах существует некоторая вещь, которую надлежит сделать, и что такая вещь может быть известна, – есть фундаментальное допущение, делаемое не только философами, но и всяким человеком, совершающим какой-нибудь из процессов морального рассуждения». Спенсер отвечает: «Вместо принятия, что в каждом случае существует правильное и неправильное, можно утверждать, что во многих случаях нельзя указать, что правильно в надлежащем значении, а можно только указать на меньшую неправильность… во многих таких случаях… невозможно определить с какой-нибудь точностью, что именно будет наименее неправильным» <с. 275>.
Затем Спенсер приводит ряд примеров, в частности следующий: «Проступки или недостатки служанки, варьирующие между пустяками и серьезной вещью, и зло, которое может быть причинено расчитыванием <увольнением> ее, варьируются по бесчисленным степеням от легкого до серьезного. Наказание может быть наложено за ничтожный проступок, и тогда это несправедливо, или наказание не было наложено даже после многочисленных важных проступков, и это тоже будет неправильно. Как же должна быть определена степень прегрешения, за которую расчет менее неправилен, чем оставление служанки на месте?» <С. 280–281.> Или другие примеры: при каких условиях торговец может занять, чтобы избежать банкротства, если неизбежно рискует деньгами друга, у которого занимает? В какой мере допустимо пренебречь семейными обязанностями, если того требует выполнение неотложных общественных обязанностей?
Примеры, которыми Спенсер иллюстрирует конфликт соображений и конфликт обязанностей, вполне реальны и корректны, но, пожалуй, житейски тривиальны. А ведь подобный конфликт может возникнуть в ситуации чрезвычайной важности. Война – ужасное решение. Войны почти всегда влекли за собой гораздо больше зла, чем то зло, которое приводило к войне даже тех, кто первоначально «оборонялся». Значит ли это, что ни одна страна никогда не должна прибегать к войне вопреки любым актам агрессии и смиренно претерпевать бесчестье, унижение, поборы, угнетение, вторжение, порабощение и даже уничтожение? Мудро ли пойти на умиротворение, непротивление, угождение? Или это только раззадорит агрессора? В какой именно момент все же будет правильно прибегнуть к войне? В точности то же самое относится к другой ситуации: что разумнее – терпеть деспотизм, лишение собственности или свободы или начать восстание или революцию с непредсказуемыми последствиями? В таких ситуациях мы вынуждены выбирать не абсолютно правильное, а лишь относительно правильное решение; более того, в подобных ситуациях мы можем вообще не найти «правильного» решения и поневоле ограничимся наименее неправильным.
Затем Спенсер переходит к другой, но родственной проблеме. Он указывает, что сосуществование нравственно-совершенного человека и порочного общества невозможно: «Идеальное поведение, с которым имеет дело этическая теория, невозможно для идеального человека в среде людей, имеющих отличную от него конституцию. Абсолютно справедливый и абсолютно симпатический человек не может жить и поступать согласно своей натуре среди каннибалов. Среди вероломных и бессовестных людей полная правдивость и открытость натуры должны принести гибель. Если все окружающие признают только право сильнейшего, человек, натура которого не дозволит причинять страдание другим, будет задавлен. Нужно, чтобы существовало подобие между поведением каждого члена данного общества и поведением остальных. Никто не может быть успешным в таком образе действий, который совершенно несходен с преобладающим образом действий, в силу того, что такое упорство окончится собственной смертью или смертью потомства, или и тем и другим вместе» <с. 295–296>.
Конечно, Спенсер не был первым, кто поставил эту проблему. За столетие с лишним до него и даже с большей остротой это сделал Давид Юм: «Предположим также, что добродетельному человеку выпало на долю попасть в руки злодеев вдали от сени законов и правительства. Как следует ему вести себя в этой печальной ситуации? Он видит, что здесь господствует такое отчаянное хищничество, такое презрение к справедливости, такое неуважение к порядку, такая тупая слепота в отношении будущих последствий, что это должно непосредственно привести к самым трагическим результатам и окончиться гибелью большого числа людей и полным распадом остального общества. В то же время у него нет другого выхода, кроме как вооружиться, невзирая на то, кому принадлежит меч или щит, которым он завладевает, чтобы обеспечить себя всеми средствами защиты и безопасности. И свое собственное уважение к справедливости, которое больше не приносит пользы его личной безопасности или безопасности других лиц, он должен согласовать только с велениями чувства самосохранения, не обращая внимания на тех, кто больше не заслуживает его заботы и внимания»2.