Читать книгу "Основания морали"
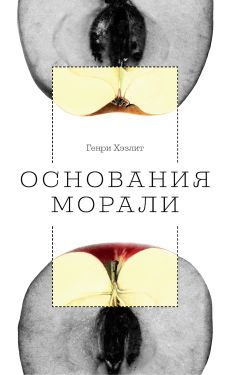
Автор книги: Генри Хэзлитт
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
2. Этот принцип у Адама Смита
Трудно переоценить важность этого принципа как в праве, так и в этике. Ниже мы увидим, что он, помимо всего прочего, единственно способен установить истину в хрестоматийных этических разногласиях, – например, в давних спорах между бентамовским утилитаризмом и кантовским формализмом, между релятивизмом и абсолютивизмом и даже в споре между «эмпирической» и «интуитивистской» этикой.
Большинство комментаторов Юма игнорируют это обстоятельство. Даже Бентам, который не только заимствовал у Юма принцип полезности, но и нарек его не слишком изящным именем «утилитаризм» (которое к нему и пристало)9, практически упустил из вида это важнейшее свойство.
Вполне естественно, нам стоит поискать следы влияния юмовского Принципа общих правил у Адама Смита, почитателя и младшего (на 12 лет) друга Юма, а также – по крайней мере в некоторых аспектах – его ученика. (Многие мысли «Богатства народов» – о торговле, деньгах, проценте, торговом балансе и свободе торговли, налогах и государственном кредите – предвосхищены в «Эссе литературных, моральных и политических» Юма, опубликованных тридцатью годами ранее.) И мы действительно обнаруживаем, что Адам Смит включил Принцип общих правил в «Теорию нравственных чувств» (1759), о чем, в частности, свидетельствует часть III, главы IV и V: «Постоянные наблюдения над чужими поступками открывают нам некоторые общие правила того, что должно и прилично делать, и того, чего следует избегать…10 Наше уважение к общим правилам поведения и есть, собственно, так называемое чувство долга. Это весьма важный закон для жизни человеческой: только он один и может управлять действиями всей массы людей…11 Без такого священного уважения к общим правилам не было бы возможности рассчитывать ни на чье поведение. Возможность эта составляет существенное различие между человеком нравственным и честным и человеком безнравственным и бесчестным. Один постоянно и неуклонно руководствуется этими правилами и всю жизнь поступает одинаковым образом; другой поступает по-всякому, смотря по тому, действует ли он под влиянием расположения духа, личной выгоды или случайных обстоятельств…12 От исполнения этих требований [справедливости, правдивости, целомудрия и добросовестности] зависит существование общества, которое вскоре распалось бы, если бы людям не внушалось уважение к правилам нравственности, имеющим столь важное значение»13.
Однако несмотря на эту довольно четкую формулировку принципа, Адам Смит делает весьма проблематичную оговорку, которая фактически с принципом не совместима. Вопреки Юму он утверждает: «Первоначально мы одобряем или порицаем какой-нибудь поступок не вследствие того, что он кажется нам согласным с некоторыми общими правилами или противоречащим им, но сами общие правила, напротив того, устанавливаются на основании опыта о том, что известного рода поступки, обусловленные известными обстоятельствами, вообще встречают одобрение или порицание»14. По мнению Смита, «человек, впервые увидевший бесчеловечное убийство», вообще не будет предаваться рефлексии: он не будет сначала умозрительно заключать, что было нарушено «одно из самых священных правил поведения», прежде чем «постичь, насколько ужасно это действие»15. Смит не без иронии замечает, что «некоторые знаменитые авторы» (Юм?) «основали свою систему нравственности на предположении, что первое понятие о добре и зле слагается в людях подобно тому, как составляется суждение о том же в судах: установлением сначала известных общих правил, а затем исследованием отношения к ним разбираемого поступка»16.
Однако Смит чрезмерно упрощает проблему и не осознает собственной непоследовательности. Если бы мы всегда сразу же понимали, какие действия правые, а какие неправые, только по той причине, что мы их видели, слышали или сами совершали, нам вообще не было бы нужно формулировать никакие общие правила и следовать каким бы то ни было правилам за исключением одного: всегда делай правое и никогда не делай неправого. Равным образом, нам не было бы нужды изучать или обсуждать этические проблемы. Мы вполне могли бы обойтись без раздумий об этике и даже вообще не касаться этой темы. Вся этика свелась бы к вышеприведенному императиву, для которого достаточно считаных слов. Даже Десяти заповедей или их сокращенного варианта было бы излишне много.
3. Повторное открытие в XX в.
Но проблема, к сожалению, сложнее. Действительно, этические суждения о некоторых действиях мы выносим почти мгновенно; кажется, что в основании этих суждений лежит инстинктивное отвращение к самому действию и что в таком случае мы не принимаем в расчет его последствия (за исключением тех, которые оно вызывает непосредственно, – например, страдание истязаемого человека или смерть убитого) и не думаем о том, что эти последствия равнозначны нарушению абстрактного общего правила. Однако на самом деле эти мгновенные суждения могут быть частично или даже главным образом основаны на факте нарушения общего правила. Мы, например, с ужасом глядим, как машина едет навстречу нам по нашей стороне дороги; такое движение само по себе не является внутренне неестественным, а опасность возникает потому, что нарушено общее правило. И в наших личных моральных суждениях мы не меньше, чем это происходит в правовой сфере, стараемся решить, по какому общему правилу мы должны действовать или под какое общее правило следует подводить данное действие. Суды должны решать, следует ли считать данное действие преднамеренным и заранее спланированным убийством, непредумышленным убийством или самозащитой. Если болезнь безнадежна, врач должен решить, чем будет его попытка подбодрить пациента, – заведомой ложью или облегчением душевных страданий. А когда мы решаем (если вообще об этом задумываемся), сказать или нет хозяйке дома, что не можем припомнить столь приятного вечера, мы должны решить, чем будут наши слова, – лжесвидетельством, лицемерием или долгом вежливости.
Проблема отнесения действия к определенному правилу может порой быть нелегкой. Ф. Г. Брэдли считал проблему настолько трудной, что даже объявил тщетной любую попытку решить ее в порядке «рефлексивной дедукции» и полагал, что это возможно только с помощью «интуитивной категоризации, которая не осознается как категоризация». «Любое действие в мире, – утверждал он, – по необходимости обладает каким-либо качеством, которое может быть подведено под благое правило; например, кражу можно счесть экономией, заботой о личных отношениях, протестом против плохих институтов, актом справедливого воздаяния и т. д.», а попытки втиснуть предмет в рамки логического рассуждения прямо ведут к безнравственности (F. Н. Bradley, Ethical Studies, рр. 196–197). Я не думаю, что эта обскурантистская теория заслуживает серьезного обсуждения. Если довести ее до логического конца, она будет означать полное запрещение любой этической рефлексии, включая теорию самого Брэдли. Решать, как классифицировать то или иное действие, наши суды и судьи вынуждены тысячи раз в день, – и не на почве «интуитивной категоризации», а на основе рационального суждения, которое будет выше нравственного инстинкта. В этике эта проблема возникает, возможно, не столь часто, – но если возникает, то именно потому, что наши «интуитивные категоризации» вступают в противоречие друг с другом.
Необходимость соблюдать неизменные правила совершенно очевидна. Даже уточнения правил должны делаться по общим правилам. «Исключение» из правила не должно быть внесистемным: оно должно быть таким, чтобы его тоже можно было сформулировать как правило, способное стать частью общего правила, способное быть в него включенным. Даже здесь, если говорить кратко, мы должны руководствоваться соображениями общности, предсказуемости, определенности, а также соображением оправданности разумных ожиданий.
Величайший принцип, который открыл и сформулировал Юм, гласит: поведение следует оценивать по его «полезности», т. е. по его последствиям, по его способности приносить счастье и благополучие; но оценке подлежат не конкретные действия, а общие правила действия. С достаточным основанием предвидеть можно лишь долгосрочные последствия следования этим правилам, но не последствия конкретных действий. Вот как выражает эту мысль Ф. Хайек: «Утверждение, что обоснованием всякого отдельного положения закона должна быть его полезность… само по себе более или менее верно. Но, вообще говоря, в таком обосновании нуждается только правило в целом, а не каждый случай его применения. Идея, что каждый правовой или моральный конфликт должен разрешаться так, как счел бы наиболее целесообразным некто, обладающий способностью охватить все последствия этого решения, означает отрицание необходимости каких-либо правил. “Только общество всеведущих индивидов могло бы дать каждому полную свободу взвешивать каждое конкретное действие на общем утилитаристском основании”. Такой “крайний” утилитаризм ведет к абсурду; а потому только так называемый «ограниченный» утилитаризм имеет хоть какое-то отношение к нашей проблеме. Однако очень немногие идеи оказали более разрушительное влияние на уважение к правилам закона и морали, чем убеждение, что правило является обязывающим, только если может быть доказан благотворный результат его соблюдения в конкретном случае»17.
Принцип действия в соответствии с общими правилами имеет в высшей степени любопытную историю в этике. Он скрыто присутствует в религиозной этике (Десять заповедей), содержится в «интуитивистской» этике и в этике «здравого смысла» – в понятиях «человек принципа» и «человек чести»; он четко сформулирован первым утилистом, Юмом. Но потом он совершенно исчезает у классического утилитариста Бентама и лишь спорадически мелькает у Милля. Наконец, в самое последнее время, практически в течение прошлого десятилетия, этот принцип был вновь обнаружен рядом авторов18. Они назвали его утилитаризмом правила, а теории Бентама и Милля – утилитаризмом действия. Первый термин я считаю очень удачным (хотя сам предпочел бы менее громоздкий утилитизм правила), а вот второй кажется мне не столь подходящим. В обеих схемах оценке подлежат вероятные последствия действия, но в первой схеме это вероятные последствия действия как частного случая применения правила, а во второй – вероятные последствия действия, рассмотренного изолированно, в отрыве от любого общего правила. Эту вторую схему, пожалуй, лучше было бы назвать ad hoc-утилитизмом, утилитизмом конкретного случая.
Так или иначе, наши моральные суждения порой будут сильно разниться в зависимости от того, какие критерии мы применим. Критерии непосредственного утилитизма, или ad hoc-утилитизма, отнюдь не в каждом случае будут менее требовательными, чем критерии утилитизма правила. В самом деле, потребовать от человека каждым своим действием совершать «нечто, доставляющее больше человеческого счастья, чем любое другое действие», значит возложить на него не только невыполнимую, но и тягостную задачу. Ибо ни один человек не способен представить все последствия конкретного действия, если оно рассматривается совершенно изолированно. Однако он не лишен возможности представить вероятные последствия соблюдения общепринятого правила. Дело в том, что эти последствия выявляются всей совокупностью человеческого опыта. Наши традиционные моральные правила сформировались на основе предшествующего человеческого опыта. Если же от человека требуется просто следовать некоему установленному правилу, возлагаемое на него нравственное бремя не будет непосильным. Не будут непереносимыми и угрызения совести, которые он может испытать, если его действие не принесет наиболее благотворных результатов. Ведь не самое малое преимущество действий сообразно общепринятым моральным правилам состоит в том, что наши действия предсказуемы для других людей, а их действия предсказуемы для нас. Это позволяет нам лучше сотрудничать друг с другом и помогать друг другу в достижении наших индивидуальных целей.
При оценке действия только по стандартам ad hoc-утилитизма мы ставим вопрос так: «К чему приведет это действие, если рассматривать его как изолированный акт, как данное единичное действие, и не принимать во внимание его последствия как прецедента или как примера для других людей?». Но в таком случае мы намеренно игнорируем, возможно, самые важные последствия.
Чтобы перейти к другим аспектам применения принципа действия согласно общим правилам, нам нужно рассмотреть весь комплекс отношений между этикой и правом.
Глава 9
Этика и право
1. Естественное право
В первобытных обществах религия, мораль, право, обычаи и правила поведения существовали в виде слитного целого1. Границы между ними были смутны, расплывчаты и лишь постепенно приобретали более четкие очертания. Многие поколения на теологическом основании базировалась не только этика, но и юриспруденция: последняя считалась частью теологии на протяжении двух столетий перед Реформацией.
Превосходной иллюстрацией слияния и размежевания сфер этики, права и теологии является развитие теории естественного права. Древние греки сделали представление о естественно-правильном действии теоретическим моральным основанием права. Древнеримские юристы преобразовали естественно-правильное во всеобщее естественное право и попытались определить и сформулировать содержание этого естественного права. В Средние века под естественное право был подведен теологический фундамент. В XVII–XVIII вв. этот теологический фундамент был полностью или частично заменен рациональным основанием. А в конце XVIII в. Кант попытался заменить рациональное основание метафизическим2.
Но что представляло собой естественное право, и как возникло это понятие? В руках римских юристов греческие понятия правильного по природе и правильного по обычаю или установлению превратились в критерий, позволявший отличать закон по природе от закона по обычаю или по декрету власти. Нормы, основанные на разуме, стали называться природным (естественным) законом, а правильное или справедливое по природе – естественным правом. Так возникло отождествление правового и нравственного, характерное с тех самых пор для сторонников теории естественного права3.
В Средние века концепцию естественного права отождествили с божественным правом. Естественное право непосредственно коренилось в человеческом разуме, но в конечном счете исходило от Бога. Согласно Фоме Аквинскому, это было рефлексией «разума над божественной мудростью, управляющей всем мирозданием». Более поздние мыслители не видели никакого противоречия между естественным правом и божественным правом. Например, с точки зрения Гроция, оба они имеют основу в вечном разуме и воле Бога, который желает только разумного. Того же мнения придерживался Блэкстон, а также некоторые американские судьи – например, член Верховного суда Джеймс Уилсон, сообщивший нам, что Бог «руководствуется великой необходимостью не противоречить Себе»4.
Понятие естественного права послужило источником как большой путаницы, так и большого прогресса в области права. Путаница проистекала из неудачного названия. Если природное <естественное> право (natural law) отождествляется с «законами природы» («laws of nature»), напрашивается вывод, что человеческий разум не участвует в его формировании или создании. Оно прежде разума, и задача последнего лишь в том, чтобы его обнаружить. Но на деле многие представители теории естественного права совершенно исключают участие разума. Он не нужен. Что такое естественное право, мы знаем (или, по крайней мере, они знают) благодаря непосредственной интуиции.
У Бентама такая позиция вызывала возмущение. Теория естественного права, утверждал он, это просто одно из «ухищрений избежать обязанности обращаться к какому-то внешнему стандарту и заставить читателя согласиться, что мнение автора есть уже достаточный резон само по себе… Множество людей беспрестанно говорят о законе природы, или естественном законе, и затем сообщают вам свои мнения о том, что хорошо и что плохо, и вы должны разуметь, что эти мнения суть именно главы и отделы природы… Самые честные и открытые из них – это те, которые говорят: «“Я из числа избранных, Бог сам сообщает избранным, что есть хорошо, и делает это так, что они всегда стремятся действовать соответственно этому; они не только знают это, но и практикуют это. Следовательно, если кто-либо захочет узнать, что есть хорошо и что есть плохо, ему не нужно делать ничего иного, кроме как прийти ко мне”»5.
Однако если мы будем считать «естественное право» просто неточным названием Идеального закона, Закона-каким-он-должен-быть, и если, кроме того, нам хватит смирения или научной осторожности признать, что содержание этого закона не может быть известно нам автоматически или интуитивно, а может быть выявлено и сформулировано лишь с помощью опыта и разума, и что мы можем постоянно совершенствовать наши представления, но никогда не приведем их в абсолютно законченный и совершенный вид, – итак, если мы соблюдем перечисленные условия, тогда у нас будет работоспособное средство для постоянного реформирования действующего права. В сущности, этим предположением молчаливо руководствовался и сам Бентам.
2. Общее право
Действующее право и «действующие» моральные нормы – это результат долгого исторического процесса. Они развивались параллельно как составные части еще не структурированного формально комплекса традиций и обычаев, в который входила и религия. Но право, как выяснилось, смогло стать светским и независимым от теологии раньше, чем этика. Оно приобрело более четкий и определенный вид. В частности, англо-американское общее право развивалось на прецедентных судебных решениях. Конкретные судьи признавали – если не явно, то молчаливо, – что правовые нормы и их применение должны быть точными, единообразными и предсказуемыми. Они старались учесть индивидуальное «существо» каждого судебного дела, но при этом понимали, что их решение по одному делу должно «согласовываться» с их же решением по другому, а решения одного суда не должны сильно отличаться от решений других судов, потому что только при этом условии судебное решение как таковое будет трудно опротестовать.
Иными словами, судьи стремились выявлять общие правила, по которым можно классифицировать и решать отдельные дела. Для этого они искали аналогии в собственных ранее принятых решениях и решениях других судов. Выступавшие в судах адвокаты обычно не отрицали существования или действенности этих общих правил. Не отрицали они и того, что приговоры нужно выносить на основании установленных прецедентов. Однако они, со своей стороны, искали и приводили такие случаи и аналогии, которыми могли подкрепить их позицию. Адвокат одной стороны мог указать, что случай его клиента аналогичен делу Y, а не делу X, и что поэтому оно подпадает под правило В, а не под правило А, а адвокат другой стороны мог доказывать, что все обстоит ровно наоборот.
Так, на основе прецедентов и заключений по аналогии формировался свод неписаных положений общего права. Конечно, поначалу главную роль играл прецедент, вне зависимости от того, какую природу он имел, рациональную или иррациональную. Но в самом уважении к прецеденту как таковому, несомненно, присутствовала немалая доля утилистской рациональности, благодаря чему применение права становилось более четким, единообразным и предсказуемым. Кроме того, элемент утилистской рациональности проявлялся и в частных судебных решениях даже в ранние периоды, а впоследствии стал еще заметнее. Хотя судья и стремился рассматривать дело «по конкретному существу», он, надо полагать, не упускал из вида не только вероятные практические последствия данного частного решения, но и вероятные практические последствия похожих решений в других случаях. Таким образом, общее право строилось и на индукции, и на дедукции: вынося решения по конкретным делам, судьи вырабатывали общие правила, т. е. правила, которые применялись к похожим случаям; а когда возникал новый случай, они искали уже существующее общее правило, на основании которого было бы правильно и справедливо вынести решение.
Тем самым судьи создавали право и применяли его. Но общее право отличалось значительной неопределенностью. Если прецеденты не совпадали, и аналогии оказывались спорными, стороны судебного дела не могли знать заранее, каким прецедентом или аналогией будет руководствоваться данный судья. И если общее правило было сформулировано нечетко или непоследовательно, никто не мог знать заранее, какое толкование правила данный судья сочтет подходящим и убедительным. Как в таких ситуациях люди могли оградить себя от случайных или произвольных решений? Как могли они заранее знать, будут ли правомерными их действия, будут ли считаться действительными контракты и соглашения, которые они заключают? Иными словами, возникла потребность в более четком писаном праве.
Но право в целом, право общее и право статутное, было стабильно растущей и внутренне все более последовательной совокупностью общих правил и даже общих правил нахождения общего правила, под которое подпадал частный случай. Стремление сделать эти общие правила более точными и непротиворечивыми, найти для них утилитаристскую основу или переформулировать их на этой основе привело к возникновению философии права и юриспруденции как науки.
Теоретики права примерно поровну делились на две школы, аналитическую и философскую. «Аналитическая юриспруденция полностью порвала с философией и этикой… Идеальной моделью для аналитического юриста была логически последовательная и связная система правовых предписаний… Основываясь на строго формальном разделении властей, юрист-аналитик утверждал, что право и нравственность – это совершенно разные, никак не связанные между собой области, и что он занимается только правом»6. С другой стороны, «на протяжении XIX в. философствующие юристы уделяли много внимания отношению права к нравственности, отношению юриспруденции к этике»7.
Но тут следует отметить один важный нюанс. Если эти философствующие юристы, как правило, постоянно исследовали связи права и этики, старались привести нормы права в соответствие с этическими требованиями и выяснить, что юриспруденция может почерпнуть из этики, то теоретики этики вообще не думали о том, что они могут почерпнуть из юриспруденции. Юристы исходили из молчаливой презумпции, что если право было создано и разработано человеком и человеком же должно совершенствоваться, то этика создана Богом и известна человеку интуитивно. Большинство теоретиков этики исходили из такого же предположения. Даже представители этического эволюционизма и утилитаризма не задавались вопросом, чем может обогатить их изучение права и юриспруденции.
Удивительнее всего, что это относится даже к Бентаму, чей огромный вклад как в юриспруденцию, так и в этику не подлежит сомнению и чей самый известный труд носит многозначительное название «Введение в принципы морали и законодательства». Бентам тоже интересовался только тем, что законодательство должно заимствовать из морали, или, скорее, тем, что законодательство и мораль должны взять из Принципа полезности, или Принципа наибольшего счастья. Он совершенно не думал о величайшем уроке, который этическая теория должна усвоить от юриспруденции и права, – о важности и необходимости общих правил.
И все же Бентам оставил нам проницательное сравнение: «Законодательство есть круг, имеющий один центр с этикой, но меньшую окружность»8. АЕллинек в 1878 г. тоже подчинил право морали, назвав право этическим минимумом. По его мнению, это только часть морали, которая занимается необходимыми условиями общественного устройства (порядка). Оставшуюся же часть морали, желательную, но не безусловно необходимую, он назвал «этической роскошью»9.









































