Текст книги "Севастополист"
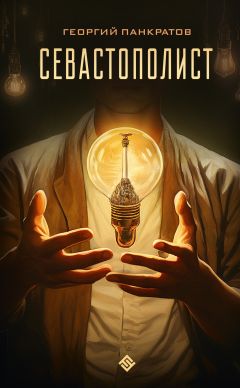
Автор книги: Георгий Панкратов
Жанр: Приключения: прочее, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Георгий Панкратов
Севастополист
© Георгий Панкратов, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2023
Художественное оформление Василия Половцева
* * *
Посвящаю эту книгу маме и благодарю Абдулаеву Ю. за помощь и терпение в трудные дни
Пролог
Имя мое Фиолент, и однажды я понял, как сильно устал от жизни. Нет, не от жизни вообще. А от такой, какая была у меня там, внизу. Какая была у всех нас.
Вы не слышали такого имени – Фиолент? Да что говорить, оно и у нас было редким: с трудом вспомню хотя бы пару людей с одинаковыми именами. Было не принято? Или фантазии хоть отбавляй? Нет, все гораздо проще. Теперь-то и я знаю, что все – в принципе все – проще. Ну а тогда…
Ладно, закончим с именем, чтобы не мешать рассказу. Не помню, кто мне его дал. Когда я вышел в мир, мои недалекие отправились в Кладезь – так делали у нас все. Эта служба называлась слишком дико, чтобы произносить вслух: что-то вроде «Кладезь вновь воссозданных и восстановленных вариаций предписания природы человеческой», в общем, чушь на постном масле. Недалекими у нас называли всех, кто жил под одной крышей; в моем случае это были люди, по чьей воле и чьими стараниями я вышел в мир – мама с папой, но многие включали в этот круг и тех, благодаря кому вышли в мир сами их недалекие, и даже соседей из ближайших дворов. Едва среди них появлялось прибавление, как начинались первые хлопоты: дойти до Кладезя, оставить запрос. Хлопоты приятные, волнительные: никогда ведь не знаешь, что этот Кладезь выдаст.
Моим маме и папе выдали официальный конверт, вскрыв который, они и увидели имя. Мое имя. Кто дал – они и не помнили, а я никогда не знал: почему Фиолент, почему не другое? У нас ведь много имен, и никто не знает, что все они означают. Это потом мне рассказали, что в далекой древности были другие – ветхие, как мы их называли – имена, которые имели смысл: «гордый», «статный», «смелый»… У нас же, внизу, все просто: Фиолент. И это означает Фиолент, ничего больше.
Одно знаю точно: будь у меня ветхое имя, оно точно не означало бы «скромный». Скорее уж «сильный» – все, кто со мной водился, знают, а кто не водился – так поэтому и не водились. Ну и «красивый» – так девчонки говорят, а им-то, конечно, виднее. Я любил садиться в свой большой автомобиль с открытым верхом и катать их. Красавицам это нравилось, да и некрасавицам тоже. Некрасавица в нашей компании была только одна, и это точно не моя машина! Все любили ее, и никто не завидовал мне – это потом я узнал, что такое зависть. Позже. И выше.
Такая машина не то чтобы считалась у нас редкостью – при желании любой бы мог владеть ей. Я точно знаю, что в городе есть места, где стоят такие же. Но никто не хотел, кроме нас, нескольких отщепенцев. Там, внизу, все живут в своих двухэтажках – домиках, которыми застроен город. Рождаются и отмирают в них, а в промежутках между этими двумя событиями выращивают что-то во дворах. И вечерами сидят на складных стульчиках лицом к небу, любуются им в окружении кустов и цветов под бледно-синим полотном неба, нависшего над нашим городом. Так живут все, и наши молодые жили так, и молодые с жильцой, и пожившие, и пережившие. И я, бывало, полол наши грядки, пока не хотелось упасть без сил. Любовался бледными цветами, проросшими на тонких стебельках из рыхлой, сухой земли – они тянулись к щекам моим, к носу, словно ластившаяся кошка. Я любил их, лелеял и не жалел для них сил, как любил все плоды труда нашего – меня и людей, подаривших мне эту жизнь, этот город. Все было невероятно вкусно – все эти овощи, фрукты, выросшие из косточки, разросшиеся из маленького неокрепшего стебелька до сильного ствола, стремящегося ввысь, под синее полотно.
Вот только одного я не любил – смотреть в него, полотно это. В чем было удовольствие для города – застыть, замолчать, уставив взгляд ввысь? Я жил в горизонтальном мире, смотрел вперед и по сторонам, хотя и знал, что впереди лишь линия возврата, а справа, слева – бесконечные дворы, прямые улицы, ровные квадратные перекрестки одинаковых жизней, одинаковых домов, одинаковых небосмотров. И лишь где-то там, далеко за ними – высокие обрывы и бездонное, равномерно колышущееся, как диафрагма спящего, море.
Впрочем, это пешком – далеко, а на машине… Мы знали о городе, где родились, все – впрочем, все, ну, или почти все, что можно о нем знать, теперь известно и вам. Огромный, огромный город, словно разделенный спущенным сверху гигантским зеркалом на две равные и одинаковые… нет, почти одинаковые половины. Если представить – а кто, кроме нас, фантазеров, еще мог такое выдумать? – что город вдруг станет возможно согнуть по разделительной линии, его две части совпадут друг с другом, накроют друг друга, сложившись дом к дому, дворик к дворику, маленькая улочка к точно такой же маленькой улочке, а линия обрыва – к линии обрыва: что выдуманная, что настоящая, возле которой мы так любили стоять, глядя в даль. Или в то, что ею казалось.
Но пожелай мы назвать ту самую линию, по которой столь просто «сложили» город, нам бы не пришлось делать этого, ведь имя уже было, и, подозреваю, происходило оно все из того же Кладезя – и вправду, кто еще мог придумать такое: Широкоморское шоссе? Центральная ось, магистраль города. Приди он в движение – продолжим фантазию – наверняка бы вращался вокруг этой оси, как мясо на шампуре. О, это было еще одним излюбленным развлечением наших уютных зеленых дворов!
Мы просто знали, что шоссе Широкоморское – и все. Но почему шоссе? Да и вообще, что это слово значило? Ведь других шоссе в нашем городе не было, а бесчисленным улочкам, отходившим от него, никто не давал названий. По ширине они были такими же, что заставляло усомниться в справедливости первой части названия, на них стояли – и, я уверен, стоят – одинаковые дома.
Но что впечатляло – так это его протяженность. Одной стороной Широкоморское шоссе, оправдывая вторую часть своего названия, упиралось в море. Ведь город омывался морем с двух сторон, как я и говорил, и в точке, где линии обрыва и воды должны были слиться, шоссе вдруг оборачивалось лестницей, сужавшейся ближе к воде. Спустившись по ней, можно было попасть на длинный мол и долго идти по узенькой тропке, обложенной по краям валунами, между двух морей. На самом-то деле море, конечно, одно, но как Широкоморское шоссе режет надвое мой город, так и узкий бетонный мол вспарывает водную гладь. Смотреть налево, когда идешь к маяку, было приятней – то было море для отдыха; в нем купались. Его и называли так: Левое море, считалось, что город, словно стрела, устремляется в море, хотя, если смотреть по карте, мол с маяком находились внизу, а значит, Левое море должно было быть Правым… Когда я говорил об этом нашим горожанам, те лишь пожимали плечами, особенно пожившие и пережившие. «Какая разница, – говорили они мне, – где в самом деле право или лево, когда так хорошо и спокойно жить?» Я неуверенно кивал, пытаясь согласиться, хотя и не понимал, что это значит – жить неспокойно. Разве жил когда-нибудь наш город неспокойно?
– А в Башне? – спрашивал я вскоре после того, как появился. – В Башне живут неспокойно?
– В Башню приглашают лучших. Только они знают, как там живут. Но они не расскажут. Потому что мы их больше не увидим.
На этом разговор о Башне прекращался – никто не любил говорить о ней, да и что обсуждать то, о чем никто не знает. Вот где точно царило спокойствие, и о том в городе знали все, – так это в Правом море. Если Левое море предназначалось для обычного отдыха, Правое было для отдыха вечного. Пожившие и пережившие, закрыв в последний раз усталые глаза, отправлялись прямиком туда – летели с Обрыва прощания, под крики напутствия и благодарности. Прощания сопровождались особым, траурным небосмотром, длившимся столь долго, что я не выдерживал и убегал. Даже выращивать цветы и вспахивать огороды переставали, и говорить друг с другом – тоже. Останавливалось все. Я уходил к Левому морю, чтобы скорее забыть о Правом. Я еще только начинал жить, и мне не хотелось думать о том, что когда-нибудь… Да и теперь мне не хочется думать об этом.
В известном смысле мол был границей между живым и мертвым, и, идя по нему, можно было размышлять о бренности людей, о приходящих и уходящих, накатывающихся, словно волны, наших жизнях… Но никто не думал. Все знали: станешь пережившим – и тогда поймешь. Пережившие всегда говорили: «Уходить не страшно… Меня ждет море, а я уже жду его…» – вот что они говорили. Они уставали от жизни и закрывали глаза – отмирали, как говорили у нас. А у вас говорят так? Кто знал, что я устану раньше – гораздо раньше, чем стану пожившим, не говоря уже пережившим… А отмереть, не достигнув последней стадии, как вы, наверное, знаете, невозможно. Что оставалось? Только веселиться.
I. Город
Вообще, пройти по молу между морями можно хоть до самого конца, вот только смысл? Вряд ли это путешествие открыло бы и без того нелюбознательным нашим людям что-то новое и удивительное. Все знали, что рано ли, поздно ли ты упрешься в высокий, в три человеческих роста, забор, за которым возвышается гигантская глыба каменного маяка. А дальше можно стучать в проржавевшую дверь, кидать в нее камни, хоть биться лбом – никто тебе не откроет. Смотритель – для того, чтобы смотреть, а не вести беседы с посторонними. Да, в маяке живет cмотритель. Разве я еще не говорил?
Что можно рассказать о человеке, которого никто и никогда не видел – только тень, силуэт в его высоком окне, словно парящем над морем и городом? Но, справедливости ради, мало кому была интересна эта загадка. Город жил своей собственной жизнью, утопая в зелени дворов, трудах, коротких небосмотрах. Какое ему дело до смотрителя, живущего своей? А у нашей веселой компашки было полно более интересных занятий, чем караулить человека, выбравшего себе одинокую, тихую жизнь. Быть может, он и выходил, в каком-нибудь сером плаще, с седой бородой до земли – почему-то мне всегда казалось, что это должен быть человек переживший, – медленно шел по мокрому молу, бурча себе что-то под нос, поднимался по лестнице, ступал на Широкоморку, щурился… Где-то же он должен добывать себе еду? Вряд ли там, за забором, у подножия маяка росли огурцы и капуста, да и вообще наши городские дела совсем не вязались в наших головах с его отшельническим образом… А это значит, что смотритель выходил в город. Шел по тем же, что и мы, улицам, проходил мимо наших калиток, ездил в наших троллейбусах, держась за те же поручни, сходя на тех же остановках. Да, о смотрителе нечего и говорить… Так думал я внизу. Не сомневался.
Иногда я пытался представить, глядя на далекую вышку маяка (ее верхушка была видна отовсюду, почти из любой точки города, из любого двора), что он видит, куда смотрит, за чем наблюдает? На первый взгляд, все просто: ведь маяк стоит на самом краю мола, значит, в море? Значит. Но не в море. В городе были причалы: навесные лестницы с левого обрыва вели к морю, и все, кто хотел, могли взять лодочку и прокатиться по воде. Доплывали и до мола, сбавляли ход, осторожно шли к маяку. И возле него самого уже зажмуривались, словно бы никто до них не бывал здесь, не пытался обойти маяк. Но, открыв глаза, они видели привычную картину: забор, окружавший маяк, удлинялся, вытягивался, и за одним маяком появлялся, словно выскочив из-под земли (или из воды, все же море!), новый, точно такой же маяк. Никто не успевал опомниться, как обнаруживал вдруг, что это не справа, а уже слева мол – вместе с маяком, забором и валунами, и не позади, а впереди по курсу огромный наш город, белые каменные ступени к Широкоморскому шоссе. Никто не успевал понять, уловить миг, когда же она была пройдена – линия возврата.
Все объяснялось просто: уловить этот миг невозможно. Все знали про линию вокруг города – это была граница, возвращавшая нас каждый раз домой, словно блудных сыновей, сбившихся с правильного пути. Люди жили вдали от линии – с трех сторон она проходила по морю, и только с одной – на севере – по суше. До северной границы не ходили пешком – далеко, да и незачем. Возле нее не строились, да в нашем городе не строились вообще: все жили сообща со своими недалекими, в своих зеленых дворах. Возле северной границы и стояла та самая Башня.
Ходили слухи, что смотритель в ней бывал. И – единственный из всех живущих – вновь возвращался в город. Чтобы спрятаться в своей крепости. Отмирал ли смотритель? – что за вопрос, в конце концов, ведь все люди отмирают – и кто сменял его? Откуда этот «кто-то» появлялся? Такие вопросы были слишком сложны в нашем простом и, в общем-то, добром городе и редко кого занимали. До поры меня интересовало лишь одно: что он видит там, на линии разрыва, бесконечно всматриваясь вдаль? Такой же маяк напротив, только пустой? Или море, как все мы, – бескрайнее море за маяком, которое не переплыть, не изведать? Я долго смотрел вдаль, пытался представить. И не представлял.
Среди тех, кому вообще было дело до смотрителя, ходили слухи, что он видит то, что за линией. Те, кто такое говорил и в это верил, были все как один похожи друг на друга: нервные, худые, они ходили в старых одеждах и обгрызали ногти, постоянно озирались по сторонам, избегали транспорта, да и вообще не появлялись лишний раз на улицах. В хозяйстве от таких, как правило, тоже толку было немного. Эти люди твердили, что за линией возврата есть некий другой мир, в который нас не пускают и в который нам не особо-то надо… «Но сам факт», – говорили они, повышая на этих словах голос. Говорили о том, что секретные тоннели под землей ведут в другие города, что мир не оканчивается Севастополем… Мне было жаль этих людей. Им стоило бы следить за собою, тогда, возможно, и мысли пришли бы в порядок. Один из таких жил по соседству с нами, через два дома. «Смотритель видит, что там дальше», – бормотал он. «Конспиронавт хренов», – отмахивались мои недалекие.
Однажды он исчез, и я спросил недалеких, что с ним. Ответ папы меня удивил.
– Его пригласили в Башню.
– Но туда же зовут только лучших! – помню, воскликнул я. – Самых достойных.
– Что ж, – пожал плечами папа. – Значит, и среди конспиронавтов такие есть.
Признаться, моим недалеким не было дела до Башни – как и всему городу в целом. Никто не стремился быть приглашенным и не завидовал им. Башня была данностью, о которой каждый узнавал, приходя в этот мир, и которую уносил с собой, падая с обрыва в море мертвых. Башня существовала в абсолютном, непоколебимом измерении, в отличие от всех нас, горожан, появлявшихся и исчезавших. Такой же данностью был и маяк смотрителя. Мне казалось, что это просто красиво: в городе есть маяк, а в маяке – смотритель. Ведь город начинался здесь. Как световой пучок из одной точки, вырывался он в реальность, утверждал себя, раскидывался во все стороны.
– А вдруг это Точка сборки? – сказал я однажды друзьям. – Весь город собирается здесь, весь наш мир стремится к ней, вливается в нее.
Мы сидели на молу и кидали камешки в воду, соревнуясь в скорости. Справа от меня полулежала, маня своим прекрасным телом, красавица Евпатория, и ветер трепал ее золотистые волосы. Крепыш Инкерман стоял за моей спиной и замахивался.
– Конечно, стоя ты меня уделаешь, – заметил я. – А ты попробуй сидя.
Помню, как он увлекся тогда – даже не стал кидать камень, присел рядом, взволнованно заговорил:
– Я, кажется, понял тебя. Это как выключить лампу в погребе, да? Ведь свет – он не принадлежит себе, его хозяйка – лампа. Она как бы выпускает его погулять. Ну, как тебя в детстве мама.
Мама была главной из всех недалеких, сколько бы их ни было; ближе к ней стоял папа, а уже вокруг них – у кого были – все остальные. Со словом мамы не спорили, а если и пытались, это было бесполезно: не пустила – значит, не пустила. Разговор с мамой – очень короткий, даже у папы. Так уж у нас было принято.
– Мальчики, вы такие глупости говорите, – развернулась к нам Евпатория. – Но такие красивые глупости…
– Была бы здесь Фе, она б поддержала, – заметил я.
– Была бы здесь Фе, ты говорил бы другие глупости, – рассмеялась девушка.
– Тори, послушай. – Инкер напрягся, словно боясь потерять мысль. Или, вернее, свет своей мысли.
– Вся во внимании, – Евпатория расплылась в улыбке.
– И вот этот свет, который заливает черное пространство погреба, лампа, выключаясь, как бы зовет домой. Она собирает его – свет ведь не просто исчезает, он собирается обратно, в лампу.
– Ну, примерно, – кивнул я. – Так и маяк, может быть, собирает город. И однажды мы все соберемся в точку – в эту исходную точку.
– Но зачем? – удивилась девушка.
– Мы с Фи думаем, что так был создан наш город, – сказал Инкер. – Он вырвался из маяка, словно пучок света из лампы. Но ведь любая лампа гаснет, и тогда…
Знали ли мы, что еще не раз вспомним тот разговор о лампах? Что это совершенно из ниоткуда взявшееся в наших головах сравнение получит удивительное и невероятное продолжение? Ну конечно же нет.
– Никто не знает, как был создан город, – возразила Евпатория. – Но Точка сборки – это, пожалуй, красиво. Пусто, но красиво. А я – за красоту.
– Согласен, – улыбнулся Инкер и, присев, попытался обнять девушку. – Тем более за такую, как твоя.
Я вздохнул, наблюдая за ним. Инкерману здесь ничего не светило – уж я-то знал точно, что он совсем не в ее вкусе. Евпатория отстранилась и нахмурилась.
– Давайте так и будем говорить теперь: Точка сборки, – предложил я. На самом деле просто хотелось прервать неловкое молчание. – Ну, в нашей компании.
– Точно! – подхватил Инкерман. – И пусть все гадают, что это. Мама, я на Точку сборки… Точку сборки? Сынок, а это не опасно? – Он захохотал.
Помню, отсмеявшись, я спросил тогда:
– Но если маяк – Точка сборки, что же тогда делает смотритель?
– Как что? – удивился Инкер. – Собирает.
– Тогда его правильнее называть собирателем, а не смотрителем. И что будет, если он вдруг пожелает разобрать город?
Инкерман долго смотрел в сторону маяка, сложив на груди руки. А потом не выдержал и прыснул со смеху.
– Нет, – сказал он тогда. – Так мы до такого договоримся… Ну его нафиг, ребят…
Я и теперь смогу рассказать о смотрителе совсем немного. Все, что стоит о нем узнать, умещается в нескольких словах. Скажи кто-нибудь их мне тому, беззаботно прожигавшему жизнь, я бы просто не понял. Не поймете и вы, так что я их скажу позже. Да и не главный он в этом рассказе, смотритель. Главный в этом рассказе – я. Так уж вышло, я этого не хотел.
Странно все это объяснять – никому внизу и в голову бы не пришла такая мысль: рассказывать о городе, в котором ты живешь. Зачем? Ведь все и так знают – и о городе, и о городской жизни. Уже в ласпях, куда водили нас, едва научившихся говорить, недалекие, чтобы мы не мешали их тяжкой работе, нам объясняли, что нет городов, кроме нашего. Об этом говорили нам, только вышедшим в мир, глубоко пережившие, не способные уже к чему-то большему, кроме как присматривать за нами, севастопольцы. Поживее было в артеках – туда мы поступали, покрупнев и окрепнув в ласпях: там пожившие и люди с жильцой учили нас жизни и знаниям, рассказывали о былом нашего мира, но мы уже и сами начинали соображать, собственными головами. К тому же в артеках мы не только кучковались в тесных комнатах, внимая скучным речам, но иногда отправлялись гурьбой к самым важным местам города. Линии возврата со всех сторон Севастополя убеждали в том, что наш город единственный, крепче любых разговоров. Да и вправду, о чем говорить еще, когда несколько раз пройдешь линию туда и обратно: все ведь понятно, все очевидно.
Но после всего, что случилось со мной и о чем будет эта история, сложно молчать. Я знаю теперь: есть что-то еще. Что за место, куда я попал, мне лишь предстоит выяснить. Но сначала нужно ответить: откуда я? У вас ведь всегда так спрашивают… Я бы вернулся в свой город, но дороги туда нет, или просто о ней не знаю; скучаю по своему городу, и с той самой поры, как меня разлучили с ним, нет слаще слова, чем его имя, означавшее с тех самых пор, как я впервые открыл глаза, мир.
Я из Севастополя. Единственного города в мире.
Пустырь
В компании нас было пятеро. Нет, как это со всеми бывает, конечно, к нам прибивались и новые люди – знакомились с кем-то, общались. Но почему-то их хватало ненадолго – возвращались к своим огородам, придумывали что-то: мол, потом, заняты; а сами вновь садились на крыльце смотреть в бесконечное небо. Я не осуждал их – у каждого свой интерес. Но вот они… те, кто не желал ничего, кроме тихой жизни, не тревожил себя впечатлениями, никогда не бывал у моря и не гулял возле Башни, не проходил возвратную линию, не катался, в конце концов, ни на чем, кроме троллейбусов и скучной нашей ветки метрополитена, протянутой в точности под Широкоморским шоссе… У них и не было мысли о том, что они теряют что-то в жизни – или попросту не видят. Многие смотрели на нас косо, когда мы возвращались уставшие с прогулки – небольшого городского приключения, заряженные друг другом, неизвестными им впечатлениями, пропитанные воздухом городских границ…
– Опять катались? – слышал я усталый, но беззлобный вопрос что от своих недалеких, что от соседей и знакомых. Бывало, я им рассказывал, спеша, давясь от удовольствия, жестикулируя, о том, как прекрасен наш город в его отдаленных краях, о маяке и лодках, о том, как чист и опьяняющ воздух, когда ты мчишь на скорости к краю света, и мелькают чужие дома, подземные переходы, светофоры, а ты летишь… Как замечательны друзья мои, как трепетно и жадно впитывают они данный нам всем общий мир, как любят его и друг друга… Но случилось так, что усталость поселилась и во мне. Я смотрел в их глаза и понимал, какой их устроит ответ: молчаливое согласие, кивок.
– Ну типа того, – произносил я.
– Когда же вы успокоитесь? – говорили каждому из нас. – Что же вам не сидится, в небо не смотрится?
Мы были другими и понимали это, но почему так получилось, я никогда не знал. Нас нашлось немного на этот огромный город, мы старались держаться вместе. Мы не были против кого-то, мы были отдельно. Я знал, что где-то есть еще компании – такие же, как мы. Но мы не объединялись, ведь мы хотели лишь дружить и наслаждаться жизнью, а не давать кому-то отпор, не доказывать что-то.
«Без жильцы в голове, что с них взять», – иногда говорили про нас. Но мне не казалось, что дело в этом. Да, в таких компашках типа нашей собирались молодые. Ну, иногда молодые с жильцой; людей других возрастов, столь же беспечных – хотя почему беспечных? просто любивших беспечный отдых, – я, откровенно говоря, не встречал. Но ведь и молодые редко понимали нас. Труд во дворах и небосмотры – все, что у них было. И все, что им было нужно. Ну и пожарить мясца иногда: свинок да курочек разводило у нас большинство, если не весь город. Они были и у нас, конечно. Но я, например, больше любил цветы.
Мне вообще хотелось романтики. Самой простой: прокатиться до конца шоссе или съездить к морю, полежать, искупнуться, доплыть до линии возврата на спор: кто первый. Вообще, я быстрее всех плавал – мы все умели с детства, но я наловчился: хотелось быть первым всегда, в любом деле. Мне было важно побеждать. В чем я еще мог побеждать? Помню, это было так смешно всегда: плывешь, и ребята сзади тебя – пыхтят, догоняют – и вдруг начинают плыть навстречу… Ты оборачиваешься – а сзади никого. Все, можно расслабиться: линия пройдена, ты победил, парень!
То ли дело – на шоссе. Несешься по бесконечной дороге, и где-то над тобою небо, а ты счастлив оттого, что ты – это ты, что все это есть, что рядом с тобой друзья, что жизнь – жизнь торжествует в каждом глотке воздуха, в каждом взмахе руки… И вот кончаются дома, ты пролетаешь спуск в последнюю станцию метро – а вдоль шоссе они чуть ли не на каждом перекрестке – и гигантская растяжка над дорогой:
ЗАКРЫТЫЙ ГОРОД СЕВАСТОПОЛЬ
остается за спиной. Я никогда не понимал, почему наш город закрытый? Город-гигант, раскинувшийся гордо на ровной и плоской земле. Закрытый от чего? Быть может, от таких, как мы? А может быть, от понимания – какой он есть на самом деле, зачем он… И зачем в нем мы все. Троллейбусные провода сворачивали в обе стороны от дороги, чтоб расползаться, разветвляться по одинаковым улочкам, связывать своей сетью одинаковые дома и… нет, не одинаковые, конечно, но столь похожие жизни.
Закрытый город… Я задумался об этом слишком поздно. И вот теперь – мой город закрыт для меня.
В одну из последних наших поездок перед тем, как привычная жизнь вдруг стала совсем другой… Да что там в одну из последних – в последнюю: я же ведь помню, это с нее началось все. Нам захотелось простора, и мы укатили на север. В тех краях уже не было города – хотя это все же был он; там росли низкие сухие растения с выцветшими цветками и колючками: им не хватало влаги. Порой мы чувствовали себя на улицах Севастополя, в собственных дворах, погруженные в привычные свои будни, так же, как эти кусты. За ними никто не следил, они росли дико и – вот парадокс! – могли бы на этих полях разрастись, захватить их, окрепнуть, устроив здесь свое царство, но вместо этого лишь вяло колыхались над землей унылыми стебельками. Словно бы они могли расти, но отчего-то не хотели.
Тогда я удержался от того, чтобы сравнить нас с этими кустами: в компании не очень-то любили эти шутки, и, едва я заикался о кустах или кивал в их сторону, все начинали кричать, шуметь, шутить, затыкать мне рот – в общем, отвлекать. Я ухмылялся, глядя в зеркало на пустую дорогу, что раскатывалась за нашей яркой машиной пыльным, будто плохо выбитым усталыми горожанами ковром. «Ладно, ладно, не буду», – примирительно говорил я. И мы переводили взгляд туда, куда его только и можно было перевести в пустом бескрайнем поле (наши родные двухэтажки оставались далеко позади), кроме неба, конечно, – но чего ждать от неба, каких чудес? Над городом висело точно такое же небо, как здесь, так пусть на него смотрят в городе. А мы смотрели на Башню.
Мы не подъезжали к ней в тот раз – вообще, это было бессмысленным. Окруженная высоким, с несколько маяков, забором, не имевшим не то что ворот, даже щелей и трещин, она представляла мало интереса вблизи. Зато с Широкоморского шоссе ее вид был… нет, не сказать завораживающим, не сказать поражавшим воображение… Башня просто была, каждый из нас помнил ее, сколько помнил себя – тут нечего было воображать. Ее вид с Широкоморского шоссе был таким, что ты неизменно думал: собственно, все уже в жизни увидено, прожито и прочувствовано, и лишь одно оставалось загадкой, которая будоражила ум.
Эта Башня – Севастополь или нет?
Весь мой город лежал под ней, простирался, словно поверженный противник, и она стояла, торжествующая, источала мощь, распространяла, словно антенна, свою тайну, в город, передавала ее в каждый дом, каждую голову. Кто построил тебя, Башня? Разве могли тебя даже не возвести, а просто задумать тихие люди наши, разве мог породить тебя добрый, спокойный и неподвижный наш город, не желавший расти ввысь?
Я сбавил скорость. Все наши разговоры смолкли, и я переглянулся с Фе, очаровательной моей подругой. Ее волосы развевались, а в зеркальных очках отражалась степь. И Башня… Девушка ехала со мной на переднем сиденье, и, признаться, мало что мне приносило когда-нибудь больше счастья. На заднем сиденье сидели наши друзья, они смеялись, глядя на нас, шутили, кричали, но я не слышал. В голове бились волны – и тогда казалось, что это прилив сил, радостный трепет совсем молодой души от вспыхнувшего в ней первого настоящего чувства. Но уже тогда я понимал: мое волнение отнюдь не только об этом. Глядя на прекрасную Феодосию, я хотел встретиться с ней взглядом, но видел лишь Башню в ее очках. Башня заслоняла мне все, Башни становилось все больше в моей жизни. И прежде всего, конечно, в голове. Волны тревоги бились о то, что прежде казалось неприступной скалой – мою беззаботность, уверенность. Неужто молодость уходила, неужто это и была та самая «жильца», которой наделял всех тех, кто молод, но уже и не совсем, наш мудрый наблюдательный народ? Новый прилив – сильный, внезапный – злости, испуга нахлынул на мою крепость, и я резко затормозил и нервно надавил на клаксон автомобиля. Раздался писклявый звук, словно суровый ребенок сжал в крепких руках плаксивую резиновую игрушку.
– Фи? – спросила Феодосия, приспустив очки. – Все в порядке?
– Слушай, – я перевел дух. – Сними их уже. Тебе же без них гораздо лучше…
– Лучше? – Она изобразила удивление. – Ты хочешь сказать, тебе так больше нравится?
Фе дотронулась до моей щеки, и этот простой жест словно обжег меня. Как будто почувствовав это, она отдернула руку.
– Мне так больше нравится, – буркнул я.
Она усмехнулась.
– Ну ты не один ведь здесь, верно? А как же твои друзья, Инкер?
Зачем она это делает? Дразнит меня? Или его – моего несчастного друга? Все мы знаем, как нравится Фе ему, и все – даже он, нет, он в первую очередь – знают, что у него нет никаких шансов.
– О да, детка, ты прекрасна! – Евпатория томно посмотрела на нее и облизнулась.
– Уйди, противная, – отмахнулась Фе. Она ревновала Евпаторию ко мне, хотя какой смысл? Я был еще без «жильцы», по крайней мере, хотел так думать, был чист и верен своей любви. Ну, или тому чувству, которое хотелось считать любовью. Ведь наша компания была такой маленькой – а как же хотелось большой любви!
– А что, – улыбнулся Инкер. – Все классно, мне все нравится. Фи, зря ты наговариваешь! Они ей очень идут.
Сделав этот комплимент, друг просиял. И Феодосия предсказуемо потеряла к нему интерес.
– Вот видишь. – Она дернула меня за руку. – Всем нравится. И почему тебя не прут мои очки?
– Башню видно, – бросил я, открывая дверь. – Выходим, ребят, прогуляемся… И потом – почему всем? Керчь, хотя бы ты скажи ей!
– А? – встрепенулась, словно только что спала глубоким сном, девушка на заднем сиденье.
Керчь была невысокого роста, с черными, коротко стриженными волосами. Она появилась в компании последней: мы встретили ее возле обрыва, когда я еще не умел водить авто и мы исследовали город на своих двоих – как правило, босых да совсем еще мелких – ногах. Порой несколько раз спали в пути. Так и с Керчью познакомились: мы застали ее спящей. Она любила бывать одна, и что нашла в нас, наверное, не знала сама. Мы вообще подумали сперва, что она мальчик. Ох, как же смеялись с Инкером, когда узнали правду! Керчь не обижалась – лишь хлюпала носом и глядела на нас исподлобья.
Она была умной, на самом деле, и на все имела свой взгляд. Наши любовные дела ее не волновали, как, казалось, и любовные дела вообще. Керчь была словно везде – и вместе с тем нигде конкретно. Иными словами, обитала в своих мыслях. Я думаю, что потому-то ей и было сложно в городе, где все смотрели в небо. А зачем смотреть в небо, если небо в твоей голове?









































