Текст книги "Григорий Орлов"
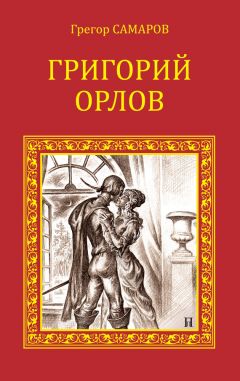
Автор книги: Грегор Самаров
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 35 страниц)
VII
На месте смотра войск до позднего вечера царило шумное оживление. Были огорожены различные места для танцев, по которым расхаживали горожане с их женами и дочерьми и солдаты, весело знакомясь друг с другом. Только весьма редко эту общую радость омрачал диссонанс.
Хотя по приказанию императрицы в огромных палатках были в изобилии заготовлены пиво и водка вместе с излюбленнейшими кушаньями, но опьянение, которому многие поддались вследствие щедро предлагаемых спиртных напитков, не делает русских, подобно людям других национальностей, сварливыми и невыносимыми; напротив, оно придает им какую-то особенную, наивную, почти ребячливую веселость. Если где-либо тем не менее происходило какое-нибудь недоразумение или завязывалась ссора, то находившиеся в толпе офицеры с неумолимой строгостью заботились о том, чтобы участники беспорядка были удалены, так что он во всяком случае продолжался всего несколько минут, а в некотором отдалении от гулянья и вовсе не был заметен.
Наибольшим расположением петербургских горожан, их жен и дочерей пользовались солдаты, приведенные Потемкиным с турецкой войны. Несмотря на их рубцы и изорванную форму, молодые девушки предпочитали их в качестве танцоров, а вокруг более старых, уже не принимавших участия в танцах, образовывались группы молодых людей и женщин, усердно прислушивавшихся к их рассказам о подвигах великого Румянцева и его воинов в делах против басурман.
Казаки также были в центре внимания и горожан, и гвардейских солдат, завидовавших добытой армейскими полками славе и знакам отличия, которыми их наградила императрица. Только Емельян Пугачев, уединившись, сидел в одной из палаток; пред ним была кружка меда, но он лишь изредка отхлебывал пенистую влагу и, уронив голову на руку, предавался мрачным размышлениям. Его товарищи уже не раз пытались увлечь его в водоворот веселья, но он всякий раз быстро удалялся, как только ликующая толпа опоражнивала свои бокалы за здоровье императрицы.
«Нет! – скрежеща зубами, думал Пугачев, отыскав себе уединенное место в опустевшей палатке. – Я не желаю пить за здравие императрицы… я не хочу желать ей добра. Ведь я верой и правдой служил ей долгие годы, там, где нужно было, я не колеблясь проливал за нее свою кровь, но все же я и теперь лишен воли и мне не позволили возвратиться к себе на родину и после стольких лишений и трудов устроить собственное счастье, жить для одной своей Ксении. Наш генерал – храбрый человек, жалеющий своих солдат, а все же и он отказал мне в свободе; он не может дать мне ее, так как ему воспрещено это указом императрицы. Разве это дело, что так много храбрых и сильных людей подчиняется воле слабой женщины? Я хотел обратиться к ней лично, когда она проезжала верхом мимо нас, я хотел лично просить у нее воли, но этот князь Григорий Орлов, ехавший рядом с нею, такой грозный и гневный, что я не осмелился, а к тому же, – с гневом сжал он кулаки, – все во мне воспротивилось – молить у женщины свободы, у женщины не Рюриковой крови, чужестранки, рожденной в еретичестве и… Чтобы потом не краснеть пред Ксенией».
Он испугался собственных мыслей и быстро поднес к губам кружку с медом, так как у самой палатки раздались шаги и вошел офицер в форме Преображенского полка.
На офицере были аксельбанты, указывавшие на то, что он состоял адъютантом при высокопоставленной особе. При его появлении Пугачев вскочил и отдал честь, а офицер проницательно взглянул ему прямо в глаза.
– Вот что, казак, – сказал он, – я ищу, с кем бы послать письмо в город, и не хотел бы мешать людям предаваться веселью; ты, по-видимому, не находишь удовольствия в танцах и в шумном времяпровождении, поэтому я хочу поручить это тебе.
– Слушаю-с, ваше благородие, – сказал Пугачев, – мой конь отдохнул и готов служить вам.
– Как зовут тебя? – спросил офицер.
– Емельян Пугачев, – ответил казак.
– Ты из войск, возвратившихся с генералом Потемкиным из Турции?
– Так точно, – ответил Пугачев, – я был при осаде Бендер, а когда-то в армии генерала Апраксина сражался против пруссаков.
– Хорошо, – сказал адъютант, – я вижу, что ты храбрый солдат и что я могу доверить тебе свое послание. Вот, – сказал он, передавая ему запечатанный конверт, – возьми это письмо, свези его в крепость, явись к коменданту и передай ему его. Тебе не нужно докладывать об этом своему начальнику, я беру это на себя. «Выполнял службу ее величества государыни императрицы» – так скажешь, когда возвратишься обратно и начальство спросит о твоем отсутствии.
– А если меня накажут за то, что я уехал без разрешения? – нерешительно спросил Пугачев.
– Ты знаешь мой мундир, – строго произнес офицер, – слышишь – я беру ответственность на себя; служба государыне императрице не терпит проволочек.
Пугачев отдал честь, взял письмо из рук адъютанта, сунул его в карман за пазухой и, выйдя, направился за палатки своего полка, где нашел своего коня.
Он вскочил в седло и стал огибать весь табор, делая огромный крюк, так как на площади никто не имел права показываться верхом. Затем, достигнув дороги, он пустил свою маленькую, долгогривую лошадку полным махом и, все еще под наплывом своих печальных, грустных дум, поехал к городу.
Ему были знакомы эти улицы еще со времени похода на пруссаков, и в нем стали подыматься грустные воспоминания о тех днях, когда он, полный сил, находил радость в веселой солдатской жизни, когда тоска по родине еще не коснулась его и не заставляла чувствовать тяжелые давящие оковы службы.
Пугачев проехал по крепостному мосту; из-за мрачных каменных громад крепости вздымалась позолоченная башня над собором святых Петра и Павла.
Часовой у ворот окликнул его.
– По повелению ее императорского величества государыни императрицы, – отозвался казак, – пакет к коменданту.
Часовой пропустил его. Невольное боязливое чувство закралось в душу казака, когда он, миновав глухо звучавшие своды ворот, въехал на внутренний двор крепости. Отсюда уже не было видно внешнего мира, кроме клочка синего неба, в который, казалось, упирались крепостные стены.
Пугачев доложил о своем поручении офицеру, командовавшему внутренними караулами, и вскоре появился комендант крепости, старый генерал с лицом сурового воина, и окинул казака удивленным взором. Он никак не мог понять, что могло быть общего между этим солдатом далекого, не принадлежавшего петербургскому гарнизону полка и службою императрицы.
– Что ты привез мне? – коротко и повелительно спросил он.
Пугачев вытащил письмо, полученное им от адъютанта в лагере, и передал его коменданту.
Последний осмотрел печать, вскрыл конверт и пробежал взором содержание письма.
Он вздрогнул и с еще большим удивлением, чем пред тем, осмотрел казака; но затем его лицо снова приняло спокойное, строгое и холодное выражение. Он шепнул несколько слов караульному офицеру и затем, обращаясь к Пугачеву, коротко по-военному приказал:
– Следуй за мной!
Затем он направился через двор к двери, которая была заперта на замок и вела в помещения нижнего этажа.
Офицер с сержантом, несшим связку ключей, и пять человек из стражи шли по пятам за Пугачевым, не обращавшим особенного внимания на все эти формальности, которые могли относиться к правилам крепостной службы.
Сержант отпер замок своим ключом. Комендант первым вступил в темный, извилистый коридор, предварительно быстрым взглядом убедившись, что Пугачев следует за ним.
Офицер и солдаты замыкали шествие.
В конце коридора была открыта вторая дверь. Они все больше углублялись внутрь каменного мешка, и чем дальше шли они, тем тусклее становился свет, попадавший сюда через редко разбросанные слуховые окна.
Наконец они прошли через небольшую переднюю. Позади нее находилась тяжелая железная дверь.
Комендант ввел Пугачева в маленькую комнату с выкрашенными в белый цвет стенами, с простою кроватью, столом и несколькими стульями. Единственное окно с крепкою железною решеткою выходило на крошечный дворик, который был окружен такими высокими стенами, что в глубине его царил унылый полумрак и при взгляде на него через окно нельзя было видеть небо.
Пугачев несколько нерешительно перешагнул порог этого мрачного помещения. Он никак не мог понять, почему это комендант для исполнения переданного им поручения или для передачи ему ответа на доставленное письмо привел его в эту непроглядную глубь старого крепостного здания; но, прежде чем его мысли могли принять ясную форму, комендант снова перешагнул порог и сказал сопровождавшему их офицеру:
– Этот казак арестован!
– Арестован?.. Я! – возмущенно воскликнул Пугачев. – Я, ни разу не провинившийся по службе? Никогда ничего мне не могло быть поставлено в вину! Это невозможно!.. Что сделал я?
– Ты арестован согласно приказу ее императорского величества государыни императрицы! – сказал комендант, в то время как офицер приставил к порогу комнаты двух часовых с примкнутыми у ружей штыками. – У арестанта должна быть хорошая пища – и я сам позабочусь об этом, но под страхом смерти никто не должен входить в каземат, кроме сторожа, которого я назначу для этого, никто не смеет разговаривать с ним, отвечать на его вопросы!
– Это невозможно! – вне себя воскликнул Пугачев. – Это недоразумение, какая-то путаница. Неужели же просьба о воле, на которую я осмелился сегодня, будет наказана столь сурово! О, в таком случае, – воскликнул он с налившимися кровью глазами, – Боже великий, пошли Свои гром и молнию на головы еретиков, которые затоптали ногами святейшие законы и унизили свободных людей до положения рабов!
На губах Пугачева выступила пена. Он хотел броситься на солдат, но по знаку коменданта они уже с грохотом захлопнули тяжелую железную дверь, ключ заскрипел в замке, пленник был наглухо заперт.
– Вы останетесь со своими людьми в этой передней, – отдал офицеру приказание комендант. – Я позабочусь о вашей смене; вам известны инструкции, и вы будете точно следовать им.
Убедившись еще раз в надежности дверного запора, комендант удалился.
Офицер сел на скамеечку возле окна и стал смотреть на мрачный двор, в то время как солдаты с ружьями в руках расположились на стоявшей у стены скамье.
Из каземата сквозь толстые стены и тяжелую железную дверь глухо, как бы издалека раздавались ужасные проклятия и дикие крики ярости, и они звучали так страшно, что офицер и солдаты по временам вздрагивали. Казалось, будто хищный зверь пустыни с рычанием потрясал стены своей клетки или демон адской преисподней намеревался разорвать страшные цепи, которыми был прикован к бездне вечного мрака. Но ни один мускул на лице солдат не дрогнул: все они молча и неподвижно сидели на своих местах, они знали свой приказ по службе, остальное их не касалось, и каждый из них, привыкший к крепостной службе, уже переживал что-либо подобное, не зная и не задаваясь вопросом, почему это бывало и к чему дальнейшему могло повести.
Солнце уже зашло. Гвардейцы, окруженные толпами ликующего народа, мало-помалу возвращались в свои казармы. Петербургские улицы теперь были настолько же оживлены толпившимся народом, насколько были тихими и вымершими в предобеденное время. Окна Эрмитажа в Зимнем дворце осветились, так как близился час, когда в покои императрицы съезжалось самое избранное придворное общество.
По берегу Невы, со стороны Александро-Невской лавры сквозь толпившийся народ ехала карета; ее окна были плотно закрыты зелеными занавесками; на ее дверце не видно было герба, на кучере не было ливреи. Никто не обращал внимания на этот простой возок, которому то и дело приходилось останавливаться и ожидать, пока густая толпа расступится и даст ему дорогу.
Этот возок свернул на большой мост, ведший к крепости, и наконец остановился пред теми же самыми воротами, в которые несколько часов пред тем въехал Емельян Пугачев, чтобы передать коменданту доверенное ему письмо.
Часовой подошел к карете; ее дверцы растворились, и часовой увидел пред собой монаха в длинной рясе, с глубоко надвинутым на голову клобуком и прикрывавшим лицо, так что нельзя было разглядеть его. Монах протянул часовому составленный по всей форме и снабженный большой печатью пропуск, и так как солдат удостоверился в подлинности печати, то карета проехала воротами во внутренний двор, где караульный офицер снова открыл ее дверцы.
– Нужно тотчас же позвать коменданта, у меня есть приказ к нему, – сказал монах голосом, который звучал слишком высокомерно и повелительно для простого чернеца.
Вместе с тем он показал офицеру письмо. Последний внимательно осмотрел печать и надпись на конверте и тотчас же послал ординарца с докладом к коменданту.
Вскоре показался на дворе и комендант; не говоря ни слова, монах подал ему письмо, которое пред тем показывал караульному офицеру.
Генерал посмотрел на печать и, покачивая головою, окинул взором столь необычного передатчика приказа. Но на его лице отразилось еще большее удивление, когда он прочитал содержание письма; тем не менее он ни словом не выразил своего удивления и лишь сказал монаху то же самое, что несколько часов назад сказал Пугачеву:
– Следуйте за мной!
На вопрос караульного офицера комендант отклонил предложение сопутствовать ему и рядом с монахом, который был выше его почти на целую голову, зашагал по тем же самым длинным переходам, по которым вел и Пугачева.
В передней, где находились офицеры и стража, горел большой фонарь. При появлении коменданта офицер и солдаты вскочили со скамей. Из находившегося за стеной каземата все еще раздавались шумные, грозные проклятия, сопровождаемые гулкими ударами в железную дверь.
– Откройте! – распорядился комендант. – По приказу генерала-фельдцейхмейстера этому монаху открыт свободный доступ к арестанту.
– Он неистовствует, ваше превосходительство! – сказал офицер. – Как вы изволите сами слышать, открывать дверь и входить к нему опасно.
– В таком случае приготовьтесь связать его, если это понадобится, – приказал генерал.
– В этом нет необходимости, – сказал монах глубоким, сочным голосом. – Как бы там ни было, откройте, я не нуждаюсь ни в чьей помощи.
Ключ заскрипел, засовы были отодвинуты; медленно повернулась на петлях тяжелая дверь.
Едва свет фонаря упал внутрь каземата, как Пугачев с поблекшим лицом, дико вращая глазами, с пеною у рта и рыча, как разъярившийся хищник, бросился оттуда. Его вид был так страшен, что солдаты испуганно отстранились.
Но монах уже ступил на порог.
Когда Пугачев обрушился на него, схватил за горло, чтобы душить, монах с громким ироническим смехом перехватил руки казака, с силой отогнул их за спину и после короткой борьбы бросил неистовствовавшего на землю. Он крепко, как железными тисками, держал руки, прижал грудь его коленом и сказал:
– Успокойся, безумец!.. Разве ты не видишь одеяния? Я явился сюда, чтобы утешить тебя, поэтому молчи и выслушай меня! Ты видишь, что всякое сопротивление бесполезно. Моя рука столь же сильна, чтобы связать тебя, как могуче утешить и ободрить тебя мое слово.
Пугачев уставился на него налившимися кровью глазами. В самом ли деле внушило ему доверие монашеское одеяние или в своем изнеможении он склонился пред превосходством силы, только он издал лишь глухой стон и его судорожно напряженные мускулы ослабели.
– Внесите сюда фонарь! – сказал монах повелительно. – Теперь ступайте и оставьте нас одних! – приказал он далее, когда в каземат внесли фонарь.
Дверь закрылась. Комендант удалился, тихо бормоча про себя:
– Что значит все это? Какие церемонии с этим простым казаком? А этот монах… где, черт возьми, я слышал этот голос?
Покачивая головой, он шел вдоль коридора, в котором, несмотря на мрак, отлично ориентировался. Но ему никак не удавалось разобраться в своих воспоминаниях, где же он все-таки слышал голос этого монаха.
Офицер и солдаты остались в передней и боязливо прислушивались, так как, несмотря на превосходство силы, выказанное монахом, они все же боялись новой схватки с арестованным, которая могла стать опасной для служителя церкви.
Внутри каземата монах оставался несколько минут в том же положении: с коленом на груди казака и не выпуская из своих железных тисков его рук.
– Ну, успокойся, Емельян!.. – сказал он. – Имей доверие к моей одежде; я не намереваюсь делать тебе зло, и в доказательство возьми вот этот подкрепляющий напиток, в котором ты, наверно, нуждаешься.
Он выпустил арестованного, действительно уже не делавшего попыток возобновить свою борьбу с монахом, огромную силу которого он уже испытал на себе.
Монах вытащил из рясы бутылку, оплетенную лубком, поднес ее распростертому на земле казаку и сказал:
– Выпей, это укрепит тебя и успокоит.
Пугачев, ни минуты не колеблясь, приложил бутылку ко рту и сделал из нее порядочный глоток. Затем он глубоко вздохнул, на его бледном, искаженном лице появилось выражение удовольствия, и он усталым голосом проговорил:
– И точно, батюшка!.. Вы не можете принести мне ничего дурного, так как напиток ваш недурен. Говорите, что вы в состоянии сказать, чтобы утешить в этом несчастье мою душу.
– Почему ты здесь, почему ты арестован? – спросил монах.
– Почему я арестован?! – воскликнул Пугачев, внезапно вскакивая с места и уставившись на монаха вновь загоревшимся ненавистью и яростью взором. – Я арестован потому, что тосковал по родине, потому что нуждался в свободе, потому что осмелился просить этой свободы, и вот поэтому я осужден истомиться и сгнить в этой тюрьме. Клянусь Господом Богом, лучшим утешением, которое вы могли бы мне дать, была бы смерть! Быть может, вы намеревались дать мне это утешение? Не подмешали ли вы яд в свой напиток?.. Огнем он течет по моим жилам!..
– Не из-за того ты здесь, Емельян, – возразил монах.
– Не из-за того? – переспросил казак. – Из-за чего же?
– Благодаря своему лицу, слышишь? Благодаря своему лицу. Разве ты никогда ничего не замечал в своем лице? Разве тебе никто никогда не говорил, что особенного в твоем лице?
Пугачев в упор уставился взглядом на монаха.
– Подумай хорошенько, – сказал последний, – ты был на службе при великой императрице Елизавете Петровне, при императоре Петре Федоровиче…
– Петре Федоровиче! – воскликнул Пугачев, по-видимому роясь в своих воспоминаниях. – Да, да, батюшка! Что-то такое блеснуло у меня из прошлого. Дело было под Бендерами, когда мы осаждали эту крепость; раз как-то остановился возле меня офицер генерала Панина и сказал другому, сопровождавшему его: «Взгляни на этого казака; если бы император Петр Федорович не был мертв, я поклялся бы Богом в том, что это он живой стоит здесь предо мною». – «В самом деле, это бросается в глаза», – сказал другой офицер, и оба прошли мимо. Я скоро позабыл об этом; я только помню о том, что тогда сильно перепугался, так как ведь не может принести счастье сходство с бедным императором Петром Федоровичем, который…
Пугачев запнулся и боязливо посмотрел на монаха.
– Который, – произнес последний, заканчивая слова казака, – был свергнут с престола своею супругой, чужестранкой, не имеющей ничего общего со святой Русью и носящей теперь его корону.
– Он мертв, – сказал Пугачев и перекрестился, – упокой, Господи, его душу.
– Он мертв, – сказал монах, тяжело опустя свою руку на плечо Пугачева, – он мертв, говоришь ты, и все же ты мне рассказал, что тот офицер при взгляде на твое лицо подумал, что видит его; но и я сам признаю в твоем лице черты императора Петра Федоровича.
– Я вас не понимаю, батюшка, – дрожа проговорил Пугачев, – у меня голова идет кругом от ваших слов, насколько я могу припомнить свое детство, я всегда был Емелькою, только Емелькою Пугачевым, родившимся на берегах тихого Дона.
– Есть страшные искусства, – сказал монах, – изученные теми, кто заложил свою душу адским силам преисподней; существуют козни, которые приводят в замешательство наш ум и вызывают в нем ложные, обманчивые представления, эти последние будят в нас воспоминание о таких вещах, которых никогда и не было, и умерщвляют воспоминания о том, что было в действительности.
– Я не понимаю вас, я не понимаю вас, батюшка, – испуганно повторял Пугачев.
– Царь Петр Федорович умер, – сказал монах, – потому что его супруге захотелось возложить на свою голову российскую корону. Ну а если бы та, которая теперь называется императрицей, – продолжал монах, – тем не менее дрогнула и отступила пред превосходящим всякую меру желанием или если бы те, кто были ее орудием, не осмелились пролить священную царскую кровь, то…
– О, батюшка, батюшка, – падая на колени и вздымая к нему руки, произнес Пугачев, – батюшка, что вы сказали? О, если бы это было возможно, то…
– Ты слышал же, что сказал тот офицер? – спросил монах. – Если бы император Петр Федорович не был мертв, – сказал он, – то ведь этот офицер был бы готов в твоем образе видеть его пред собою. И вот если император Петр Федорович не умер, если его воспоминания расстроены, если его ум ослеплен безумием, то не существует на свете Емельяна Пугачева, то жив еще император и в состоянии еще мстить за совершенное беззаконие и повести к победе вечно живое право… Подумай как следует над этим! Собери всю свою волю! Проникни, насколько можешь, в свои воспоминания. Разве ты уверен, вполне уверен, что родился и вырос на берегах Дона, что ты всегда был Емельяном Пугачевым?
Пугачев сжал руками свою пылающую голову.
– Батюшка, батюшка! – воскликнул он. – Все крутится в моей голове… Я уже не проникаю ясно в свою память… Все сбилось в ней…
– Это сказывается действие того питья, которое приготовили адские духи для злоумышленников, давших его тебе, но зато я ясно вижу твое лицо, изменить черты которого не было в их власти, и я говорю тебе, что ты – Петр Федорович, позорно преданный, лишенный престола царь; ты призван спасти Русь, ты призван к мести, к совершению правосудия… Приветствую тебя, Петр Федорович! Тебе принадлежит будущее… В твоей голове снова оживут воспоминания, как только священная корона коснется ее в Московском Кремле.
Пугачев, словно пьяный, неверными шагами ходил взад и вперед по узкому помещению, затем снова упал на колени пред монахом, умоляюще схватил его руки и воскликнул:
– Батюшка, батюшка, не обманывайте меня, не вливайте отравляющей мечты в мою душу! Пробуждение от подобного сна искупается смертью!
– Сном было твое настоящее существование, – сказал монах. – Пробудись к действительности, Петр Федорович, внук великого царя Петра Алексеевича, владыка и повелитель святой Руси!
Пугачев опустился на пол, стукнулся лбом в поклоне и минуту оставался лежать неподвижно.
– А если это так, батюшка, – воскликнул он затем, вдруг снова выпрямляясь и устремив на монаха свой дикий взор, – то разве я не заключен в эти стены, разве не стоят здесь часовые, разве я не погребен навеки?! Быть может, за теми дверями меня ждут кинжал и яд…
– Будь спокоен, – сказал монах, – разве я пришел бы к тебе и раскрыл бы тебе тайну, мрак которой будет просветляться все больше, чем ближе будешь ты к коронованию в святой Москве, пред чем не устоять никаким адским чарам? Разве я сделал бы это, если бы не было в моей власти раскрыть двери тюрьмы и возвратить тебе свободу?
– Батюшка, батюшка! – воскликнул Пугачев. – Кто же вы? Не посланы ли вы самим Небом, раз в ваших руках находится подобная власть?
– Я послан судьбою, – возразил монах, – и от твоей воли, от твоего мужества, от твоей силы будет зависеть исполнить решение судьбы, возвестить о котором я явился к тебе; сегодня еще тебе будет возвращена свобода и ты безопасно возвратишься в страну сильных и смелых людей, в ту сторону, которую, охваченный безумием, ты до сих пор считал своею родиной. Как только ты прибудешь туда, возвести о своей тайне… возвести, что не умер царь Петр Федорович, что он ожил в тебе, чтобы мстить и карать… Возвести об этом на благо России…
– Неужели это правда, неужели это возможно, неужели со мной может произойти столь неслыханное превращение?! – воскликнул Пугачев. – Да, – продолжал он, гордо выпрямляясь и расправляя руки, – да, я чувствую, что это – истина; память еще не возвращается моему помутневшему рассудку, но я чувствую, как течет в моих жилах старая царская кровь, как напрягаются мои мускулы, как растет моя сила, подобно могучему дубу… Да, это я… я Петр Федорович, царь, мститель, освободитель! – Но вдруг он побледнел и его руки беспомощно опустились. – А моя Ксения? – болезненным, жалобным стоном вырвалось у него. – Что будет с моей нежной красавицей?
– С твоей Ксенией? – спросил монах. – Кто это? Что это значит?
– Батюшка, – ответил Пугачев с болью в голосе, – это самая красивая девушка на Яике. Если бы на моей голове была царская корона, я отдал бы ее за Ксению.
– К чему? – спросил монах. – Разве великий император Петр Алексеевич не подал руки безвестной девушке? Добейся престола, для которого ты рожден, и от твоей воли будет зависеть возвысить до себя Ксению и короновать ее царскою короною, как великий царь Петр Алексеевич короновал Екатерину!
– Батюшка! – воскликнул Пугачев. – Какое сияние наполняет этот мрачный каземат, в котором я уже было потерял всякую надежду!.. Моя Ксения – императрица! Право слово, нет на Руси достойнее ее главы для царского венца: блеск ее волос краше блеска золота.
– Ну, за дело! – сказал монах. – Теперь я пойду; не давай согнуться своей воле и помутиться разуму, в который теперь снова запали первые искры света.
– Вы уходите, батюшка, – испуганно спросил Пугачев, – и оставляете меня здесь?
– Положись на меня, – ответил монах, – тебе недолго ждать свободы; здесь, в этом мрачном каземате, я приветствую мстящего царя, которого вскоре встретит ликующими кликами весь русский народ. Будь спокоен, молчи и жди!
Он низко поклонился казаку и тяжело ударил по двери. Тотчас же она отворилась.
Монах взял фонарь и, еще глуше надвинув клобук, вышел из каземата; согласно приказанию коменданта, один из часовых проводил его по длинному коридору до наружных ворот, где монах сел в ожидавшую его карету и направился через понтонный мост к городу.
Пугачев остался в темноте. Часовые прислушивались к происходившему в каземате, но там ничего не было слышно; монах и в самом деле, должно быть, нашел средство смягчить упорство арестанта.
Пугачев стоял опершись о подоконник и сквозь решетку смотрел на окутанный мраком двор. Тысячи смутных образов всплывали в его уме: то он видел себя на недосягаемой высоте, то в нем снова всплывало малодушное сомнение, не было ли появление монаха лишь обманчивым сновидением и не останется ли он навеки в этой тюрьме. Затем он бросился на колени и стал усердно молить Бога и всех святых, известных ему, о своем спасении и освобождении.
Пугачеву не суждено было долго пребывать в неизвестности. Не прошло и часа после того, как от него ушел монах, когда он снова услышал скрип ключа и засова. Дверь отворилась. Пугачев увидел в передней коменданта и офицера в адъютантской форме.
Комендант держал в руках вскрытое письмо и сказал:
– Вот этот арестованный. В течение нескольких часов уже третье письмо я получаю относительно этого загадочного казака, – ворчливо прибавил он. – Однако, как бы то ни было, – продолжал он, обращаясь к пожимавшему плечами адъютанту, – этот ордер приказывает мне передать вам арестованного… Вот он… Теперь мне уже не придется более возиться с ним.
Пугачев подумал, что грезит. Простой монах мог раскрыть пред ним двери тюрьмы и вывести его на волю Божью – должно быть, это действительно небесный посланец.
Адъютант сделал знак следовать за ним.
Пугачев минуту колебался.
– Я приехал сюда на своем коне, – взмолился он затем. – Он выносил меня под дождем вражеских пуль – прошу вас, возвратите мне моего коня!
– Лошадь казака стоит в конюшне, – сказал комендант. – Выведите ее и возвратите ему! – приказал он часовому.
Солдат шел впереди и светил.
На двор уже была приведена лошадь Пугачева. Он схватил ее поводья и последовал за адъютантом, а лошадь обнюхивала его и веселым ржаньем выражала свою радость от встречи с хозяином.
На улице, пред воротами крепости стояла маленькая легкая повозка, запряженная тройкою лошадей.
– Садись, – сказал офицер, – вот тебе плащ и фуражка, а вот и кошель с золотом. Ты отпущен со службы, Иван Васильевич; этот возок доставит тебя до самых пределов твоей родины. Вот твой паспорт!
Пугачев был озадачен, что офицер назвал его другим именем, но его доверие к загадочной власти монаха так возросло, что он не спросил его об этом. Пугачев взял бумагу, закутался в плащ и надел фуражку.
– Но как ты намерен поступить со своей лошадью? – спросил офицер.
– Привяжем ее к упряжке, – сказал Пугачев, – у нее сильные ноги, и она не знает усталости.
Он подозвал лошадь несколькими непонятными словами.
Умное животное спокойно и послушно дало привязать себя к тройке, офицер сделал знак, и маленькая повозка, похожая на те, в которых обыкновенно приезжают крестьяне из деревни, переехала мост и направилась по другому берегу реки.
Пред Зимним дворцом кучеру пришлось свернуть в сторону, потому что бесконечная вереница блестящих экипажей, сопровождаемых скороходами с факелами в руках, тянулась друг за другом к подъезду дворца, так как в это время происходил вечерний прием у императрицы…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































