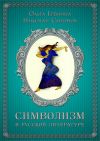Текст книги "Неизвестность искусства"

Автор книги: Игорь Светлов
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Воспоминания о выставках Климта
Впервые опубликовано: Воспоминания о выставках Климта // Густав Климт и Эгон Шиле в Москве и Вене. М.: Азбуковник, 2018. С. 164–171.
Недавно прошедшая в Москве выставка «Густав Климт, Эгон Шиле. Рисунки из музея Альбертина (Вена)» оказалась во многом шоковой. Чтобы обозреть это сравнительно небольшое собрание, выстраивались многочисленные очереди. Атмосфера обсуждений и споров, вобрав в себя память о непривычной для нашей публики открытости интимных движений человека, о неповторимой для каждого связи души и тела, сохранилась и после того, как выставка закрылась.
Шок не в первый раз сопровождал знакомство московских зрителей с рубежным искусством Вены. Подлинным потрясением стала экспонированная в 1990 году в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина выставка «Вена на заре XX века». Вновь и вновь приходили зрители, чтобы возобновить в памяти помещенный в нишу Белого зала «Поцелуй» Густава Климта. Остро и изысканно моделированный геометрическим орнаментом монолит золотой пары вызывал множество ассоциации. Одни воспринимали панно-картину венского мастера как своеобразную икону, другие – как фрагмент древней мозаики. Но возрожденная древность была проникнута такой энергией, что ощущалась как прорыв в новую жизнь. Соборное обручение превратилось в стихийный космический взлет.
Прорывом символистского декоративизма стали и другие акции венских художников на переломе веков. Лучезарные и благородные золотые развороты журнала «Вер сакрум» («Вечная весна»), таинственное мерцание украшающих храмы Отто Вагнера мозаик Коло-мана Мозера и (опять вспомним о Климте) росписи в брюссельском дворце Стокле, в которых уподобленные египетским жрицам женские фигуры хоронятся от гнета солнца и золотых песков под сенью высохших деревьев, – все это поэтика высшей пробы. Дерзко и широко почувствованная декоративность стала для Климта не только эстетическим увлечением, но и прикосновением к вечности, истории, идеалу. Напоминание о вселенских контрастах в Университетских панно и Бетховенском фризе и бескомпромиссный разрыв с «золотым стилем» под конец жизни не смогли затмить не отделенной от человеческой озаренности фатальной красоты его творений в первые годы нового века.
Но было в творческом мире Венского Сецессиона и нечто отличное от этого упоения декором – сдержанно-элегантная черно-белая венская графика.
Оказавшая немалое влияние на стилистику петербургских видов А. Остроумовой-Лебедевой встреча черных и белых тонов в зимних пейзажах К. Моля, живое изящество силуэтов молодых лиц в журнальных миниатюрах Й. Кремера, световые акценты в изображении напоминающих о барокко женских голов и противостоящая им собранность символических фигур К. Мозера – все это не в меньшей мере, чем живопись, маркировало изысканный венский вкус. Конечно, и здесь так или иначе присутствовал свой вариант декоративности. Больше всего это касалось плакатов, иллюстраций, обложек книг. Популярность у столичной и провинциальной публики обрели произведения Й. М. Аухенталлера. Построенные крупным планом, его графические листы с выразительным ритмом линейных форм были убедительны и когда сопрягались с насыщенным цветом, и когда облик фона был намеренно успокоительно-блеклым.
Выдающимся явлением европейской художественной жизни стало историческое воссоздание в залах Альбертины одной из выставок Сецессиона, на которой венские графики оказались рядом с такими признанными мастерами, как Ф. Валлатон, О. Бердсли, Ф. Штук. Познакомившись с этой экспозицией во время одной из поездок в Вену в 2001 г., я словно приобщился к феноменальному развороту венской сецессионной графики: от изящно очерченных обнаженных фигур, остро построенных портретов до стильно решенных книжных иллюстраций, космогонических фантазий и близких к лубку сатирических серий.
Однако и на этом притягательном фоне прошедшая в австрийской столице несколько позднее, в 2003 г., выставка графики Клим-та стала широко обсуждаемым событием. Казалось, столь широкой демонстрации графики одного художника (как мне сообщили, экспонировалось около двух с половиной тысяч работ Климта) может соответствовать лишь поверхностное скольжение зрительского взгляда. Но эффект встречи с выставкой в Альбертине оказался совершенно иным. Чем дальше я продвигался по ее залам, тем все более заинтересованно погружался в мир исканий художника, отчасти знакомый по публикациям А. Штробла, но несравненно более широкий и вариантный. Понятнее, чем раньше, в середине 90-х гг., когда началось мое прикосновение к искусству Климта как искусствоведа, казалось формирование замыслов его картин. Далеко не элементарно сложились соотношения зрительных впечатлений и модификаций стиля, отчетливо прослеживалась типология близко повторяющих натуру или более пригодных для идеальных решений моделей. Далеко не всё из этого набора сопоставлялось с живописными произведениями Климта, но часто такое сравнение напрашивалось, помогая понять стадиальность мышления художника, приоритеты его лабораторной работы.
Как график Климт мог быть простым и нежным, как, например, в помещенном на афише выставки в Альбертине карандашном изображении молодой девушки, или безудержно броским, как в сделанном тушью листе «Кровь рыб», построенном на контрасте анемичности светлых тонов и открытой агрессии черных. Некоторые его графические эскапады больше тяготеют к экспрессионизму, чем к символизму. В известной мере это было заметно и на московской выставке. Графическая разработка темы Саломеи, заявленные в «Бетховенском фризе» акценты в характеристике темы зла, отраженная в зарисовках к Университетским панно деформация застывших в столбняке фигур – доказательство того, что в области рисунка, как отчасти и живописи, он время от времени был не безразличен к экспрессионистским акцентам. Хотя было бы большим преувеличением утверждать, что именно графике принадлежит в экспрессионистских штудиях Климта ведущее место.
Многие портреты и контуры обнаженных моделей, намеченные графитным карандашом, виделись на выставке в Альбертине (да и на выставке в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина) как что-то едва заметное, неизвестно откуда возникшее и готовое бесследно исчезнуть. Такое впечатление оставляют, например, некоторые имеющие символистский подтекст графические портреты. Нельзя пройти мимо изображения тайной подруги художника Адели Блох-Бауэр, сидящей на высоком стуле. Поучительно сопоставление этого рисунка с портретами Адели, написанными Климтом маслом в 1901 и 1907 годах. Контраст насыщенной орнаментальности и ослепительного сияния золотых тонов в живописных образах (один из них, часто именуемый «Мадонной Сецессии», несмотря на страстные протесты австрийцев, ушел из Бельведера в частную галерею в Нью-Йорке) и едва выступающего на белом фоне по-своему виртуозного, но сделанного так, чтобы не бросаться в глаза, карандашного наброска побуждает размышлять о странной двойственности художника.
Как понять эту ситуацию? Время от времени складывается впечатление, что обращаясь к приемам из арсенала графики в своих монументальных проектах или отдаваясь не имеющему обязательных функций свободному рисованию, Климт стремился уравновесить «невидимками» назойливое преобладание в своем искусстве декоративной роскоши.
Важен и еще один ракурс.
Хотя золотое озарение портретов и фризов этого венского художника были неотделимы от приобщения к мистическим стихиям и индивидуального прочтения древности, его влечение к тайнам человека и природы не было этим вполне удовлетворено. Проявляя особую чувствительность к вибрациям жизни, художник искал мобильные формы, способные ответить этой динамике, не ограничиваясь живописью. Как свидетельствуют выставки в Москве и Вене, графика Климта не только сопутствовала его движению к романтизму и символизму, но и была подчинена другим задачам. По-разному воплощался в рисунке характерный для этого мастера круг мотивов, объединенных интересом к человеку, движению в пространстве человеческих фигур и тел. Созданные им графические листы нередко были открытием новых граней сокровенной жизни мужчины и женщины.
В этой связи обнаруживалась особая сосредоточенность Климта на нескольких избранных мотивах. Запомнились показанные на его выставке графики в Альбертине изображения прикрытых накидкой или простыней лежащих на широкой кровати или нашедших приют в кресле женщин (к сожалению, в экспозицию московской выставки был включен только один такой лист). В этих сделанных под влиянием живых впечатлений зарисовках можно иногда заметить пикантные ракурсы. Но даже тогда присущая всей серии мечтательно-эротическая атмосфера не отождествляется с эпатажем. Лишенные всякой экстравагантности, но одновременно какой-либо жеманности, эти обаятельные существа полностью погружены в чувственные переживания, не желая их ни с кем делить. Здесь полный артистических намеков «эфемерный» стиль рисования Климта оказывается удивительно созвучным изображаемой ситуации.
Общий взгляд на графику Климта на венских и московских выставках обнаруживает программный эклектизм художника. Как уже говорилось, часть исполненных им рисунков и гравюр связана с идеей экспрессии. Другие – порождение натурализма. Очертания третьих, напротив, столь причудливы, что невозможно различить их стилистическую ориентацию.
Непросто объяснить, почему стилизованные формы в духе модного в 900-х годах венского модерна не занимали в графике Клим-та монопольного положения. Независимо от хронологии обозревая рисунки Климта, можно заметить, как натурализм сменяется у него отголосками классицизма, а забота о конструкции целого уступает место игре масс, напоминающей о барокко. Последнее не выглядит случайностью, если вспомнить о популярности в Вене и Европе во второй половине XIX века воспринятых как новая модификация барокко грандиозных мифологических панно Ганса Макарта. В молодые годы охотно работал в этой традиции, ловко приспосабливая ее к архитектуре эклектики и модерна, и его ученик Густав Климт. И позднее в рисунках Климта, особенно в эскизах монументальных групп, можно увидеть рожденные памятью о барокко сочетания линий, их неуклонное нарастание и изящное завершение, в особенности когда общее построение было вертикально ориентировано. Все это кажется неслучайным при мысли об исключительном положении барокко в искусстве и архитектуре империи Габсбургов.
Делая рисунок непременной частью своих творческих планов, Климт осознанно дифференцировал свою манеру, свободно балансируя между импровизацией и волевой разработкой темы. Однако, связав в живописи монументальные фризы и панно, проникнутые сецессионным символизмом, он не стал детерминировать стилистический набор своей графики, воспринимая ее как сферу творческой раскованности и свободы.
Климт – взгляд из постмодернизма
Впервые опубликовано: Климт – взгляд из постмодернизма // Двадцатый век и пути европейской культуры. М.: Государственный институт искусствознания, 2000. С. 95–108.
Золотые женщины Климта, отчужденно-рафинированные или погруженные в коловращение страсти… Как давно это было, сколько совершенно иных образов, далеких от воспевания человеческой плоти и культа наслаждения, сколько художественных построений, отчужденных от космической тайны человеческих сближений, возникло в калейдоскопе XX века. Целые поколения были отдалены от ослепительно-роковых наваждений Климта не меньше, чем от искусства восемнадцатого века, Ренессанса, Средневековья.
На протяжении нескольких десятилетий художники, сделавшие своим идолом бескрайний демократизм в отношении изобразительных мотивов и приемов их интерпретации, отвергали климтовское прославление избыточного роскошества. А выставленная напоказ брутальная натуралистическая аналитика в темах любви и эротизма была чем-то принципиально иным в сравнении с захватывающими экстазами Климта.
В те же года, когда работал венский мастер и его коллеги по Венскому Сецессиону, Пикассо утверждал нечто противоположное экстатическому выплеску и бьющей в глаза декоративности. В его произведениях голубого и розового периодов покоряет поэтическая простота и проникнутая поиском духовных соотнесений с миром созерцательная сдержанность. И в искусстве других мастеров, стадиально близких Климту, но хронологически опережающих его, символистский старт, наряду с концепционными сближениями, оформляется эстетика совершенно иного рода. Уже в ранних графических листах Мунка мотивы пронизанного чувственным томлением обнаженного тела даны с изысканным и при этом энергетически заряженным минимализмом.
Собственно оппозиция тому, что так увлекало этого венского мастера, началась уже с выходом на арену его молодых коллег и учеников по Сецессиону – Эгона Шилле и Оскара Кокошки. Испытав на первых порах влияние признанного лидера движения, они пошли принципиально другим путем. «У Шилле блеск роскоши уступает место скромной простоте, красота которой светится иначе, чем красота у Климта. Фольклорные вышивки и расколотые кувшины с крестьянской росписью несут в себе иную праздничность, нежели мир византийской мозаики и рафинированная элегантность элитарного вкуса». «Эротика Шилле уходит корнями в сердцевину его личности и поэтому изначально исповедальна и правдива. У нее мало общего с похотливой пресыщенностью или пикантностью, характерными для конца века, она воспринимается скорее как исполненное страданий бремя, которое приходится нести»[74]74
Мич Э. Эгон Шилле // Вена на заре XX-го столетия. – Вена, 1990. С. 23.
[Закрыть].
Добавим к этой очень точной характеристике современного австрийского искусствоведа и глубокое отличие от климтовских изображений обнаженных фигур Шилле, в которых словно выступают на поверхность следы пульсирующей в венах крови, а сами тела выглядят то синюшными, то анемично бесцветными. У Кокошки в чем-то несомненно инспирированная Климтом золотистая озаренность детских фигур драматизирована полыхающим красно-оранжевым фоном – метафорой чреватого эсхатологическим предчувствием переживания. А возникающее в последующих работах художника вторжение черных и темно-зеленых тонов усиливает тему ужаса перед неизбежно наступающим гибельным финалом. Все это решительно отличается от торжественного апофеоза страсти в символических композициях Климта.
И все же невозможно вовсе отделить Климта от экспрессионизма.
В его поэтике и символических олицетворениях, характерном обыгрывании приема гротеска, диссонансе графических и цветовых сочетаний, фактурно-красочных метафорах фона дают себя чувствовать проявления экспрессионистского мышления. Сразу несколько его вариантов заключает в себе „Бетховенский фриз“. Графические силуэты летящих «Вестниц», тающие и изменчиво волнистые, заключают в себе настроение тревожной призрачности, контрастирующее с брутальной экспрессивностью изображения золотого рыцаря с мечом. В этом контрасте к ним присоединяются силуэт-но очерченные карандашные фигуры взывающих о помощи. Высоким образцом насыщенной экспрессивной пластики стал фрагмент группы «Враждебные силы». Климт удачно использует здесь ритмический повтор насыщенного звучание черного с золотом, чтобы создать образ агрессивной красоты.
В своих экспрессионистских разработках Климт был более литературен, чем его младшие коллеги Кокошка и Шилле. Вместе с тем тот же «Бетховенский фриз» дает примеры такой конструктивной собранности и цветового аскетизма, которые подстать искусству 20-х годов (фигура „Разъедающей печали“).
Кратко остановимся на другой сложной проблеме, имеющей отношение к укоренению Климта в искусстве XX-го века – его взаимоотношениях с абстракционизмом. Касаясь этих его исканий, многие исследователи делают акцент на все покрывающей орнаментальности. Однако несколько полотен и монументально-декоративных работ, принадлежащих мастеру, заставляет в ряде моментов воспринять такую характеристику как недостаточную.
Необходимо прежде всего посмотреть, в какой функции выступают декоративные фоновые решения Климта. Во многих случаях они действительно включают орнаментальные мотивы, однако не как главенствующие, а как часть продуманно построенной геометрической структуры. Порой даже не важно, присутствует тут портретная или символическая фигура, есть или нет родства с тем или иным орнаментальным истоком.
В конечном итоге мы воспринимаем эти работы как некую, обладающую высокой эстетической нагрузкой, самостоятельную структурную цельность. А в огромных фризах, которые Климт выполнил для украшения виллы бельгийского миллионера Стокле в Брюсселе (1905–1909) обращает внимание появление на больших свободных фонах абстрактно-геометрических композиций. Вкрапление в некоторые из них природных материалов, более всего полудрагоценных камней, не меняет этого главного впечатления.
* * *
Как активная и самостоятельная нота входят в XX век новации Климта в композиционно-пластической сфере. Его конструктивное понимание художественной формы воплощено даже более последовательно, чем многие разделы разработанной художником концепции человека и мира. Этот сецессионный живописец увлекает восклицательным звучанием целого, его непреложностью и широко заявленным масштабом. На подступах к новому веку Климт был среди немногих, кто смело пошел на укрупнение сразу читаемой формы. Открытость и одновременно продуманная сформулированность живописных решений Климта и по сей день в значительной мере объясняет их притягательность.
Казалось бы, что можно ожидать от художника, начинавшего свой путь как любимец Салона, да и дальше часто работавшего с оглядкой на него. Тем более, что XX век породил многие приемы структурных решений. Известен вклад в этот и поныне непрекращающийся процесс конструктивистов и абстракционистов, сюрреалистов и искусства действия. В меньшей степени оценены в этом отношении искания и обретения, связанные с модерном и всей эпохой „около 900-х“. Оригинальное сопряжение в живописи Климта монументального структурирования и разнообразных форм декоративности, было и остается открытием большого масштаба.
Его мозаичные орнаментальные феерии и по сей день пример смело организованной пластики живописной картины, живого, лишенного заданности синтеза, вместившего в себя непререкаемые обобщения и артистическую жизнь микроэлементов, цветовую озаренность и емкие графические ходы, контрасты анемичной бестелесности и декоративной нарядности. Многообразие приемов структурирования отличает Климта как от сознательного пуризма ряда представителей кубизма и конструктивизма, так и от известной однозначности пластических построений 60-х годов.
Еще раз нельзя не вспомнить о традициях. Анализируя происхождение стиля родоначальника Венского Сецессиона, все исследователи указывают на его основополагающую связь с мозаиками Равенны, алтарными образами фра Анжелико, орнаментально украшенными мумиями и рельефами египетских гробниц. Без изучения этого опыта живописные структуры австрийского мастера едва ли обрели бы такую органичность, такую непререкаемую определенность. Сочетание прихотливого движения насыщенных светом декоративных потоков с ясными очертаниями и цветовой однотонностью больших плоскостей складывается в одновременно устойчивую и вибрирующую пластику, в которой соединение, перетекание, борьба и статическая остановка форм происходит в поразительно живом ритме, структурно обнажая целое.
На этом фоне как-то отходят на второй план разного рода уступки Климта чему-то по существу им преодоленному.
* * *
Под конец XX-го века в оценках Венского Сецессиона и прежде всего искусства его основателя и лидера Густава Климта, происходят серьезные перемены. Заинтересованный прием выставки „Вена на заре XX-го столетия“, под разными названиями показанной во второй половине 80-х годов в австрийской столице, Париже, Нью-Йорке, Токио, и наконец в 1990 году в Москве в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, стал важным свидетельством этого. Сегодня ясно, что успеху выставки способствовала новая атмосфера в изобразительном искусстве и культуре. В 80-е годы ширилось понимание исчерпанности многих линий авангардной живописи. Стала неприемлема их известная отчужденность от сложности и многослойности современного бытия, ригоризм по отношению к прошлому. Осознанной реакцией на аскезу авангарда оказался постмодернизм. Влекли его свободное сопоставление находящих в разном времени и пространстве явлений, апелляция к памяти человечества, избавляющий художника от нормативного диктата плюрализм стилевых сопряжений. В постмодернизме видели возможность выйти к более широким категориям мышления, объемлющим универсализм природы, связи прошлого и настоящего, отношения вечности и временности, национального и универсального.
В развивавшемся на территориях бывшей советской империи искусстве все чаще происходил перенос акцентов – от социальных проблем к поискам не детерминированного образа мира, к осознанию исконных начал в природе и человеческом существовании. Гораздо меньшее значение получили на этом фоне сокровенные переживания личности. Это относилось и к все еще остававшимся на периферии темам любви, интимных взаимоотношений мужчины и женщины. В живописи, литературе, кино они питались взращенным десятилетиями стыдливого умолчания и подавления естественных чувств протестным сознанием. Однако если в изображении природы художникам порой удавалось выразить свои представления об универсальности и потаенных движениях мира, то мотивы любви и сексуальности не обрели сколько-нибудь ярких воплощений. В этом контексте открытость, с которой поэтизировал Климт любовное вознесение души и плоти, произвела подлинный шок. Превратить любовь и сексуальное влечение в едва ли не главную проблему человечества осмелился только Фрейд. Так же, как и он, Климт, гипнотизируя современников, оказался притягательным и новым почти сто лет спустя.
Этот австрийский мастер принадлежал к тем немногим живописцам девятисотых и десятых годов, что увидели человека один на один с огромным миром. С одной стороны человек оказывался сопоставимым с его бесконечностью, включающей в себя и космос природы, и неизведанные пределы, в которые еще не проникла земная мысль, и отсветы божественного, и трудно охватываемую связь времен. С другой – он должен был обрести устойчивость, удержаться. Спасительным началом виделась любовь, органичность и непостижимая до конца высота человеческих сближений. Климт отразил одно из характерных настроений рубежной поры, соединил любовное переживание в интимно-эротической сфере с образом страшного и сияющего мира. Пожалуй никто, исключая Врубеля и некоторых прерафаэлитов, не сумел достичь такой доверительной поэзии в сочетании интимного и Вселенского, передать ощущение безграничных космических широт и ничем не скованной открытости чувств. Климт шел в этом параллельно таким художникам, как Шагал. Как и последний, он оказываясь востребованным прежде всего благодаря эмоциональной свежести своих образов.
Эмблемой творчества Климта стал мотив объятий. Смысл его отнюдь не равен бессознательной эмоциональной ангажированности. Доминанта совсем иная – фатальность и непреложность человеческих сопряжений. В „Поцелуе“ (1907–1908) и других произведениях лидера Венского Сецессиона по-своему решается одна из главных проблем XX-го века – преодоление людской разделенности. В связи с этим характерна финальная сцена „Бетховенского фриза“ – хор славит любовное соединение двух существ.
Несколько в ином плане раскрывается климтовское понимание человеческих сближений в ряде картин мастера, объединенных мотивом калейдоскопа („Жизнь и смерть“ 1911–1915). Одно из типичных для символизма понятий – образ человеческого множества, интерпретирован им не как стихийное устремление и не как необходимое обнаружение себе подобных, а как духовное притяжение связанных законами земной жизни существ („Жизнь и смерть“1911–1915). Эти концепции Климта и, в частности, понимание человеческого сообщества как одного из средоточий циклических движений мира, ныне вновь привлекают внимание. Сказывается усталость от социальной активности и потрясений, возрастает интерес к биологическим началам жизни.
Вновь вызывает интерес и другая тема в искусстве Климта – борьбы полов, агрессивного устремления к господству, активизации враждебных человеку сил. Как огромная панорама человеческих деяний, созерцательного удаления от реального мира, стихийной разрушительности, одиночества и торжества любви воспринимается едва ли не самое оригинальное, что ему удалось создать – „Бетховенский фриз“ (1902). Это с необычайным размахом обозначенное в символах переживание широты и противоречивости мира, при всей порой упрощенности отдельных метафорических ходов, корреспондирует с идеями и реалиями XX века.
Характерна актуализация в живописи постмодерна ведущих климтовских мотивов. Погружение в сон как отлет от реальности, обретение блаженства, осуществление заветной мечты, вошло в искусство Климта, начиная с его картин „Три возраста женщины“ (1905), „Водные змеи“ (1903–1907). А в последующие годы по своему варьировалось в „Данае“(1907–1908)”, „Молодых девушках“ (1913) и многочисленных рисунках. Даже летящие вестницы в „Бетховенском фризе“ представлены с закрытыми глазами. Распространение мотивов сна в изобразительном искусстве 1980 – 1990-х годов, и, в частности, в русской живописи, наводит мысль о неслучайных параллелях. Конечно, климтовские сны всегда эротичны, пронизаны смешанной с поэтической мечтой чувственной опьяненностью. Такое прочтение дополняется сегодня прорывающимся сквозь эротическую дымку тревожно-роковым отсчетом мысли, настойчиво повторяющейся темой обескровленного человека.
В этой и других гранях постмодерн, возобладавший в советском и постсоветском искусстве в конце 70-х и 80-х годов, соотносился прежде всего с климтовской природно-вечностной формулой. Для художников, склонных к ерническому абсурдизму, мотивы сна диктовались иным интересом – к усиливавшемся у венских мастеров начала века, в том числе у Климта, культу безобразного.
Если перейти от этих несколько специфичных российских и советских примеров к характерным признакам искусства постмодернизма в его широком диапазоне, появится немало других сближений и параллелей с тем, что делал Климт и его единомышленники. В отражении в его творчестве сближения элитарной и массовой культуры, восприятии истории как сохранившихся в предметной сфере знаков, охвате далеких друг от друга художественных пластов как эстетически равноправных обнаруживаются весьма многозначительные сцепления.
Вначале обратим внимание на полярности Климта. Его живопись была таким соединением чувственности и застылости, фиксированности изображения и его внутренней рефлексии, томительности и стрессовости, ощущения коллапса и одновременно потенциальной возможности взрыва, которое по существу близко к постмодернистскому чувствованию и мировидению. Некоторые из этих общностей диктуются, возможно, близостью исторических этапов, своеобразной атмосферой начал и концов, переживанием рубежности. Таинственная динамика эйфории и затухания, которая нашла в живописи Климта неповторимо артистическое выражение сто лет назад, оказалась притягательной ныне. Естественно, не одного Климта манили эти духовные всплески и духовное истончение личности. Уистлер, Моро, Россети, Выспянский находили свои пути, чтобы вникнуть в сложные параболы чувств, отражающие человеческое вознесение и утрату жизненных сил. Но в свете философии постмодернизма одновременное сосуществование этих духовных состояний, как например, в женских образах Климта, воспринимается как знаковое обозначение крайних пунктов имеющего далекую историю феномена.
Соотносимым с постмодернизмом оказалось соединение климтовской экстазности и климтовского эмоционального столбняка в изображении женщин и сцен любовных объятий с декоративно-графическим абстрагированием – метафорой накопленных за многовековую историю художественных ценностей. Хотя сегодня прояснены далеко не все значения орнаментальных эскапад Климта, их упомянутая ипостась – одна из главных. Смысл этих метафор отнюдь не сводится к влечению к праздничному великолепию былых времен. Сильнее, чем ностальгическая рефлексия, сказалось намерение художника мыслить прошлое и современность как сложную, непрерывно обновляющуюся связь и единство.
Об этом же свидетельствует соседство в его декоративных фонах и композиционных репликах изобразительных сцен древних орнаментов, цветовых и структурных элементов средневековых витражей, мотивов тканей и миниатюр, вариаций образов Веласкеса и персонажей египетских рельефов. Это „пластовое“ мышление близко постмодернистской теме эстетического равноправия самых различных эстетических подходов и явлений.
Напомним о другом. Персоналии портретов и монументальных композиций Климта видятся среди знаковых элементов, занимающих почти все поле изображения. Такая метафора рождает привлекательное для художников 70–80-х годов нашего века переживание затерянности в прошлом. Осенение прошлым, превращение современности в родственную ему по масштабу значимость – таковы тенденции Климта.
Многозначно в этом контексте воспринимается тема золота – одна из самых излюбленных у Климта. В пору демократизации искусства, она с презрением отвергалась. Напротив, в период торжества постмодернизма в художественном круге стало популярным возвращение к золотым иконным фонам, золотой орнаментике восточной миниатюры, золотой ювелирной отделке. Вновь, после долгих лет сдержанности, культивируемой как одно из основных обретений нового века, в живопись вернулась жажда декоративного роскошества. Особую востребованность произведений Климта его золотого периода нужно рассматривать и в этой логической связи.
Еще один существенный штрих прибавляется к общему для Клим-та и некоторых других мастеров сецессионной эпохи и отдельных ветвей постмодернистского искусства увлечению праздничным великолепием – сакрализация символических изображений. Стремление сообщить ему священство, представить как духовно-мистический акт прочитывается в одном из самых известных произведений Климта „Поцелуй“. Слитная монументальная форма фигур воспринимается как памятник человеческому сближению, а сам поцелуй как сакральное действо, освещенное золотым сиянием прикрывающей любовную пару ризы. „Бетховенский фриз“ с самого начала трактовался художником как алтарь, вдохновленный написанной композитором ₶Одой к радости“ – финалом его Девятой симфонии. Знаменитая сцена превращающихся в огонь любовных объятий на фоне поющего хора видится как священный торжественный ритуал.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?