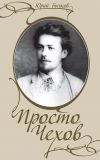Текст книги "Неизвестность искусства"

Автор книги: Игорь Светлов
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Искренность прерафаэлитов
Впервые опубликовано: Искренность прерафаэлитов // Собрание. 2014. № 1. С. 92–99.
Первая и пока единственная выставка английских прерафаэлитов в России получила поистине феноменальный отклик. Взволнованная атмосфера ощущалась и на многолюдном открытии, и тогда, когда молодые люди шли и шли на встречу с английскими и американскими кураторами выставки, и в полярной реакции газет, журналов радиостанций. Оказавшись лицом к лицу с оригинальным творчеством, в котором поэтическая загадочность сочеталась с наивностью, а мистические прозрения с доскональной оптикой изображения, московская публика были заинтригована. Слишком непривычным был для нее и характер живописного письма с преобладанием локальных цветов, и сближения сцен реальной жизни с мотивами религии и мифологии, и многочисленные картины, посвященные женской красоте, теме любви.
Редко приходилось видеть широкую выставку национального искусства, столь органичную в своей эмоциональной и поэтической тональности. Искренность, гуманитарное приобщение к литературе и истории, естественно, не были гарантией творческих удач, но как и просветленный колорит большинства полотен создавали атмосферу человеческой озаренности. Как замечает Э. Лаевская: «Прерафаэлиты основываются на опыте примитива», – они рассказываю сюжет, как бы иллюстрируют его. При этом они хотят быть верными правде изображенного – сохраняют точность костюма, детали, доходят до археологической скрупулезности. Они подражают чистым не смешиваемым краскам старинных мастеров, разрабатывают свою технологию, приближающую станковую картину к фресковой живописи»[36]36
Э. Лаевская. Англия. Изобразительное искусство // Искусство XIX века. Том 3. СПб., 2004, С. 35
[Закрыть].
Активность живописного чувствования, вновь и вновь возникающий экзотический колорит Евангельского Востока или Средневековья, и главное – поэзия потаенной или открыто эмоциональной жизни личности, побуждает интерпретировать искусство прерафаэлитов как всплеск национального романтизма. В середине XIX века живопись нескольких европейских стран тяготела к романтическому мышлению. Творчество английских прерафаэлитов оказалась самым представительным их пришествием. Наглядно демонстрируя эту ситуацию, московская выставка корректирует представление об узком диапазоне английской живописи после Тернера.
Интересна в этом смысле историческая динамика в английском искусстве. Еще во второй половине XVIII века английские пейзажисты ярко и энергично ощутили романтический дух мироздания. Создавая озаренные фантазией сочетания неба, лесов и полян, они дерзко противопоставляли темные массивы и озарения света, интригующе обнажали прорывы между деревьями, манили далекими перспективами рек и облаков. Не имеющее аналогий романтическое цвета – представление Уильяма Тернера вновь, после Блейка и Фюсли, сделало пейзаж эпицентром национального романтизма. С известным опозданием по отношению к французским и немецким открытиям, прерафаэлиты вернули свойственный романтизму живой отклик на мир, представив человека жаждущим любви и красоты рыцарем, мечтателем и страдальцем. Тем самым был восстановлен исторический баланс английского романтизма.
В этой активно обрученной с миром живописи много не стандартного в том, как найдено место романтического героя в пейзаже или интерьере. Оживляя фигуры красочными ударами, намечая по примеру проторенессансных мастеров горизонтальную протяженность или арочную конфигурацию картины, прерафаэлиты без излишней тяжеловесности связывали её с архитектурой. Имеющая арочное завершение картина Джона Миллеса «Ариэль завлекает Фердинанда» (1849–1850), сюжет которой перекликается с шекспировской «Бурей», могла бы восприниматься как книжная миниатюра, но благодаря своей цветовой энергетике работает и на дальнее расстояние Художник сосредотачивает внимание зрителя на акцентированной красным и розовым цветом фигуре юноши, пролагающего свой путь среди нежной зелени весенних деревьев и трав. Мириады духов пытаются сбить с пути потерпевшего кораблекрушение путешественника, но вопреки им он продолжает свое искательство.
Выставка свидетельствует о том, как взволнованно относились прерафаэлиты и к другой характерной для романтизма теме утраты юной жизни. Привлекла внимание зрителей картина Генри Уоллеса «Смерть Частертона» (1856). Изображение чердачного интерьера и соскальзывающей вниз фигуры семнадцатилетнего поэта, покровитель и пропагандист искусства прерафаэлитов Джон Рескин назвал мрачно-достоверным. Возможно, сегодня этот образ вызовет слишком назойливые литературные ассоциации. Но прерафаэлиты не боялись таких обвинений. Многое в сюжетах и мотивах их творчества было подсказано литературой, а такие из них, как Данте Габриэль Россети и его брат Майкл были поэтами, очеркистами, авторами литературных рецензий и обзоров художественных выставок. Их вдохновляли и старинные баллады, и произведения близких им по времени поэтов-романтиков, особенно Китса и Тениссона. Часть из них открыто уподобляли свои самые значительные произведения в притче и балладе. Все это однако не дает оснований утверждать, подобно некоторым английским критикам, что прерафаэлиты путали литературу и искусство. Их выборы в литературном творчестве современников и сказаниях далеких лет были индивидуальны и обоснованы, а первоначально заимствованный ими у писателей сюжет во время работы над картиной существенно менялся. Встреча с литературой не ослабляла, как привыкли думать сегодня, а активизировала метафорическое мышление художника. Естественно, в этом сближении были разные уровни. Но когда удавалось отмести боковые ходы, по-своему обрисовать основные персонажи, по новому открывалась суть навеянного поэзией творческого замысла.
И он сам, и поэтика романтического образа живо увязывались у прерафаэлитов с поисками структурных решений, соотношением фигур и фона как основных величин картины. При этом природа, пейзаж были индивидуальной вариацией на тему вечности мира и пульсации жизни. Обозначая новые поэтические горизонты искусства, прерафаэлиты одновременно подобно ученым изо дня в день исследовали рельеф холмов, конфигурацию кустов и деревьев, рисунок каждой травинки и листа.
Как этот сверх достоверный микромир стал одним из основных параметров романтической концепции картины свидетельствует бренд выставки – картина Джона Миллеса «Офелия» (1852), ошеломившая зрителя не меньше, чем в момент своего создания.
Нужно было широкое видение классической литературы и природы, и конечно немалая творческая смелость, чтобы представить лежащую на дне ручья роскошно одетую молодую девушку в окружении деревьев, кустарников, трав. Со слов и записей художника известно, с каким фанатическим упорством он писал и рисовал с натуры пейзаж, параллельно охватывая целое и вникая в детали, чтобы найти в природе ответ, бросающий последний взгляд на мир шекспировской героине. Такого символического звучания зеленых трав и растений, такого мерцания белых цветов достигнут спустя несколько десятилетий Моро и Редон. О последнем заставляет вспомнить и красный цветок в руках Офелии.
Литературные связи не были единственными у прерафаэлитов. Драматическим разворотом действия, напряженностью жестов актеров, зримой достоверность декораций их увлекал театр. На выставке немало следов восхищения художников «оперным романтизмом». Сцены свидания в тюрьме, образ театрально стоящей у окна женской фигуры имеют именно это происхождение. Что же касается драматического театра, но оригинальным свидетельством его влияния на прерафаэлитскую живопись стала показанная на выставке картина того же Миллеса «Христос в родительском доме (1850–1851), ее широкое стереофоническое пространство и режиссерское определение амплуа персонажей.
* * *
Выставка в музее им. А. С. Пушкина побудила задуматься о соотношении интровертности и экстровертности в искусстве прерафаэлитов. Вобравшее в себя огромный круг впечатлений, литературных образов, памяти об архитектуре и пейзаже, оно явило собой и иное, предвосхищающее декаданс стремление – изолироваться от реальной жизни, погрузиться в душевное одиночество. Много написано о том, как принадлежащий к кругу прерафаэлитов Уолтер Деверел испытал подлинное потрясение, увидев в шляпном ателье лондонскую модистку Элизабет Сиддал. Погруженная в душевную меланхолию, она стала музой прерафаэлитов. Они постоянно оспаривали друг от друга право запечатлеть девушку в картинах, портретах, карандашных зарисовках. В этом эпизоде примечательны и туманные прочерки идеала, равно далекого от романтической аффектации и викторианского сентиментализма, и настойчивые попытки найти ему жизненный эквивалент. Какими бы мечтателями и фантазерами ни были художники, входящие в эту плеяду, им обязательно нужна была ссылка на реальность.
Ставшая женой Данте Габриэля Россети Элизабет Сиддал, в отличие от большинства его подруг, не была ни красивой куклой, ни самодовольной натурщицей. Ее смерть в раннем возрасте от сознательной или случайной передозировки лекарств потрясла молодого вождя движения. Сиддал была не только вдохновительницей прерафаэлитов, но и автором поэтических акварелей, часть которых экспонировалась на выставке в Москве. Вот что пишут по поводу них в каталоге Тим Барринджер и Джейсон Розенфельд: «Диалог с Рос-сети и последующее покровительство Рёскина позволили Сиддал до некоторой степени развить свой собственный оригинальный художественный стиль. И хотя до наших дней дошло не так уж много ее работ, они демонстрируют готовность Сиддал уйти еще дальше от академических норм, чем ее собратья мужчины»[37]37
«Викторианский авангард» // «Прерафаэлиты Викторианский авангард» М., 2013. С. 19
[Закрыть].
Выставка в ГМИИ позволяет увидеть варианты эволюции прерафаэлитского эстетизма, вдохновленного обликом Сиддал и других спутниц художников. В одних случаях суховато-графичный стиль живописи сближается с декоративным плакатом, а прототипы его олицетворений все более замыкаются в своем отрешенном одиночестве. Но все чаще рождается и нечто противоположное: плотско-эротический идеал красоты соединяется с роскошной костюмировкой в духе старых мастеров. Оба эти направления представлены в экспозиции произведениями Д. Г. Россети. В ставшей также, как и «Офелия» Миллеса, одним из главных брендов выставки картине «Прозерпина» (1874), вдохновленной поздней любовью художника Джейн Моррис, он поэтизирует полное неизбывной грусти лицо темноокой женщины, болевое скрещение ее рук, как во времена маньеризма облегающие ее статную фигуру голубые покрывала. Но в серии портретов натурщиц и любовниц, написанной Россети во второй половине 1860-х – начале 1870-х годов, возникает другая интонация – сочетание апатии и агрессивности. Демонстративная апелляция к венецианским мастерам в атрибутике и самом типаже изображения усиливает эту оскорбляющую вкус гламурность.
Возможно, прежде всего именно эти портреты, вызвавшие резкую отповедь Уильяма Ханта и других известных английских живописцев, стали для некоторых наших публицистов поводом, чтобы дезавуировать все творческое наследие прерафаэлитов. Обнаружение стилистических компромиссов используется, чтобы осмеять их выступление против академизма, как малооригинальный оценивается на фоне назарейцев их романтизм, не представляющей ценности видится их связь с искусством рубежа веков – Оскаром Уальдом и Обри Бердслеем. И самое главное – объявляется, что прерафаэлизм был «первым сознательным движением в сторону массовой культуры»[38]38
Анна Толстова. «Глянцевые пророки» Weekend, 7 июня 2013 № 21. С. 13
[Закрыть].
Естественно, то или иное направление в искусстве может вызывать у потомков разные чувства и оценки. Едва ли правильно игнорировать исторический процесс с его сложным пересечением творческих исканий и тенденций, сменой обретений и отрицаний. Есть и еще одно сомнение: стоит ли судить о том, что было полтора века назад, примеряя популярные образцы моды и искусства наших дней.
Что касается эстетизма прерафаэлитов, то он был исторически опережающей тенденцией и отнюдь не исчерпывался творчеством Россети. Выставка в ГМИИ полна таких примеров. В картине Артура Хьюза «Свидание» (1860) утонченность и прихотливость изображения играет важную роль, определяя значительность и таинство любовной встречи. Выхваченная снопом света в пространстве сада фигура молодой девушки в обрамлении белых цветов и отведенная в тень фигура юноши сродни образам символизма.
Сближается с ним стилистикой модерна и один из признанных шедевров Эдварда Берн-Джонса – портрет Сидонии фон Борк (1860). В нем однако совсем другая тема. Героиня готического романа предстает в нем в облике обуреваемой страстями роковой женщины. Падающие на змеиные плетения черного платья ее огненно-рыжие волосы – знамение грядущих драм. Впрочем, изысканный графизм и специфическая цветовая акцентировка цвета волос женщины позволяют рассматривать произведение Берн-Джонса не только в символистском регистре, но и как редкий для своего времени пример декоративной экспрессии.
* * *
Разнообразны проявления творческой свободы в искусстве прерафаэлита. Они обращались к художественному наследию разных эпох и направлений. Особое восхищение вызывали у них средневековые витражи и миниатюры, и алтарные картины итальянского Проторенессанса. Если творческий диалог с Средневековьем был как в чем-то закономерным для английской культуры, особенно в сфере прикладного искусства и архитектуры, (весьма значителен факт, что прерафаэлиты распространили его на станковую и монументальную живопись, искусство книги), то обращение к ране-ренессансной традиции оказалось поразительным историческим предвидением.
Одну из граней увлечения культурой Средневековья знаменует собой творчество Уильяма Морриса. Экспозиция в ГМИИ позволяет увидеть уподобленное средневековым манускриптам книжное оформление Морриса, необходимым элементом которого стало возрождение готического шрифта, умиляющие своей поэтической простотой его эскизы обоев, близкие вышивкам и мотивами средневековых хроник орнаменты. Эти выдерживающие самые высокие критерии опыты, как и совместная деятельность Морриса и Берн-Джонса в сфере монументального текстиля, демонстрируют, что прерафаэлиты не заклинивались на станковизме.
Впрочем, путь к Средневековью начался у них со станковой живописи. Целый раздел выставки посвящен акварелям Россети 1850 годов. Их угловатые линии, наивно-уплощенные формы, соединение большого числа фигур в тесном пространстве трогательно напоминают о художественных предпочтениях мастеров доренессансной поры. Неожиданность поз, тесное сплетение рук, резкий наклон и поворот головы могут показаться несуразным, но все это полно человеческой теплоты и искренних чувств.
Еще один неповторимый исторический акт прерафаэлитов – их приобщение к тому, что в России одно время называли итальянскими примитивами. Художникам этого объединения в особенности, в «период бунта» оказался чужд эпохальный тон корифеев Высокого Ренессанса. Непонятным было им и безоглядное любование гармонией обнаженного тела. Почувствовать эту дистанцию позволяет сопоставление произведений прерафаэлитов с полотнами Тициана из итальянских музеев, показанными одновременно этим летом в залах музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. На фоне холодной утвердительности венецианца, однотипности его, статично воспроизводящих модели полотен, английские живописцы середины XIX века предстали художниками взволнованными духовной поэзией и искательством человека. Не стремясь к абсолютному совершенству, они оказались свободны от некоторых канонических установлений. Отметим, что посетителей экспозиции прерафаэлитов оказалось намного больше, чем на выставке итальянского классика.
Обозрение выставки помогает понять, сколь неоднозначен мир и искания прерафаэлитов, представленных в общих историях искусств именами двух-трех художников. В отличие от этого экспозиция в Пушкинском интерпретирует движение молодых бунтарей как одно из направлений, много сделавших для обновления живописи в разные периоды XIX века. Оставили след и символистские предвидения прерафаэлитов, и своеобразие их романтизма и эстетизма, и взятая ими на себя миссия возрождения интереса к искусству Средневековья и Проторенессанса, имевшая на фоне европейского развития самостоятельный, подчас опережающий график.
«Остров мертвых» Арнольда Бёклина – русский и европейский резонанс
Впервые опубликовано: «Остров мертвых» Арнольда Бёклина – русский и европейский резонанс // Категории жизни и смерти в славянской культуре, Институт славяноведения РАН, отв. ред. М. Лескинен и А. Софронова. М., 2008. С. 140–155.
В своих «Воспоминаниях» Александр Бенуа живо передает восхищение, которое вызывало у него, как и его родственников и друзей, творчество Арнольда Бёклина, имя которого упоминается тексте 17 раз. Будущий выдающийся художник и искусствовед впервые открыл его в 1887 г. «В течение нескольких лет, приблизительно до 1891 года мы (с дядей Александра Михаилом Альбертовичем Каво-сом. – И. С.) только и делали, что возбуждали друг друга восторгами от новых произведений «гениального Арнольда» (Бенуа 1993, 67). Описывая убранство своей красной комнаты, А. Бенуа замечает: «Над небольшим шкафчиком для книг красного дерева висели фотографии и гелиогравюры с картин моего тогдашнего бога Бёклина» (Там же, 193). Еще красноречивее, пожалуй, попытка описания подготовки к поездке в Германию: «…В специальную задачу входило увидать на этом пути елико возможно больше картин любимых художников с Бёклиным во главе» (Там же, 515).
Известно и другое. Резкое охлаждение Бенуа к творениям Бёклина, наступившее десятилетия спустя: «…С тех пор искусство Бёклина удивительно устарело, оно как-то выдохлось, испошлилось именно благодаря тому успеху, который имело во всех слоях общества и не только в Германии» (Бенуа 1980, 675). Подобную или близкую эволюцию в отношении к Бёклину переживали и другие русские и немецкие деятели искусства. Показательна эволюция И. Грабаря, К. Петрова-Водкина и других русских живописцев. Аугуст Маке, для которого Бёклин еще недавно был божеством, заявлял: «Мне любая из принадлежащих мне японских ксилографий милее, чем все базельские работы Бёклина» (Маке 1887, 119а). Изменения произошли и в позиции Коринта, Пауля Клее и других мастеров. Их высказывания по своей форме и интонации были порой весьма полемичны. Обратим внимание в избранном нами контексте исследования не только на их вполне прочерченную зависимость от эволюции художественных направлений, вкусов, пластических систем, о чем неоднократно писалось. Историческая судьба «Острова мертвых» Бёклина оказалась сложнее. С одной стороны, «Остров мертвых» рано осознали как классическое, музейное произведение. В предисловии ко второму изданию своей книги «Страницы художественной критики» Сергей Маковский отмечал: «Бёклин сделался музейным художником» (Маковский 1909, Предисловие). С другой стороны, к искусству этого мастера обращались как к смелому провидению представители «метафизического реализма», сюрреализма, постмодернизма, концептуализма.
Так или иначе, ни подлинный бёклинский шедевр, ни искания его автора не стали чем-то локальным, принадлежащим только своему времени. Это понимали уже современники. Имя Бёклина, упоминание о его самой знаменитой картине виделись в культуре в масштабном историческом ряду. Вот впечатление И. Грабаря о посещении художественного музея в Базеле, где сосредоточено множество произведений Бёклина: «Здесь перед этим великаном, то грозным, то кротким, перед волшебником, то чарующим, то пугающим, я забыл все, только что виденное мною, забыл романскую архитектуру, Бамбергскую скульптуру, кельнцев, Дюрера» (Грабарь 1901-2, 91). Макс Лерс в своей книге «Арнольд Бёклин. Путеводитель к пониманию его искусства» (1897) выстраивает такой знаковый ряд: XV век – Леонардо, XVI век – Дюрер, XVII – Рембрандт, XIX век – Бёклин (Leharsl897, 14а). В известном отрывке автобиографии Грабарь дает свой перечень: Леонардо, Микеланджело, Тициан и Пюви, Достоевский, Толстой, Бёклин (Грабарь 1901–2, 91). «Как бы плохо ни обстояло дело с искусством в Германии, у него все же есть то преимущество, что оно дало миру несколько художников, возвышающихся над всеми остальными, например Арнольда Бёклина, который, как я это вижу, превосходит всех художников нового времени», – замечает Мунк (Цит. по: Christ, Geelhaar 1990, 8).
Современники порой слишком горячо и весьма специфически воспринимают искусство своей эпохи. И все же, когда оценки весьма разных художников и искусствоведов совпадают, пусть даже они через какое-то время и корректируются, ощущается значительность обсуждаемого явления.
Примечательно и другое. Во всех случаях, даже в моменты отвержения, самые значительные произведения Бёклина оставляли сильное впечатление на просвещенных зрителей. «…Ныне никак нельзя себе представить, какое ошеломляющее действие в свое время производили его картины», – отмечает Александр Бенуа, рассказывая о своих встречах с подлинниками Бёклина. О шоковой остроте воздействия шедевров этого немецкого мастера говорили такие не склонные к благостности художники, как Сальвадор Дали и Джорджо де Кирико. «Перед картинами Бёклина Кирико ощущал примечательную радость и потрясение, дающее счастье» (Цит. по: Schmieed, Chirico, 76). Такая реакция живописцев, чьи искания нередко ассоциируются с решительным опровержением сложившейся веками логики художественной мысли, – своеобразное отражение свойственного нескольким творениям Бёклина взрывной энергии, которая имеет родство с некоторыми направлениями искусства XX в.
Дж. де Кирико, С. Дали, а также Г. Аполлинер, Э. М. Рильке, Т. Манн, композитор Макс Регер воспринимали сочинения Бёклина как выдающийся духовный, эмоциональный, эстетический феномен. Среди бёклинских картин, упоминаемых ими, обычно фигурируют «Священная роща», «Отшельник, играющий на скрипке», «Сражение кентавров» и, конечно, «Остров мертвых». Для человека конца XIX в., уставшего от позитивистского «серьеза», не знающего, что делать с переизбытком изобразительности, послание Бёклина прозвучало как весть с другой планеты. Понадобилось время, чтобы недоуменное молчание сменилось духовным сопряжением. Только на рубеже веков, когда в искусстве и обществе все сильнее ощущалась жажда обновления, возникшее еще в 1880 г. «преждевременное» творение Бёклина стало формулой поэтического мирочувствования эпохи. Взрыв обожания по отношению к его картине на временном исходе века не может быть забыт. Нельзя не учитывать, какой след оно оставило на столетии, неспособном найти ёмкую эстетическую и философскую формулу.
Впрочем, уже наиболее проницательные современники стремились разграничить истинную ценность художественных творений Бёклина и интенсивность происходящего вокруг них бума. Сошлемся вновь на «Воспоминания» Александра Бенуа, справедливо заметившего, что, если ставить в вину художнику массовый ажиотаж вокруг его отдельных работ, придется негативно оценивать полотна Пикассо, Матисса и других классиков современного искусства, вместе с ними многих выдающихся мастеров русского и европейского изобразительного искусства. На этой же позиции стоял известный русский критик Сергей Маковский. Он интерпретировал популярность работы Бёклина как знак утверждения эстетизма в кругу интеллигенции: «Бёклин и Штук прославлялись на страницах „Мира искусств“, и фототипии „Острова мёртвых“ в декадентских рамках украшали гостиные эстетов» (Маковский 1999, 271). Это свидетельство бытования картины в избранной аудитории в столичных эстетских интерьерах существенно отличалось от замечания другого ведущего аналитика европейского искусства рубежа веков и начала XX в. Якова Тугендхольда, свидетельствовавшего, что разные по уровню воспроизведения «Острова мертвых» можно найти в доме – «врача и присяжного поверенного» (Тугендхольд 1928, 65).
Существовал и иной круг циркуляции прославленного произведения Бёклина. Репродукции и гравюры с него украшали дом Льва Толстого в Ясной Поляне и дачу Чехова в Крыму, кабинет Клемансо в Париже. В Германии в 1882–90 годах сам Макс Клингер по заказам берлинского арт-галериста Фрица Горлита изготавливал гравюры на меди по картинам Бёклина «Летний день», «Остров мертвых», «Руины на море». Проще всего все это объяснить модой. В отдельных слоях населения, действительно, ощущалась именно такая ориентация. Однако в других, прежде всего в среде художественной интеллигенции, «Остров мёртвых» воспринимался как духовное средоточие времени.
Русская художественная критика – более всего Сергей Маковский, Игорь Грабарь, Александр Бенуа, – немало сделала, чтобы раскрыть глубинные смыслы и оригинальность этого произведения. Плодотворной была и сама методология, в ряде случаев принципиально совпадающая, как, например, у Маковского и Грабаря, которые рассматривали «Остров мертвых» одновременно в укрупненных категориях философии, в планах эмоционального переживания и пластического ансамбля. Такой подход позволял вникнуть в образный мир и структуру картины. При этом русские критики рубежа веков не ограничивались самыми общими суждениями, а вели углубленное искусствоведческое исследование. С ясной определенностью, но и множеством тончайших оттенков, писали они о картине Бёклина – резко отстраняясь от очевидностей и погружаясь в сокровенную духовность.
Сергей Маковский первым обратил внимание на близкую модерну и символизму «асобытийность» творения немецкого живописца, о которой он заявил абсолютно замечательно. Эта черта означала принципиальное размежевание с перенасыщенным событийным контекстом искусством XIX в. Оно обнаружилось у Бёклина уже в появившихся в 1860-х годах изображениях полуразрушенных вилл на море. «Бессобытийность» теперь зазвучала как доминанта. Взвинченности XIX в. он противопоставил тему нерушимости, насыщенным множеством костюмированных персонажей исторических и современных сцен – тишину и безлюдность. Отправным моментом в исследовании «Острова мертвых» для Сергея Маковского является атмосфера созерцания. «Живопись, как самое неподвижное в искусстве, меньше всего предназначена для повторения жизни, для передачи страстей и событий», – заявляет он в большой статье о Бёклине. И продолжает: «Обращая картину в иллюстрацию, выдвигая на первый план ее драматическую (понимаемую автором текста как сюжетно-драматургическую. – И. С.) или анекдотическую тему … живописец отказывается от главного принципа всякого искусства: вызывать в живописи созерцание жизни, а не сравнение с ней» (Маковский 1909, 23). За созерцательной интонацией образов Сергей Маковский, как и Грабарь, открывали в Бёклине многое – «его уменье отдалить современную действительность; и, с другой стороны, – приблизить старину, «сознательное желанье уйти от временного во имя вечного» (Там же, 28). В бёклинском созерцании русские критики обнаруживали разные оттенки. Грабарь видел в картине «Одиссей и Калипсо» настроение, близкое дюреровской «Меланхолии». При виде ее «вас охватывает щемящее, болезненное, ноющее чувство» … «К числу произведений, вызывающих это унылое чувство, относятся знаменитые «Вилла на море» и «Руины на берегу моря», существующие в многочисленных повторениях» (Грабарь 1901–2, 92). То, что он фиксирует позднее, весьма существенно: «Рядом с унылыми настроениями Бёклин, как никто другой, владеет таинственным. Лучшее, что им создано в этом роде – конечно, „Остров мертвых“» (Там же, 93). Характерно и высказывание Сергея Маковского: «Бёклин – исповедник природы. Задача его – досказать на полотне ее неопределенную мысль, выразить тайну, скрытую под се покровами» (Маковский 1909, 26). В этом «Остров мёртвых» – предвосхищение вселенской тайны символизма и модерна на рубеже двух веков.
Русская критика дала свое понимание таинственного в искусстве Бёклина. По мнению ее самых талантливых представителей, оно было совершенно особым сочетанием мечты и действительности. «Его воображение не имеет границ между мнимым и действительным, между очевидным всякому и невозможным для всех», – замечает Сергей Маковский (Там же, 28). И далее, обращаясь к анализу «Острова мертвых», оставляет нам поистине замечательные строчки: «И он пишет этот остров, будто его видел… Но этот скалистый замок моря – сказка. В нем могут дышать только призраки. Вещие каменные глыбы, расположенные треугольником, кажутся входом в безраздельно-глубокую пещеру, где царит нездешний мрак… Художник расстроил наше обычное представление о том, что есть и чего нет; он испугал нас сближением действительности с мечтой» (Там же, 38). Слово «испуг» в данном случае обретает многозначный смысл: неожиданность сближения в картине реального и призрачного мира, неприятие прозаической устойчивости и одновременно нашу неготовность отодвинуть ради вечности завесу жизни.
Внимание русских писателей, эстетиков, критиков привлекли в шедевре Бёклина взаимосвязь различных компонентов изображения. Как складывался этот баланс? Что помогало поддерживать равновесие композиции? Что обеспечивало сосуществование гармонии и экспрессии? Как уживались между собой сумрак и просветленность? Эти вопросы, которые задавали и продолжают задавать современные критики и исследователи, волновали творческую среду и сто лет назад. Виднейший русский писатель и теоретик символизма Андрей Белый, воспринимая «Остров мертвых» как оригинальную гармонию, по-своему прочел его колористический «минимализм»: «В «Острове мертвых» нас поражает соответствие между фигурой, замкнутой в белую одежду, скалами, кипарисами и мрачным небом (а по другому варианту – заревым небом). Этим выбором только определенных предметов выражается стремление выразить нечто однородное. Иные краски, иные тона возбудили бы в нас чувство неудовлетворенности… В последнее время все больше и больше увеличивается эта щепетильность к всевозможным диссонансам» (Белый 1994, 105). В отличие от других аналитиков «Острова мёртвых», погрузившихся в тончайшие вибрации его письма, Андрей Белый остро почувствовал необычный колоризм этого уникального произведения. Сумрак Бёклина стал предвосхищением «ночных» и «вечерних» образов европейского символизма «около 900-го». С помощью контрастов и колористических сближений живописец сделал притягательной поэзию тьмы.
Впрочем, для Андрея Белого, много писавшего о ритмических основах искусства, картина Бёклина, от анализа которой он переходит к музыке, представляла интерес и как ритмическое построение (Там же, 93). Кстати, Сергей Маковский, начинающий свою статью о Бёклине с рассуждения о поэзии живописных произведений, дает такое определение: «Поэзией картины я называю ее музыкальный ритм, ее лирическое обаяние» (Маковский 1909, 36). Однако, он заостряет внимание на чем-то противоположном впечатлению Андрея Белого: «В романтизме Бёклина почти всегда – непримиримость, тревога, диссонансы». С этим суждением нельзя не согласиться. Другое дело, что художник находит способы смягчить взрывную импульсивность этих диссонансов. Главный из них – строгая упорядоченность всех компонентов пластической формы. Убедительно продуманы фронтальное построение картины, ее горизонтальный формат, отношения светлого и темного.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?