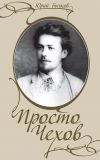Текст книги "Неизвестность искусства"

Автор книги: Игорь Светлов
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Пожалуй, никто не сумел передать фатальность этого омертвения, охватывающего настоящее и воспоминание о прошлом, бесконечную протяженность интерьера и духовную деградацию человека, как это сделал Кнопф в картине «Затворница».
Далеко не новый мотив – изображение сидящей за столом молодой девушки – превращен им в формулу роковой безнадежности. Широкий горизонтальный разлет картины, казалось, способен придать ей немалую энергетику. Но художник прочел эту конфигурацию абсолютно противоположно. Бесконечно длящаяся панорама – своего рода выставка потерявших форму и смысл вещей, предметов, лиц. Разбитая на несколько сегментов демонстрация пожелтевших фотографий городских улиц, чучела птицы, кем-то оставленных на стене геометрических построений – своеобразный музей тлена. Это настроение отражается и в смертельной бледности лица молодой девушки, ее остановившемся взоре, безнадежно опущенной на руки голове. Мумифицированная человеческая конструкция и мощный аккорд черного на переднем плане картины, резко нарушающий монотонность ее фона уничтожает всякую мысль о будущем.
Документальность и экспрессия поразительно соединяются в произведении Кнопфа, которое одновременно можно воспринять и как постановочную фотографию, и как метафору гибели мира. «В настоящее время произведения Кнопфа могут показаться похожими на документ, без всякого волнения в ощущении поверхности, и, однако, трепещущими под внутренним грузом реальности»[61]61
Roberts-Jones P. Op. cit. P. 13.
[Закрыть].
Альтернативы и синтезы символизма
(метафорические смыслы наготы и костюмировки человека в символистской живописи)
Впервые опубликовано: Альтернативы и синтезы символизма (метафорические смыслы наготы и костюмировки фигуры человека в символистской живописи) // Символизм как художественное направление. Взгляд из XXI века. Сост. и отв. ред. Н. Хренов, И. Светлов. М.: Государственный институт искусствознания, 2013. С. 182–198.
Символизм был альтернативой чрезмерному серьезу и фундаментальности XX века, его желанию все понять и все объяснить. Символисты не раз обнаруживали склонность к сосредоточенному и избирательному познанию окружающей реальности. Но больше всего их влекли тайна и мистическая бесконечность бытия. Динамика открытости и замкнутости в образе человека соприкасалась с таким многосложным видением. На протяжении веков многое в истолковании этой проблемы рождалось в соотношении наготы и костюмированного изображения человеческой фигуры. Каждая эпоха имела в этом регистре свою динамику, свои ориентиры. Чтобы понять смысл и направления такого искательства на рубеже XIX–XX веков, нужно воспринять не только шедевры символизма, но и обозреть рисунки, фотографии, образцы костюма, вспомнить о произведениях старых мастеров, мысленно сопоставить атрибуты сценических представлений и захватившее десятки художников увлечение анатомическим театром.
Какие нравственные, эстетические, психологические коллизии волновали художников-символистов, тяготеющих к этим мотивам? Какие альтернативы и синтезы рождались в их творчестве? Что осталось в их наследии единичным примером или переросло в активно заявленную тенденцию?
Рассмотрим изобразительные мотивы, ставшие на рубеже XIXXX веков поводом для исканий живописцев нескольких национальных школ. Как и другие художники символистской поры, бельгиец Фернан Кнопф стремился передать переживания одинокого, замкнутого в себе человека, заостряя внимание на своеобразии его облика и костюма. Обнаруживая склонность к своеобразному минимализму, он не скрывал своей приверженности к старой фотографии. Ближе всего была для него строгая по композиции, но не лишенная музыкального ритма и прихотливая в деталях, английская камерная фотография середины XIX века. Речь шла не только о стиле. Подобно ей Кнопф не описывает, а воскрешает в памяти.
Самое яркое свидетельство этого – картина «Мемория», («Воспоминания»), имевшая огромный успех на Всемирной выставке 1889 года в Париже. Стремясь расшифровать смысл этого сочинения, искусствоведы порой обращают внимание на мельчайшие детали в описании изображенной художником группы девушек, например на теннисные ракетки в их руках. Отчасти благодаря этому светская прогулка приобретает оттенок игровой символизации. Другие же, рассматривая картину Кнопфа как бессюжетную, указывают на свободное размещение фигур вдоль переднего края картины и их меланхолические позы.
Смысл костюмированной композиции Кнопфа нельзя уловить исходя только из категорий декоративности и моды, хотя, анализируя картину, их невозможно игнорировать. Социологи марксистского толка квалифицируют полотно бельгийского мастера как разоблачение пустоты жизни ведущих расслабленное существование дам из буржуазных прослоек. На самом деле больше всего в нем отражается тема изолированности индивида от общества, ставшая болезненной для человечества вплоть до наших дней. Призрачность людского карнавала не дает покоя художнику. Ни один из персонажей не смотрит на других, да и сам их облик проникнут атмосферой отчужденности. «Без ступней, без ног, застегнутые до шеи, они носят длинные перчатки – чистый дух. Глядя перед собой, эти женщины находятся в состоянии гипноза, – замечает Г. Меткен. – Медленно движущиеся в условном пространстве фигуры словно вмонтированы в свои платья и костюмы. Модные маленькие шляпки на их головах, тканые стеки или зонт – все это только сопровождение точно скроенных платьев с затянутыми под горло воротниками»[62]62
Metken G. Fernand Knopf et la modernite // Fernand Knopff. 1979. P. 33.
[Закрыть].
В отличие от Кнопфа и Штука, австрийский художник Густав Климт больше чем фотографии доверял своим карандашным наброскам. Впрочем, среди символических сцен из его фризов есть не уступающая фотографии по визуальной достоверности монументальная графика. Такое впечатление, например, производит один их финальных эпизодов «Бетховенского фриза» (1902). На фоне мистических знамений и декоративных позолот его объективистский натурализм воспринимается как раздражающий диссонанс. На новом витке развития живописи Климт вспоминает о том обновлении, которое вызвало появление в европейском искусстве 1870-х годов морского цикла Арнольда Бёклина. Однако, с высокой мерой точности передавая конструкцию и фактуру обнаженной мужской фигуры, Климт в отличие от Бёклина решительно избегает экзотических уподоблений. Его «анатомическая» пластика – такая вариация наготы, которая не сообщает ей ни заманчивости, ни пикантности.
Ее функция в ансамбле фриза совсем иная. На фоне золотого космического озарения и странного единения готической линейности и восточного изящества недостаточно было появления почти эфемерных существ в верхнем ряду фриза. Вставной эпизод с летящими вестницами ни в чем не определил его эмоциональную атмосферу и событийную канву.
Напротив, суховатая анатомия его финала видится как впечатляющее сочетание благородства и откровенного физиологизма, повышенной энергетики и отрешенности. Такое завершение большого монументального комплекса стало апофеозом независимой от эстетизма телесной обнаженности как символической сути человеческого бытия. В созданной несколько лет спустя картине Климта «Поцелуй» (1908) вертикализм фигур и покрывающих их золотых одежд превращен в сияющий монолит, тогда как концовка «Бетховенского фриза» с достоинством обнаруживает следы пристального изучения натуры.
На символистских выставках конца XIX – начала XX века шоковое воздействие костюмированных изображений обретало статус искусства значительно чаще, чем эффектная подача обнаженного тела. Пытаясь объяснить этот феномен, можно лишь отчасти сослаться на инерцию зрительских вкусов.
Романтическая театрализация побуждала художников обыгрывать изысканность одежд литературного или мифологического персонажа, нередко талантливо комбинируя различные исторические прототипы. Тогда как будничность и деловитость повседневного буржуазного костюма плохо монтировались с поэтическими грезами и экстазами героев символистских картин.
Облаченная в роскошные одежды человеческая фигура была синонимом духовного аристократизма. До сих пор ошеломляет созданное Джеймсом Миллесом в начальный период прерафаэлитского движения изображение лежащей на дне ручья девушки в роскошном бархатном платье, усыпанном драгоценностями («Офелия», 1848). Многие воспринимают ее как поэтический гимн красоте, обнажающей гибельный уход молодой жизни. Костюмированный эстетизм Миллеса уравновешен в «Офелии» поэзией природы – тихой прозрачностью воды, легкостью ветра, колыханием трав.
В более повелительной тональности и в изображении совершенно иной среды действия торжествует эта тенденция в картине Гюстава Моро «Саломея» (1874). Негативно отнесся к этому превращению декоративности в духовный экстаз искатель простоты Эдуард Мане, отрицательно высказались о сделавшем много шума полотне Моро Гоген и Дега. Однако оно стало оригинальным примером того, как можно с помощью богатой фактуры костюма конкурировать с мистической призрачностью храма.
Отторжение от мотива обнаженного женского тела у живописцев-символистов нередко было связано с его банальной интерпретацией экспонентами Салона. Но на рубеже веков возникли олицетворения, которые знаменовали освобождение этого мотива от прикрытых эстетизмом моральных табу. Уже упоминалось о бетховенском финале Климта. Одним из средств, помогающим обозначить символистский контекст темы обнаженных, стала фотография. Присущие ей бесконечность ракурсов, движений, жестов в интерпретации мотивов наготы воспринимались как проявление творческой свободы, а иногда и открытый вызов традиции. Особый интерес вызывают циклы фотографий обнаженных, снятых лидером Мюнхенского сецессиона Францем фон Штуком в содружестве с женой и дочерью. Их самым распространенным объектом был сам Штук. Трудно поверить, что, ошеломляя зрителя физиологическим экзотизмом, художник почти в те же годы создавал фотоэтюды другого рода. В этом театрализованном символизме костюмировка, экспрессивно обостряя ритмы и ракурсы человеческой фигуры, одновременно сообщает ей и нечто иное – томительное роскошество.
И та, и другая тенденции соединились в знаменитой картине Франца фон Штука «Грех» (1893). Правда, игровая свобода натурных фотоэтюдов уступила в ней место структурной увязке экспрессивного натурализма и роковой декоративности. Было ли это по отношению к исходному фотоматериалу шагом назад или, напротив, обретением новой одухотворенности, можно спорить. Однако энергия, с которой фрагмент обнаженной натуры поставил под сомнение рафинированную эстетику костюмированного символического образа, побуждала по-новому взглянуть на их соревнование.
Одним из итогов этого дерзновения Штука стало одновременно сужение и расширение границ таинственного.
С одной стороны, он как символист демонстрировал волю к снятию покровов. С другой – погружал в неизведанное. Немало творческих ходов возникало в этом диапазоне. Аналитика обнаженной натуры, способная противостоять чрезмерной чувствительности и боязливой уравновешенности, не зашла в искусстве рубежа XIXXX веков слишком далеко. Костюмированные экстазы, пожалуй, самое вдохновенное, что появилось в ту пору на выставках. Однако для оценки символистских поисков этого периода далеко не безразличен тот факт, что все они в немалой мере основаны на включении в творческий процесс авторской режиссуры натуры. В одном случае, как в картине Миллеса «Офелия», символистский эффект рождался уже в самом письме живописных этюдов, в другом – как в произведениях Моро и Климта, – ощущался в отдельных карандашных штудиях с натур.
А Кнопф и Штук сделали активным союзником своих символистских разработок документирование человеческой фигуры средствами фотографии.
Понятое как контраст и сцепление, такое мышление сделало картину Франца фон Штука «Грех» предельной величиной символистского синтеза.
Русский взгляд на австро-венгерскую Сецессию сто лет спустя
Впервые опубликовано: Русский взгляд на австро-венгерскую Сецессию сто лет спустя // Две империи – три столицы. Будапешт: Венгерский институт русистики, 2006. С. 87–97.
Когда подлинное и мнимое обновление XX века уже превращалось в усталость и инерцию, едва ли что-то предвещало возвращение к тому, что долго казалось досадной помехой, а на самом деле было одним из истоков новых и новых творческих обретений. По мнению известного российского исследователя модерна Дмитрия Сарабьянова Сецессия (Модерн) оказала влияние почти на все художественные направления XX века[63]63
Исключительное значение имеют его последовательное исследование модерна и символизма в европейском масштабе. Назовем, как один из примеров, монографию «Стиль модерн» Москва, 1989.
[Закрыть]. Отнюдь неслучайно сецессионизм, который в России применительно к отечественному материалу условно именуют искусством «серебряного» века, занял ныне свое отдельное место на фоне вариаций постмодернизма и неоавангарда, не смешиваясь с ними и обретая для публики и историков искусства новую притягательность. Волнуют его нервно-утонченная пластика, обращение к сокровенной сути и философской сложности отношений между индивидом и космосом, вечностью и мгновением, его попытка фронтально совместить вибрации жизни с идеальными образами прошлого.
Первоначальное открытие символизма и модерна, квалифицированных в сталинские годы как оторванное от жизни, полное мистицизма и пессимизма искусство, началось в среде нашей интеллигенции в 1960-е годы. Скрытый или программно объявленный драматизм, подкрепленный широкий ходом форм и смелыми цветовыми метафорами в живописи, и не менее выразительно, артистическим конфликтом черного и белого в графике, сделали их близким нашему шестидесятничеству. Ныне, в отличие от 60-х годов привлекают не только суммированные в модерне формальные структуры. Осознается неповторимость сецессионного искусства как полного диссонансов и одновременно озаренного мечтой о новой гармонией поэтического диалога о мире. Волнует тайна Сецессии. На разных уровнях разгадывается природа ее символических образов и метафор. Параллельно многослойному научному познанию обретает новые рамки интерес к символизму и модерну у широкой зрительской аудитории, постепенно охватывающий близкие и удаленные от Москвы и Петербурга города[64]64
Сошлемся на статьи В. Зусмана (Нижегородский государственный университет) Свое и чужое у Кафки; И. Ищук-Фадеевой (Тверской государственный университет) А. Шницлер и А. Чехов: концепция драматического героя. См.: Модерн, модернизм, модернизация. Москва, 2004.
[Закрыть].
Происходит и другой процесс. В 1960-е годы вспышка интереса к модерну более всего концентрировалась на его российском варианте, что отразилась и в искусствознании[65]65
Костин, В.: К. С. Петров-Водкин Москва, 1966. В 60-е годы вышли книги о П. Кузнецове, М. Сарьяне, исследование Н. Лапшиной об объединении «Мир искусства».
[Закрыть]. Лишь в перестроечные и в 90-е годы XX века, во многом на фоне освобождения от идеологических табу, эти границы раздвинулись. Хотя создание широкой картины эволюции европейского символизма и модерна еще впереди, отдельных ученых, и вновь созданные научные коллективы объединяет желанье по новому оценить творческий вклад различных стран и регионов в художественную практику конца XIX на – начала XX веков. Ученые постепенно восполняют свое отставание от возрастающего в среде российской интеллигенции притяжения к искусству Климта, Бёклина, Мунка, прерафаэлитов, Чонтвари, «Молодой Польши», Чюрлениса и других ярких представителей модерна и символизма[66]66
Федотова, Е.: Арнольд Бёклин. Москва, 2002; Светлов, И.: Густав Климт. Москва, 2004; Яковлев, Д.: Философия эстетизма. Москва, 1999; Национальные и международные аспекты искусства польской Сецессии. (составитель Светлов, И.) Москва, 2003; Светлов, И.: Символизм на фоне двух эпох. // Европейское искусство XIX–XX веков; исторические взаимосвязи. Москва, 1998. 23–32.
[Закрыть]. При этом традиционная французская ориентация, поддержанная в последние десятилетия многочисленными выставками и искусствоведческими исследованиями творчества Гогена, Ван Гога, группы «Наби», оказалась заметно потесненной[67]67
Примечательна оригинальным теоретическим подходом монография В. Крючковой // Символизм в изобразительном искусстве. Франция и Бельгия 1870–1900. Москва, 1994.
[Закрыть].
Вена и Будапешт, Австро-Венгрия – одна из главных средоточий этих вновь вспыхнувших и последнее время заметно усилившихся приверженностей. Определенную роль играют исторические параллели. Несколько десятилетий австро-венгерская тема в глазах российского зрителя отчасти благодаря кино и популярным историческим романам была окутана проникнутой ностальгией салонной романтикой. Ныне в истории и судьбах культуры интригует иное – финальный этап Габсбургской и Российско-советской империй, сохранившийся и возникающий в новых вариантах баланс сцеплений и разъединений, исторических разрывов и деятельной памяти. В мае 2003 года в Москве в Государственном Институте искусствознания прошла конференция «Художественные центры Австро-Венгрии», на которой выявлялись и пристально рассматривались притяжения и отталкивания Вены, Будапешта, Праги, Кракова, Львова, Любляны и других культурных центров Австро-Венгерской империи. Осенью того же года в Посольстве Польской Республики и Венгерском культурном, научном и информационном центре в Москве прошла другая международная конференция «Модерн и европейская художественная интеграция»[68]68
Ее научные результаты обобщены в издании: Модерн и европейская художественная интеграция, (отв. ред. И. Светлов) Москва, 2003.
[Закрыть]. Главным на ней было открытие новых фактов и форм европейских культурных взаимодействий. Стало ясно, что модерн и символизм создали новую общность и новую открытость этих отношений. На соотношении интеграционных и дезинтеграционных процессов в общественном сознании сосредоточили свое внимание участники конференции «Эпоха „модерн“. Нормы и казусы в европейской художественной культуре» в Российском Государственном Гуманитарном Университете в 2002 году (Москва)[69]69
С материалами этой конференции можно познакомиться в книге: «Модерн, модернизм, модернизация» (отв. ред. Н. Павлова и О. Павленко) Москва, 2004.
[Закрыть]. Сегодня очевидно, что это была плодотворная попытка сравнительного изучения общественно-политической мысли и культурного развития Австрии, Германии, России, Швейцарии. В числе проблем, которые обсуждались, дуалистический опыт австро-венгерского государства на рубеже двух веков, достижения и противоречия в его культуре в контексте процессов общественной модернизации.
Искусство австро-венгерской Сецессии занимает во всем этом особое место.
Нарастающее притяжение к искусству Климта, интерес к Венскому Сецессиону, как не оцененному в полной мере международному центру европейского искусства рубежа двух веков, загадка К. Тивадар Чонтвари, анализ структурообразования в творчестве И. Хофмана, прогрессирующее внимание к принципам и этапам формирования городского ансамбля Вены в последние десятилетия XIX и начале XX века, высокая оценка будапештской архитектурной сецессии, исследования искусствоведов, посвященных проблемам сецессионного стиля в живописи и графике австро-венгерских столиц, анализ культурологических процессов в них и периферийных центрах Габсбургской империи, огромное увлечение творчеством Гофмансталя, многозначное прочтения идей 3. Фрейда и его влияния на рубежную художественную культуру, острые дискуссии вокруг переводных книг К. Шорстке и И. Чаки, посвященных культуре, общественной борьбе и атмосфере второй половины XIX века и последнего этапа габсбургского государства – все это весьма знаменательно[70]70
Обсуждение книги К. Шорстке: Вена на рубеже веков (Санкт-Петербург, 2001.) прошло в апреле 2002 года в Государственном институте искусствознания.
[Закрыть]. Основными центрами изучения австро-венгерской Сецессии остаются Государственный институт искусствознания, Российский Государственный Гуманитарный Университет в Москве и кафедра германистики на филологическом факультете Санкт-Петербургского Университета. Проведенная этой кафедрой (научный организатор Александр Белобратов) международная конференция «Вена и Санкт-Петербург на рубежах веков: культурные интерференции» (2001) дала активный стимул изучению австрийской культуры, восприятию ее творческого всплеска на рубеже XIX–XX веков.
При всех различиях в мнениях ученых заметно углубление эстетических, философских, поэтических характеристик, в особенности по отношению к литературе и изобразительному искусству Австро-Венгрии. Венский вкус и утонченность как поэтический модуль средового мышления и выражения экстерриториальности личности, своеобразие и экзотический контекст венгерского неоромантизма, внутренние взаимодействия и соревнование между двумя столицами, двумя художественными центрами – все это стало предметом научной заинтересованности и нередко самостоятельного анализа, в том числе, когда корректируют друг друга в рамках одного издания сразу несколько авторов. Это один из примеров того, что жизнь сецессионной культуры Вены и Будапешта начинает восприниматься не сквозь пелену столетней удаленности, а как фактор современной культуры.
Климт занимает во всем этом процессе лидирующую позицию. Уже первый в России показ его произведений на выставке «Вена на заре XX века» в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве (1990) стал для российской публики подлинным шоком. Больше всего ошеломляло соединение эстетизма и открыто демонстрируемой чувственности. Непривычная для нас экспрессивная предельность поэтического воплощения одного в другом была в определенном смысле новым открытием сецессионизма для российской публики. Не меньшим откровением для нее оказался и своеобразный тип климтовской картины. Последняя предстала одновременно как икона, и натурный портрет, полная фантазии символическая композиция и что-то достоверное в фрагментах различных сцен. Уже тогда для нашего зрителя оказались созвучными смелость климтовских гипербол, артистическое преображение реальности, которому мастер придал разнообразную, но каждый раз интригующую форму. Поражало и другое – фронтальный стык современности и древних художественных эпох. Стилизацию у нас до той поры привыкли понимать как нечто умеренное, не способное волновать. Климт же вызывал своими полотнами своеобразный столбняк, но одновременно заряжал какой-то новой энергией.
С тех пор увлечение Климтом нарастало и обретало новые оттенки. Во время первой встречи исключительное впечатление произвела сопровождающая произведения этого художника декоративная экспрессия, ее активная роль в символизации образа. Ни одному исследователю импонировала широта понятого таким образом монументализма. В дальнейшем больше внимания стали обращать на неожиданность стилистических стыков, появились первые попытки анализа структуры монументальных и станковых композиций Климта[71]71
Светлов, И.: Бетховенский фриз Густава Климта – Музыкальные параллели. Искусство XX века // Итоги столетия. Государственный Эрмитаж Санкт-Петербург, 2003. 127–135.
[Закрыть]. Особое место как предмет изучения стали занимать рисунки Климта и в связи с ними тема эротизма[72]72
Шуцкая, А.: Эротизм в искусстве венского модерна. // Модерн и европейская художественная интеграция. Москва, 2004. 282–29.
[Закрыть]. В этом и других планах как продолжатель и антипод своего учителя воспринимается Эгон Шилле. Меньше изучена фигура Ганса Макарта. Его провидческий поиск идеального, аристократический декоративизм, равно как и сближение академизма и форм низового искусства, еще предстоит осознать.
Другая сторона Венского сецессионизма, в особой мере привлекающая молодых исследователей из России – творчество Йожефа Хофмана, Коломана Мозера – от конструирования мебели и предметов обихода до эстетической организации интерьера. Интерьер Хофмана видится им как шедевр геометрического ансамбля, включающего в себя продуманное и рациональное зонирование пространства и выразительное звучание чистых форм. Складывается самостоятельное понимание европейских связей Хофмана, параллелей и взаимосвязей его исканий с опытом школы Глазго, открытиями Чарльза Рени Макинтоша. Их стремится по своему раскрыть молодая исследовательница из Государственного института искусствознания Елена Федотова[73]73
Федотова, Е.: Ч. Р. Макинтош и И. Хофман. Диалог в пространстве интерьера. // Модерн и европейская художественная интеграция, Москва, 2004. 415–421.
[Закрыть]. Все это, естественно, только начало. Российским искусствоведам и культурологам еще предстоит вникнуть в философские основы минимализма Хофмана и Макинтоша, осмыслить их замечательную роль как декоративистов и анти-декоративистов. Наконец, понять духовные открытия их искусства, учитывая смелые и неверные выводы XX века.
Впрочем, уже сам интерес к венскому геометрическому эстетизму после восхищенного увлечения российских историков и любителей искусства органической пластикой и витальной декоративностью блестящего ряда представителей Венского Сецессиона знаменателен. Эти перемены – знак более динамичного отношения к его многогранному наследию. Еще одним свидетельством расширяющегося видения этого стал первоначальный анализ пространственно-декоративного ритма больших международных выставок, которые проводились в Вене в 1900-е и последующее десятилетие.
Вена – Будапешт… Параллели, схождения, различия. Не все здесь еще прояснено, тем более для наших исследователей. Но важно ставить вопросы, не уходить от них. Один из вопросов, возникающих все чаще, – почему в находящемся в двух часах неторопливой езды от Вены Будапеште не был подхвачен поразительный взлет Климта, а европейские ориентиры Венского Сецессиона не оказали ощутимого влияния на развитие венгерского искусства рубежа XIX–XX веков. Естественно, тут нужно сделать немало оговорок, как в отношении таких сфер художественной деятельности, как архитектура и прикладное искусство, так и творчества отдельных индивидуальностей. Нельзя, например, забыть о Яноше Вассари. Показ его картины «Любовь» и других произведений на выставке в Эрмитаже, способен повысить статус этого своеобразного мастера, интересного символиста и экспрессиониста, в глазах российского зрителя. По сведению сотрудницы будапештского Института истории искусств Каталин Геллерт – один из самых поэтичных венгерских символистов Лайош Гулачи, ориентирующийся преимущественно на бельгийскую школу, но имеющий в отдельных случаях венские аналогии, еще в студенческие годы пытался в своей письменной работе дать аналитику художественного почерка Климта. Влияние венских примеров можно заметить и в творчестве других живописцев, скульпторов, графиков.
И все-таки венское обновительное движение не совпало с главными художественными устремлениями Будапешта и тем более таких венгерских колоний как Надьбанья, Сольнок, Геделе. Не все объясняет соперничество двух столиц, хотя его нельзя сбрасывать со счетов. Играли роль исторические ритмы культуры, разнообразные социальные факторы. Как центр одной из крупнейших империй Вена переживала ее финал как напоминание о былом величии, изысканности дворянской культуры, стремясь к возрождению большого стиля. Климт творил нарядное, поражающее своим великолепием аристократическое искусство. Хотя оно и вмещало в себя время от времени жесткую аналитику личности и прорисовку драматических альтернатив человечества на фоне ушедших эпох, средоточием его была понятая как абсолют Красота. Напротив, большая часть венгерских живописцев, монументалистов, графиков связала себя с далекой от господства эстетизма «народной» линией. Их основным притяжением были венгерское народное творчество, его поэтическая мифология, своеобразная эстетика венгерской деревни, одухотворенный несколько запоздалым выходом на пленэр национальный пейзаж. Такой национальный акцент отчасти сравним с тем, что происходило в искусстве ряда европейских стран, в том числе и в России. Впрочем, во всем этом было множество оттенков, вызванных противостоянием давлению все еще могущественного в Венгрии академизма, изменением былой жанровой иерархии, рождением иного по сравнению со второй половиной XIX века представлением о том, каким может быть искусство по отношению к жизни. Непросто давалось попытка обрести почвенность в своих пенатах и одновременно освоить новый язык европейской живописи. Еще требует анализа в нашей науке духовное содержание многообразных пленэристских опытов венгров. По новому звучат сегодня произведения Кароя Ференци. Некоторые его картины мы видели не столь давно в Москве на выставке «Семья Ференци», но теперь в состоянии оценить их не только в аспекте влияния тех или иных господствовавших на рубеже XX века живописных концепций, особенно импрессионизма и постимпрессионизма, но более широко, – как духовно-нравственное размышление о мире, содержащее в себе элементы символизма…
Но, пожалуй, более интересен еще один пласт венгерского сецессионизма, с которым знакомит выставка в Эрмитаже, – духовно-визионерский. На его фоне то, что делали в Вене тот же Хофман, Мозер и их круг, ощущаются даже тогда, когда они связаны с барочной традиции, нечто рационалистическое. Проникнутые визионерством и часто обращенные к духовной вибрации природы картины Чонтвари стоят в этом контексте особняком. Впрочем, устремленность, с которой этот художник шел к воплощению своей мечты, напоминает Климта. Сходство между двумя этими столь разными, но бесспорно выдающимися художниками, прослеживается и в другом – приверженности к монументальным полотнам с символическим множеством человеческих фигур и одновременно интимной удаленности от треволнений мира в одном случае в зеленую ауру природы, в другом – в небольшие затерянные в Средиземноморье средневековых города. Еще одно характерное для символизма сближение – экзотизм вдохновленный у Климта Древним Египтом, классической Грецией, Равенной, а у Чонтвари – эллинизмом, природой и жизненными ритмами Малой Азии.
Вена – Будапешт…
Материалы выставки в Эрмитаже подтверждают, что в архитектуре их соревнование шло на равных. Именно в этой сфере подготовленные национальным романтизмом и эклектикой сецессионные формы зодчества в обоих центрах Австро-Венгерского государства, пережив XX век, оказались востребованными в наши дни.
Спровоцированная наличием свободных земель активная живописная застройка Пешта и обогащенная крупными сецессионными сооружениями пространственная парабола венского Ринга, были двумя ипостасями широкого градостроительного мышления. В Вене показали уменье сопрягать большие архитектурные массы с круговой парковой полосой, в Будапеште – с водным бассейном Дуная и массивом будайских гор.
Поистине революционное значение имела постройка в 1872 году моста через Дунай, впервые соединивший две по существу изолированные друг от друга части венгерской столицы. Продолжавшееся в последующие десятилетия мостостроительство не только упорядочило жизнь города, но и стало одной из его эстетических кульминаций. Оно активно участвовало в создании узлов напряжения и разрядки, помогало сделать общую архитектурную планировку последовательной и вариантной. Хотя у творцов будапештской архитектурной Сецессии не было проектов и осуществление сопоставимых с яркими идеями Отто Вагнера или Иозефа Ольбриха, ее градостроительный смысл прочерчен весьма решительно.
Вена – Будапешт… Ось впечатляющих творческих ходов, контрастов и схождений. Разные формы, разные варианты Сецессии. Выставка в Эрмитаже – повод обо всем этом размышлять, поддаваться изыскам стилизма, анализировать скрытые смыслы символических образов.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?