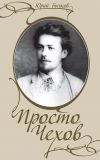Текст книги "Неизвестность искусства"

Автор книги: Игорь Светлов
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Творческие синтезы Густава Климта
Впервые опубликовано: Творческие синтезы Густава Климта // Модерн и европейская художественная интеграция. М.: Государственный институт искусствознания; Польский культурный центр в Москве; научная группа «Европейский символизм и модерн»; Варшавский университет; Университет Грац (Австрия), 2004. С. 275–281.
Творческое искательство рубежа XIX–XX веков примечательно одновременным присутствием синхронных и прямо противоположных устремлений. Взаимоисключающая полемика и поистине невероятный эклектизм, влечение к таинственному и бравирование очевидностью, странное соседство высокого и низменного, апелляция к вечности и желание быть современным – вот лишь несколько оппозиций, сопутствующих в этот период изобразительному искусству. Все это существенно отличалось от монологической структуры ряда других художественных эпох.
С приходом стиля модерн на фоне творческого брожения ранней символистской поры что-то утратилось и упростилось. Вместе с этим на скрещении символизма и модерна в последние десятилетия XIX века и на самом рубеже веков в динамичном соединении жанров и гибком использовании полистилистики сложилась многоуровневая художественная система, проникнутая устремлением к синтезу.
Климт был одной из тех фигур рубежной поры, что сообщили этому дискуссионному с точки зрения традиционной эстетики, но, как показало время, имеющему свою перспективу, мышлению, дерзновенную широту. Свойственная его монументальным работам и портретам активная духовная тональность корреспондировала с выразительном структурированием пластических форм и пространства, связывалась с идеей ансамбля и творческой апелляцией к традициям разных художественных эпох.
Многое в этих исканиях получало высокий стимул в присущей Климту философии жизни. Как фатальную перемену ощущал он возрастающие диссонансы жизни и одновременно, подобно своим единомышленникам из Вены, Парижа, Мюнхена, мечтал о жизни идеальной. Жизнь волновала его как живой импульс и мечтательный сон, творческая и эротическая кульминация. Влекли одновременно ее сосредоточенность и процессуальность, зримая наглядность и не имеющее разгадки таинство. Созданные им многочисленные полотна и рисунки отражают всплески и затухания жизни вплоть до финальной черты. Даже когда в его художественных образах преобладало созерцательное любование, а в построении картин ощущалась особая устойчивость, в них подспудно прослеживались следы жизненных вибраций. Когда же венский живописец жертвовал этой своей приверженностью ради достижения некой заданной гармонии, как, например, в некоторых работах 1910 годов, возникали немалые потери.
Неиссякаемость Жизни трактовалась Климтом как противостояние Смерти, но и неизбежная зависимость от нее. Настойчиво повторяющиеся символические напоминания о Смерти – синие нити, опутывающие фигуры влюбленных, костлявый спрут, нависающий над монотонным танцем фурий, призрак, выжидательно стоящий около погруженных в сон человеческих тел, – лишь высвечивают меняющиеся отношения этих сопряженных с Вечностью Абсолютов.
В широком смысле диалог этих и других полярностей был творческой и философской основой складывающегося в искусстве Клим-та синтеза. Последний был невозможен без избавления не только от бидермейерской измельченности, но и апеллирующего к науке позитивистского рационализма. В написанной самим Климтом расшифровке замысла „Бетховенского фриза“ вновь и вновь повторяются слова Чистая Радость, Чистая Любовь, Чистая Красота, Чистая Духовность. Опора на высокие художественные традиции Античности, Византии, Древнего Востока помогала венскому живописцу вернуть этим понятиям их идеальные очертания. Исследователи не раз отмечали параллели образа золотого рыцаря из „Бетховенского фриза“ с гравюрами Дюрера и оперным творчеством Вагнера, арку климтовской „Музыки“ и античной скульптуры и вазописи, связь между фризом во дворце Стокле с искусством Древнего Востока.
Но одновременно, и это не менее важно для понимания его творческого синтеза, Климт сосредотачивает внимание и на другом. Обожествлению идеальности у него нередко сопутствует мысль об относительности многих явлений. Обнажается еще одна грань его концепции Жизни. Понятая как Абсолют, она вместе с тем наделена у Климта режиссерской функцией, сообщая фундаментальным началам мира поэтическую одухотворенность или, напротив, „приземляя“ их, сужая их власть над житейской обыденностью.
Так, участвующие в философском диалоге Добра и Зла в „Бетховенском фризе“ разные варианты гротеска и возвышают эти императивы, и составляют им банальную житейскую альтернативу. Известно климтовское изображение Распутства в облике отвратительной жирной бабы в духе известного рисунка Обри Бердслея. Это один из характерных акцентов в занимающем торцовую панель фриза пантеоне Злых сил. Иная, далекая от натурализма стилистика, господствует в символическом изображении Болезни и Безумия. Элегантная в движении линий и силуэтов, прихотливом ритме золотой обводки, экспрессивная в отношении темных и светлых пятен, она своеобразный стилевой эквивалент одной из распространенных в искусстве модерна темы гибельной красоты.
Весьма примечательно в этих двух фрагментах фриза соседство эстетизма и антиэстетизма. Подобная сопоставительность создает запоминающийся контекст и в его финале. Грубовато-телесная фактура представленного Климтом как неприкрашенный слепок с жизни любовного объятия, это иной мир, нежели знаковая золотая космогония и напоминающий о древних мозаиках рафинированный абрис хора.
Не раз в произведениях венского мастера эпатирующее своей натуральностью и апелляцией к массовой культуре изображение жизни противостоит образцам высокого искусства. Такая связка решительно отличается от обожествления Жизни под знаком ее приобщения к шедеврам древности в кульминационный для мастера „золотой период“. Перед нами характерный пример сосуществование в творчестве Климта Абсолюта и Относительности. Уже в молодые годы этот художник, устремляясь к синтезу, либо отказывался от привычных клише гармонии, не вызывающих сомнения характеристик философии, мудрости, знания как чего-то, что нельзя подвергать сомнение, либо трансформировал их. В одном из произведений из Университетского цикла – эскизе панно „Философия“ – конфликтно соотносятся диссонансы жизни и навязчивое стремление к идеалу, мир людей и загадочность Вселенной. Вереница следующих вверх друг за другом фигур, мотивы столкновений и отчаяния лишь иногда прерываются напоминанием о телесной гармонии. Отчуждение от человеческих страстей сосредоточено в этой монументальной картине в одном из излюбленных мотивов европейского символизма – образе сфинкса. Он – олицетворение тайны. Жизнь и знание предстают как понятия, не пересекающиеся друг с другом. Отсутствие подлинной перспективы, возрастающая омертвелость бытия и реальная невозможность научного познания мира – вот смысл этой творческой посылки Климта.
Не исключающая временных примерений, обнаженная контрастность видения сказывается в искусстве Климта и на другом уровне. С азартом обыгрывает он жанровые диссонансы и перепады стиля, соотношение статики и динамики.
Доминантой „зеленого“ и „золотого“ периода стала для венского художника статическая неподвижность. Длительное пребывание в озерном пространстве Аттер, в особенности в пору, когда исчерпало себя „золотое опьянение“, стимулировало появление картин, которые при всей узнаваемости окрестных мест трудно назвать натурным пейзажем. Это полная печали и тишины природно-архитектурная декорация. Медленно сменяют друг друга фронтально идущие вдоль берега дворцы, часовни, особняки. Однако тягучая монотонность архитектурного ландшафта осложнена мистическим шорохом трав, деревьев, листьев. Архитектурный призрак веков встречается с потаенностью природы. Будто вычерченные на бумаге плоскостные желтые фасады в духе австрийского барокко, нарушенные лишь темными прорезями окон, оттеняют своей гладкостью ван-гоговскую неправильность очертаний кипарисов и главенствующих на самых подступах к озеру цветов и кустарников.
Этот разлад архитектурных и природных рядов уже не в первый раз у Климта позволяет почувствовать близость венского символизма и экспрессионизма. Статическая композиция и подходящая скорее для гобелена, чем для живописного полотна, фактура преобразованы им в многослойную картину, символически воплощающую мысль о внешней упорядоченности и тайной энергии мира, гармонии, созданной человеком, и имеющей свои законы гармонии природы, сложной в чем-то трагической нестыковке этих двух пластов бытия.
Статику и динамику как противоположности и одновременно как организующие начала Вселенной осмысливал Климт и в связи с символическим образом человечества. В эскизе панно «Медицина» (1907) из университетского цикла вынесенная на первый план монументальная фигура Богини врачевания противостоит беспорядочному напластованию человеческих тел, нелепо балансирующих, падающих, сталкивающихся друг с другом. Хаотическая вибрация в пространстве, символизирующая лишенные какой-либо логики стремления, – прямая противоположность господствующей в изображении сверхсущества торжественной статике.
Впрочем, Климт не закрепляет за статикой и динамикой одних и тех же символических значений. В таких произведениях как «Смерть и жизнь» (1908–1916), «Девушка» (1913) человеческий круговорот связывается с темой идеала, тогда как статика столбообразной фигуры становится символическим обозначением смерти. Понятые таким образом устойчивость и динамизм во многом определяют мобильность творческих синтезов Климта.
Вновь приходится размышлять о полярных началах искусства Климта, его многоликости. Климтовский панэстетизм, переживший новый взлет после посещения Равенны, его программная ориентация на художественные образцы Античности, Древнего Египта, Византии, поистине всеобъемлющая власть, которую приобрел в его живописи стилизм, были отражением приверженности к уподобленной сверхъестественной, почти божественной силе Красоте.
Но невозможно забыть и о, может быть, самом главном открытии Климта – сопряжении этого абсолютизма с заведомым приземлением Красоты, ее грубоватой увязке с обыденностью. Разрушая устоявшийся культ гармонии как доминанты искусства, такая структура не опровергала саму идею красоты, а провоцировала диалог с ней.
Исследователи творчества Климта обратили внимание на специфический облик моделей его женских портретов. Среди изображенных на них лиц нет таких, которые можно было бы назвать красивыми. Более того, в большинстве случаев они весьма заурядны. Притягательность созданных австрийским живописцем образов рождается в сложном синтезе, в котором главенствует не внешность модели, а легкость и прихотливость силуэтов, декоративные эффекты позолоты и изящество орнамента, играет активную роль перемена значений живописных и графических приемов. Мерцающий колорит серебристых женских платьев, золотая отделка деталей превращают довольно простые по исходным мотивам портреты в поэтические метафоры, а нескрываемая резкость контраста натуралистических и декоративных начал сообщает им притягательную интригу.
Так, в столкновении или неожиданном сравнении противостоящих начал постигает Климт основные начала мироздания. Эта контрастность и параллелизм имеют пластические акценты, свои структурные основы. Философские и эмоциональные ракурсы образов и участвующие в осуществлении замысла пластические структуры образуют сложную систему сцеплений и пересечений.
Как меняющийся динамический порядок, смену напряжений и спадов понимал Климт монументальное искусство. В «Бетховенском фризе» выразительно сосуществуют между собой несколько разновидностей творческого синтеза. Уже говорилось о далеко уводящем от академической системы, а во многих случаях от традиционного понимания гармонии, климтовском конфликтном диалоге. Создавая в «Бетховенском фризе» совершенно невероятные для того времени соединения разнородных фактур, играя легкостью и весомостью масс, наделяя движение групп особой энергией и вдруг останавливая его, предлагая зрителю то ощутить нестыковку отдельных фрагментов изображения, то полюбоваться гармоническими силуэтами и изящным декором фигур, Климт импульсивно реагировал на виражи жизни в переходную эпоху. Весь этот эмоционально заряженный стиль, ритм, контрасты в колорите – от золотого сияния к сдержанности цветовой гаммы, монохромности – призваны были по замыслу художника стать образом полного сдвигов мира.
Но, может быть, самым впечатляющим вариантом климтовского творческого синтеза был взрыв – такая концентрация пластических средств и приемов, такое наслоение диссонансов, такая мера открытой экспрессии, которые одновременно ошеломляли и сосредотачивали, превращаясь в решающее звено всей монументальной композиции.
Такова возникшая не без влияния «Страшного суда» Микеланджело центральная панель «Бетховенского фриза» с метафорическим изображением Сил Зла. Стилистика венского художника совсем иная, чем у его великого предшественника. Ему импонируют не преувеличение объемов в духе Микеланджело, а сочетание графической линейности и разнообразных приемов декоративности. Нет в композиции климтовского фриза и выраженной фигурной доминанты, какой была у Микеланджело фигура Христа. И тем не менее обоих художников сближает один редкий по смелости творческий ход – идея взрыва в эпицентре, имеющего много звеньев монументального ансамбля.
Как взрыв воспринимаются и отношения «Бетховенского фриза» с сецессионной архитектурой. Возможно, Климт и Хоффман как соавторы здесь не во всем на высоте. Отсутствует дистанция, позволяющая зрителю промерить взглядом всю протяженность фриза, а он, этот фриз как бесконечная сменяемость сцен рассчитан именно на это. Не слишком подходит для восприятия, насыщенного по цвету и фактуре произведения Климта облик серых бетонных стен. Но отчасти именно эти диссонансы будоражат сознание. Аскетизм архитектуры буквально взрывается насыщенной изобразительностью, динамическими сдвигами форм. Как спрут охватывает «Бетховенский фриз» две стены и торец похожего на тайную молельню подземного зала здания Венского Сецессиона.
Редкий по смелости творческий синтез Климта, сокровенный и взрывающий пространство, изобразительно и пластически насыщенный, драматический и праздничный, наивно освещенный философскими мыслями о Человеке и Человечестве, – одно из тех явлений искусства рубежа XIX–XX веков, что своей открытой дискуссионностью изменили представление о мире. Не отрицая Абсолютов, поэтически возвеличивая их, этот художник одновременно открывал поистине фатальную меру относительности вещей, обнаруживал их неожиданные взаимосвязи.
Фатальное молчание Кнопфа
Впервые опубликовано: Фатальное молчание Кнопфа // Дух символизма / Научный ред. – сост. М. В. Нащокина. М.: Межинститутская научная группа «Европейский символизм и модерн»; Прогресс – Традиция, 2012. С. 518–527.
Отныне все является для него новым – реальность и отражение, то, что делается, и то, что предполагается или желается.
Гюнтер Меткен
В кругу символистов в отношении к творчеству Кнопфа не было единодушия. Восхищенная Вена буквально смела все, что он показал на Первой выставке Венского Сецессиона в 1897 году. Было куплено, по разным сведениям, более 20 произведений живописи и графики бельгийского мастера. Его работы имели успех и на Всемирной выставке 1889 года в Париже, где возник подлинный ажиотаж в связи с демонстрацией его картины «Воспоминания», на выставках в Мюнхене были хорошо приняты его пастели и рисунки. Кнопф был одним из организаторов Группы XX в Брюсселе, объединившей многих интересных бельгийских и французских художников. О нем восторженно писал Эмиль Верхарн, а Сар Пеладан считал его равным Пюви де Шаванну, Моро и Роопсу. Но звучали и иные голоса. Самый резкий отзыв принадлежал одному из зачинателей эстетики символизма, глубоко постигшему новаторство Гогена и Ван Гога Альберу Орье. Последний остро уловил в сочинениях Кнопфа черты салонности, не без известных резонов сближая его с мэтрами этого направления, блиставшими на традиционных выставках в Париже.
Сосуществование находок и банальностей, емких и неожиданных образов и возвращения к чему-то уже пройденному (наивной сюжетности, украшательству, демонстративному сентиментализму) давали себя чувствовать в разных разделах его творчества. В графических листах Кнопфа выразительная доминанта масок плохо вяжется и с изнеженным нарциссизмом, и с оперным монументализмом.
Вызывали споры и другие разделы искусства Кнопфа. «Что значит маскироваться? – спрашивает Франц Бондерс. – Это значит сделать разрез между собой и действительностью и поместить в этот разрез новый образ. Между теми, кто носит маску, и теми, кто ее не носит, не должно быть контакта»[50]50
Boenders F. Mascarades, a pros de Fernand Knopff // Fernand Knopff. Paris, 1979.
[Закрыть]. Но именно этот ход пытался узаконить бельгийский мастер, привнося в условное сцепление масок слишком элементарные жанровые пояснения.
Были у Кнопфа и противоречия более разрушительного характера. Поэт духовных погружений человека, он одновременно тяготел к сомнительным физиогномическим эффектам в брутально очерченных изображениях женских голов. Странным кажется и другое: находя в своих лучших творениях адекватное воплощение темы человеческого одиночества, Кнопф не раз обнаруживал склонность к пустоватому идеализму.
Чтобы понять, что предопределило и что повлияло на развитие индивидуальности художника, пришлось бы подробно говорить о мистическом свете Брюгге, где прошло детство художника, о его активном участии в пеладановских салонах, о выборе ориентиров в европейском искусстве XIX столетия от Уотса до Моро, о внутренних конфронтациях в бельгийском символизме. В последнем популярные у публики образы Кнопфа были лишь одним из творческих полюсов. Сопоставление с экспрессионистскими гротесками Джеймса Энсора и Леона Спилларда и холодноватым декоративизмом Жака Дельвиля отражает стремление Кнопфа по-своему реагировать на духовные проблемы и ситуации времени, творя своеобразные парадигмы стиля.
Исследователи искусства рубежного периода не устают фиксировать, что искусство Кнопфа было программно отграничено от современной ему жизни. Это бесспорно так, если иметь в виду жизнь событийную. Художник не хотел откликаться на политические или социальные явления своей эпохи. Среди сюжетов его картин не найти ничего подобного «Расстрелу императора Максимилиана» Э. Мане или аллегориям Франко-прусской войны П. Пюви де Шаванна. Не менее равнодушным оказался он к столь ярко запечатленной А. Тулуз-Лотреком и Э. Дега артистической жизни Парижа. В отличие от К. Писсарро, а позднее кубистов, ему была чужда энергетика современного города, движение уличных толп, странное соединение фантастических конструкций новых зданий и мостов с интимной лирикой издавна знакомых мест. Но, воспринимая научно-технический прогресс как бедствие человечества, Кнопф одновременно не стал искать ему альтернативу в природе, не попал в плен ее живой красоты, как Клод Моне, А. Сислей или Дж. Уистлер. Впрочем, несколько прекрасных пейзажей, полных грустной тишины и рокового предчувствия, он все же написал.
Как некоторые другие поэты, писатели, художники символистской поры, Кнопф делал акцент на духовном переживании одинокого, замкнутого в себе человека. В интонациях его образов и разработках стиля преобладал, как правило, своеобразный минимализм.
«Сдержанность – вот качество, которое в первую очередь отличает произведения Кнопфа. Приглашение к спокойствию поддерживается в них уже названием («Тишина» или «Секрет»)[51]51
Metken G. Fernand Knopff et la modernité // Fernand Knopff. Paris, 1979. P. 33.
[Закрыть]. Неслучайно одним из главных вдохновителей его символических портретов и картин стала фотография. Изучая творческую деятельность фотографов XIX века, Кнопф сделал весьма показательный выбор. Захватившее многих на рубеже двух столетий очарование «пикториальной фотографии» он не разделял. Восхищаясь открытиями современной им станковой живописи, сторонники этого течения стремились придать поверхности живописную импульсацию и чувственное волнение. Это было в ту пору в духе времени. «Все искусство вообще, а пластическое и декоративное в особенности, представляют многоразличные преображения чувственности. Вся современная культура основана на ней. Искусство и не может быть иным как кристаллизация нашего чувственного отношения к миру», – писал Максимилиан Волошин[52]52
Цит. по: Маньковская H. Театральная эстетика Максимилиана Волошина // Символизм и модерн – феномены европейской культуры / Сост. И. Е. Светлов. М., 2008. С. 223.
[Закрыть].
Казалось бы, естественно для Кнопфа вступить в союз с желающей походить на живопись экспериментальной фотографией. Тем более что «и в фотографии, и в традиционных видах изобразительного искусства во второй половине – конце XIX века происходит переход от придуманной сюжетной картины к картине-впечатлению…, наполненной символами»[53]53
Чмырева И. Символизм и пикториальная фотография. Заметки к изучению фотографии и визуальной поэтики символизма // Символизм и модерн – феномены европейской культуры. С. 338.
[Закрыть]. Однако свойственные «пикториальной фотографии» ошеломляющая броскость ракурсов, резкое сопоставление фактур, эффектные перепады ритма не вызывали у него восторга. В качестве слагаемого и ориентира искусства этого художника выступила совсем иная разновидность фотографии – статичная, строгая по композиции, хотя и не лишенная музыкального ритма и прихотливого абриса деталей.
Не забывая о прекрасных творениях старых мастеров (в некоторых его рисунках и этюдах маслом не раз обнаруживают мотивы фламандских мастеров XV–XVI веков), Кнопф уделял исключительное внимание английской камерной фотографии, близкой по своей поэтике и эстетике исканиям прерафаэлитов. Опубликованная ныне переписка между братьями Россетти и ведущими лондонскими мастерами фотографии, отклики на художественные и фотографические выставки позволяют увидеть, сколь многообразно было в 1850–70-х годах взаимодействие и взаимовлияние в Англии искусства живописи и фотографии[54]54
The Pre-Raphaelite Lens Photography and Painting, 1848–1875. National Gallery of Art. Washington, 2011.
[Закрыть].
Исследователь творчества Кнопфа Гюнтер Меткен упоминает, в частности, о его увлечении портретами получившей ныне широкую известность Джулии Марии Камерон[55]55
Metken G. Op. cit. P. 44.
[Закрыть]. Перекличка символических произведений бельгийца со снятыми с помощью камеры работами Камерон заметна уже в деталях. Явно в ее духе интерпретирует Кнопф столь распространенный в искусстве символизма мотив лилий. В нескольких его графических работах повторяется силуэт этих цветов, подобный тому, как это делала Камерон в «Тройном портрете» (1865). Кнопф, видимо, почувствовал, как много значит утонченная графика каждого растения, печальная энергетика белого в господствующей в этом и других фотопортретах англичанки атмосфере молчаливой отрешенности. Напоминающее английскую гравюру в черной манере, изображение трех молодых барышень стало у Камерон метафорой безграничного духовного погружения. Аналогии этому ритму и этому пониманию деталей встречаются в «Армен Лили» (1895) и других портретах и композициях Кнопфа, имеющих символистский замысел.
Увлечение Кнопфа английской фотографией середины XIX века может показаться странным, учитывая, что в молодости он восхищался Делакруа[56]56
Напомним, что в 1858 году Делакруа был избран председателем общества парижских фотографов.
[Закрыть], а с годами испытывал все большее притяжение к таинственному безмолвию и монументальной статике картин Моро и Берн-Джонса. Однако сравнение бельгийского художника с названными нами европейскими мастерами рельефно выявляет и различия между ними. В духовном пространстве этих признанных мэтров не было места для не покидавшей Кнопфа темы человеческой тоски. Лирическая гармония произведений этих живописцев часто неотделима от темы человеческой возвышенности, тогда как бельгиец был более озабочен тотальным одиночеством индивида. Известным исключением был лишь ряд рисованных изображений его сестры Маргариты, но и в них пробужденный памятью о мадоннах Леонардо абсолют красоты сопровождает тягостное демоническое молчание.
Молчаливый символизм Кнопфа, воплощенный в больших композиционных картинах, в которых властвует тема отрешенного одиночества, в изображении будто навечно замерших прудов и каналов, в том, как удаляются в глубину городской панорамы или смутно проявляют свои очертания старые дома и соборы, стал событием даже на фоне других аналогичных исканий.
Пронизывающая картины Кнопфа печальная тишина то вступает в соприкосновение с имитацией непринужденности («Воспоминания»), то скрепляет духовное притяжение двух одиноких существ («Ласки»), то метафорически обозначает пройденность жизни («Затворница»).
Отрешенное молчание Кнопфа имеет, по мнению ряда исследователей, и музыкальный отсчет. «Это не только искусство взгляда, но и искусство слуха, глухая музыкальность, которая настроена на один тон»[57]57
Metken G. Ор. cit. P. 45.
[Закрыть]. Композиция «Слушая Шумана» приводится Меткеном в этой связи как пример художественного поиска, достаточно типичного для символизма, учитывая получившее известность полотно главы Венского Сецессиона Густава Климта «Слушая Шуберта» (другое название «Шуберт за фортепьяно», 1895). В последней одинокая тишина – неизменное сопровождение творца, хотя на фоне маячат женские и детские фигуры. У Кнопфа сопровождения нет. Нет его и в раннем эскизе плафона «Живопись, музыка, поэзия» (1880), где аллегории разных искусств почти теряются в призрачном безмолвии заволакивающих горизонт облаков. В монотонной однозначности серых тонов сбиваются очертания фигур и предметов, становится зыбким географический контур места. Этот мотив несколько десятилетий спустя стал знаковым для известных циклов Марка Шагала.
Призрачная атмосфера и фатальное затишье творений Кнопфа сопоставляется иногда с паузами вагнеровских опер. Конечно, бельгийский живописец далек от мощной энергетики музыкальных звучаний Вагнера, но следующие в его операх после вспышки страстей паузы замирания, вероятно, могут вызвать такие ассоциации.
Смысл творчества Кнопфа ускользает, если не обратить внимания на его восприятие времени.
«Кнопф не описывает, а воскрешает в памяти», – пишет Филипп Роберт Джонс[58]58
Roberts-Jones P. Knopff en perspective // Fernand Knopff. Paris, 1979. P. 13.
[Закрыть]. Во времена символизма склонность к описательству все более уходила на второй план. Однако далеко не все художники связывали отказ от визуальных констатаций с воскрешением былого. Для Кнопфа такая альтернатива была принципиальной. Существенное отличие подхода этого мастера от воззрений его кумиров Моро и Берн-Джонса состояло не в избирательном отношении к прошлому, а в его восприятии как не имеющей альтернативы цельности. Бельгийский художник не заклинивался на каком-то одном периоде в развитии человечества и его культуры, как возлюбивший итальянский Ренессанс Берн-Джонс, и не возвеличивал духовно-эстетические кульминации ушедших эпох, как Моро. Их обоих ныне принято именовать представителями историзма. А вот Кноп-фа едва ли без оговорок можно причислить к ним. В его городских пейзажах смутно угадываются готические силуэты, в рисованных женских головах возникает притяжение Леонардо. И все же гораздо чаще его воображение воскрешало неотделимый от вечности образ мертвого города и фатально одинокого человека.
Многое в исканиях Кнопфа сконцентрировалось в одной из самых известных его картин «Memories» («Воспоминания»). Порой, стремясь расшифровать смысл этого сочинения, критики и искусствоведы обращают внимание на мельчайшие оттенки в описании изображенных художником фигур. Подчас благодаря этому контекст дамской прогулки сводится в основном к символизации игры… Повод для этого – теннисные ракетки в руках у девушек, исключая ведущую. Другие же, напротив, воспринимают эту деталь как декоративную, ничего не меняющую в акцентированной автором бессюжетности картины. Свободное размещение фигур вблизи ее переднего края, действительно, могло бы восприниматься как нечто лишенное интриги, если бы не своеобразие пейзажа и отстраненный облик персонажей. «Без ступней, без ног, застегнутые до шеи, они носят длинные перчатки – чистый дух. Глядя прямо перед собой, эти женщины находятся в состоянии гипноза»[59]59
Metken G. Op. cit. P 33.
[Закрыть].
Медленно движущиеся в условном пространстве фигуры словно вмонтированы в свои платья и костюмы, превращенные в своеобразный кокон. Это, пожалуй, самый эффектный штрих, убеждающий, что костюмировка для Кнопфа – одно из активных средств символизации. Велико различие между аскетизмом одетой в строгое белое платье сестры художника Маргарет, изображенной на фоне закрытой двери (критики не без основания видят в этом образе аналогию с знаменитой «Девушкой в белом» Уистлера), и известной фривольностью туалетов вышедших на спортивную прогулку светских женщин. Впрочем, модные маленькие шляпки на их головах, так же как стек или зонт, – все это только кокетливое сопровождение точно скроенных платьев с затянутыми под горло воротниками.
Метафорический смысл костюмированного набора Кнопфа невозможно уловить, исходя исключительно из категорий моды и декоративности. Своеобразно отражаются в нем издавна волновавшая художника тема изолированности человека от мира и другая, ставшая болезненной для общества, вплоть до наших дней, – тема несвободы, регламентации личности. Глядя на картину Кнопфа, близкие к марксизму социологи наверняка квалифицировали бы ее как олицетворение пустоты жизни буржуазных прослоек. Напротив, приверженцы гламура увидят в ней идеал расслабленного существования. В произведении бельгийского художника, соединившем в себе демонстрацию человеческого одиночества и призрачность модного карнавала, действительно есть поводы для этих полюсных оценок. И все-таки трудно отделаться от впечатления, что никто из костюмированных персонажей не смотрит друг на друга, что их блуждающее движение пронизано настроением отчужденности.
Странно выглядит в таком варианте выход на природу. Реальное и нереальное смешиваются между собой. Первоначальная зрительная реакция на картину Кнопфа способна зародить впечатление контраста природы и городской цивилизации как едва ли не главное в замысле автора. Облаченные в модную одежду дамы, как тени, движутся в цветущем пейзаже. Но более пристальный взгляд убеждает в ином: нет никакого цветения, зеленый фон – абстракция. Мысль художника получает другое направление. Появление в пустынном, почти космическом пространстве ни на что не реагирующих существ уподобляется робким шагам пришельцев по поверхности неизвестной планеты.
Активно присутствует в многосложном синтезе «Воспоминаний» еще одно воплощение символизма Кнопфа: своеобразный театр масок. «Воспоминания» – один из его вариантов. В сочинениях художника разных лет – этюдах, композициях, скульптурных и карандашных портретах Маргариты – этот прием символизирует двойственность мира и разлад с ним, уподобление идеалу или воцарение буржуазной пошлости. Уже упомянутый нами Гюнтер Меткен видит в маскараде Кнопфа иное качество: «Фиксируя свою модель, которой он манипулировал, как манекеном, он ритуализировал жизнь. Посмотрите, как передает он окружающий мир – медленные жесты, закрытые глаза… Таким образом, приближаясь к ритуалу, он хотел перевести объективно-мирское в священное»[60]60
Metken G. Op. cit. P. 44.
[Закрыть]. Едва ли Кнопф далеко пошел по этому пути. В чем-то соприкасаясь с ритуальностью, его искусство, однако, не было по преимуществу религиозным. Используя известные формы театрально-мифологической условности, он балансировал между вдохновленными художественной классикой вспышками просветления и омертвением жизни.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?