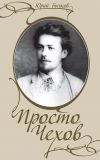Текст книги "Неизвестность искусства"

Автор книги: Игорь Светлов
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
И все же и в цвете, и в композиции «Острова мертвых» есть весьма существенный штрих, который ускользнул от внимания критики. Мотив рвущихся в небо темных кипарисов, характерный для ряда картин Бёклина 1860-х годов с изображением руин, рельефное очертание скал, сообщают живописному решению полотна драматический акцент. Торжественность композиции нарушается вторжением в самый центр картины темной массы деревьев. Характерно внимание к этому приему некоторых почитателей Бёклина, учившихся в Мюнхенской академии. В сентябре 2001 г. я увидел в одном из антикварных магазинов Варшавы штудию известного польского живописца сецессионной поры Яцека Мальчевского, в которой талантливо и по-своему разрабатывался основной мотив «Острова мёртвых». (Скорее всего, эти разработки можно отнести к первой половине 1890-х годов). Ни в колорите, ни в деталях это нельзя было назвать повторением. Интерес для польского художника представлял ставший средоточием драматического напряжения прорыв в центре. В небольших по формату эскизных набросках Мальчевского этот прием был так сильно заострен, что возникла пространственная разобщенность композиции. В самой же картине Бёклина избранный им композиционный ход приобрел метафорический смысл. Место упокоения и неожиданный приход смерти отнюдь не благостно встречаются между собой.
Вообще многое в концепции «Острова мертвых» требует прояснения. Понятие мемориальности, которому он придал столь фундаментальное значение, в чем-то отталкиваясь от романтиков, вызвало активный отклик в XX в. Актуально для этого времени глубокое осознание пространства картины. Д. Сарабьянов обратил внимание на роль в европейском символизме и модерне мотива Острова (Сарабьянов 1989, 182). Остров выступает в картине Бёклина как некий Абсолют. Возникая в мировом пространстве среди неба и вод, он одновременно знак аскетизма и высокое творение природы. Заключая в себе символ одиночества, он вмещает себя великие первоначала природы.
Литература
Белый 1994 – Андрей Белый. Символизм как миропонимание. М., 1994.
Бенуа 1980 – Бенуа А. Мои воспоминания. М., 1980. Кн. 1.
Бенуа 1993 – Бенуа А. Мои воспоминания. В 5-ти т. М., 1993. Т. 1.
Грабарь 1901–1 – Грабарь И. По Европе // Мир искусства. 1901. № 2–3.
Грабарь 1901–2 – Грабарь И. Художественная хроника// Мир искусства. 1901.
Маковский 1909 – Маковский С. Страницы художественной критики. СПб., 1909. Кн. 1.
Маковский 1999 – Маковский С. Силуэты русских художников. М., 1999.
Сарабьянов 1989 – Сарабьянов Д. Стиль модерн. М., 1989.
Тугендхольд 1928 – Тугендхольд Я. Художественная культура Запада. М.—Л., 1928.
Christ, Geelhaar 1990 – Christ D., Geelhaar C. Arnold Bocklin. Basel, 1990.
Lehars 1897 – Lehars M. Arnold Bocklin. Munchen, 1897.
Make 1887 – Make A. Brief vom 8. Mai 1907 // Make A. Briefe an Elisabeth und die Freunde / Hg von Yemer Frese und Ernst-Gerhard Guse. Munchen, 1887.
Schmieed, Chirico – Schmieed W., De Chirico G. Wir Metaphisiker, Gesammelte Schriften, ins Deutsche Ubertragen von Anton Henze. Berlin.
Жизнь и Смерть в художественной транскрипции Арнольда Бёклина
Впервые опубликовано: Жизнь и Смерть в художественной транскрипции Арнольда Бёклина // Европейский символизм. М.: Государственный институт искусствознания, Научная группа «Европейский символизм и модерн». – СПб.: Алетейя, 2016.
Немецкий символизм вошел в европейское живописное движение на рубеже XIX–XX вв. как художественное событие, в котором мистическое торжество духа нередко соединялось с нескрываемой чувственностью, идеальное странно сосуществовало с разоблачительным гротеском, триумф экстаза имел на другом полюсе отрешенное созерцание. Все это выглядело в немецкой интерпретации удивительно емко, не раз получая характер всеобъемлющих философских формул. Шедевр Арнольда Бёклина «Остров мертвых», «Грех» и «Саломея» Франца Штука, статуя Бетховена и монументальные панно Макса Клингера знаменовали высокий масштаб этого мышления, не лишенного эклектики, не всеми принимаемого, переживавшего определенное снижение, в том числе в ряде работ упомянутых выше мастеров, но все время ищущего стыки вселенского и земного.
Духовная пронзительность и эстетическая контрастность лучших произведений немецких живописцев, приобретших невиданную в ту пору популярность в различных слоях европейской аудитории, была вместе с тем свидетельством укорененности символизма в национальном творческом круге, его глубинной соотносимости с национальным менталитетом. На фоне не всегда понятных исторических смен и чередований, отличавших эволюцию немецкого изобразительного искусства в XIX в., живопись символизма в особой мере сосредоточивала в себе присущее духовной культуре Германии тяготение к искательству философских смыслов бытия.
Впору, конечно, вспомнить о традициях – полном духовных тайн искусстве романтизма, о Каспаре Давиде Фридрихе, чья картина мира означала встречу тишины и мистической бесконечности, о своеобразной знаковости полотен Каруса, о духовной вибрации камерных образов, созданных романтическим ответвлением бидермейера. А если говорить о постсимволистском историческом развитии, о той мощной духовной акцентировке, проводником которой был в первоначальном и последующих вариантах немецкий экспрессионизм – Кирхнер, Шмит-Ротлиф, Дикс… Находясь между созерцательной отъединенностью национального романтизма и взрывным потоком экспрессионизма, немецкий символизм в новых поворотах продолжал устремления первого и в чем-то весьма существенном был предвосхищением второго.
Не вникая в данном случае во все сложившиеся в этом треугольнике схождения и отталкивания, нельзя не отметить корневую обоснованность немецкого символизма. Правда, и вначале, и на протяжении больших хронологических отрезков она не раз корректировалась одиночеством. Немало искусствоведов, в том числе и немецких, считали искусство Бёклина, Штука, Клингера чем-то раздражающе тяжеловесным, слишком литературным, программ-но националистическим и в итоге безумно старомодным. Известный немецкий критик и историк искусства Мейер-Греффе, зарекомендовавший себя первое время как адепт Бёклина, позднее видел в нем главное препятствие к обновлению отечественной живописи, чью судьбу он воспринимал исключительно как апелляцию к новым французским течениям[39]39
Meir-Graefe J. Der Fall Böcklin und Lehre von der Einheiten. Stuttgart, 1905. S. 170
[Закрыть]. Некоторые символистские фигуры и аллегории Бёклина раздражали своей прямолинейностью Александра Бенуа[40]40
Бенуа А. Мои воспоминания M., 1980. Кн. I. С. 675.
[Закрыть]. Еще не раз в самых различных вариантах Бёклин будет подвергаться критике за чрезмерную картинность символических ходов, соединение барочного пафоса с осязаемой достоверностью. Впору напомнить и о нападках иного рода. В советское время творчество Бёклина объявлялось образцом реакционности, мистицизма и пессимизма в искусстве, типичным примером агрессивности и декадентской сути модерна.
Большое влияние оказали на художника многочисленные поездки в Италию, приобщение к древним античным памятникам, увлечение «Божественной комедией» Данте. Начиная с 1870-х гг. Бёклин рассматривается как художник европейского масштаба, оказывая влияние на живописцев разных стран.
Последние годы жил в Италии, в Доме-мастерской вблизи монастыря Сан Франческо ин Фьезоле.
Впрочем, достаточно и противоположных суждений о произведениях этого мастера. Оценки Эдварда Мунка, Жоржа де Кирико, Пауля Клее, Томаса Манна, Якоба Бурхардта и других художников, писателей, деятелей искусства весьма красноречивы. В одном из своих писем Мунк замечает: «Как бы плохо ни обстояло дело с искусством в Германии, у него все же есть то преимущество, что оно дало миру несколько художников, возвышающихся над всеми остальными, например Арнольда Бёклина, который, как я это вижу, превосходит всех художников нового времени»[41]41
Geelhaar К. «…Meiner Seele So Geliebter Freund» // Christ D., Geelhaar Ch. Arnold Böcklin. Basel, 1990. S. 8.
[Закрыть]. Мунк упоминает Бёклина вместе с Вагнером, Ницше и Гансом Тома. Лидер итальянских метафизиков Кирико ощущал перед картинами Бёклина «примечательную радость и потрясение, дающее счастье». Василий Кандинский отмечает в своем трактате «О духовном в искусстве»: «…он искал внутреннее во внешнем».
Во Франции произведения Бёклина не пользовались популярностью. Дважды выставляясь в Салоне, он не привлек к себе внимания. Как свидетельствует Кирико: «Французы упрекали его в том, что он был не вполне живописцем»[42]42
Chirico G. de. Arnold Böcklin (1920) // Wieland Schmied. De Chirico, Wir Metaphysiker, Gesammelte Schriften, ins Deutsche Übertragen von Anton Henze. Berlin, 1973. S. 76.
[Закрыть]. Лишь прошедшая на рубеже 2001–2002 гг. выставка живописи Бёклина в Париже, на которой были последовательно представлены все этапы его эволюции, внесла тут элемент объективности, возможно, обозначив начало серьезных перемен в отношении к искусству этого мастера. Тем острее звучат высказывания Гийома Аполлинера, Сальвадора Дали, историка сюрреализма Марселя Жана. Аполлинер ставит лучшие произведения Бёклина рядом с Аполлоном Бельведерским, «Венерой Милосской», «Сташным Судом» Микеланджело, «Отплытием на остров Цитеру» Ватто, «Благовестом» Милле, хотя и делает оговорку, что некоторые из них слабее классики[43]43
Apollinaire und die Kunst Texte und Kritiken 1905–1918. Köln, 1989. S. 125.
[Закрыть].
Ныне, когда интерес к искусству «около 1900» и подготовившим его явлениям вновь возрастает, становится все более очевидно, что в нескольких измерениях – историко-художественном, духовном, философском, а также в утверждении национальной неповторимости искусства – символизм в Германии, который нельзя представить себе без Бёклина, оказался весьма крупным явлением.
Специфика школы обнаружила себя в нескольких гранях. Стремление к равновесию духовного и эстетического между собой и другими ипостасями бытия не было у немецких символистов доминантой, хотя отдельные впечатляющие примеры такого рода возникали. Конфликтное восприятие основных констант человеческого существования, в особенности под конец XIX в., преобладало над лирической растворенностью. Поэтическая свобода речи ощущалась прежде всего в темах праздника и весеннего приволья. Но неотвратимо влекли ситуации, в которых роковым образом скрещивались человеческие судьбы и судьбы природы, шла борьба плоти и духа, разрыв или сопряжение с миром превращались в мощные духовные кульминации.
Многое в живописи немецкого символизма сосредоточивается вокруг одной из вечных тем искусства – темы Жизни и Смерти.
Здесь, как у французских и английских мастеров, хотя, естественно, в специфической разновидности, давали себя знать пантеизм, влечение к идеальному, своеобразный эстетизм, но складывались иные пропорции между всем этим в сумме и демонстрацией реальной фактуры жизни, нередко откровенно противостоящей герметической утонченности. В определенном смысле немецкий символизм предстал на фоне ряда других европейских школ как искусство, более разомкнутое в противоречивый мир живого бытия.
Вечные темы – излюбленное поле творческих интенций символистов – стали для немецких художников поводом многоликих отношений между реальностью и умозрением. Именно это, в особенности в мюнхенском кругу, окрашивало размышления живописцев о Жизни и Смерти, попытки понять их полярность и сложную взаимосвязь. Уживались между собой, дополняли друг друга, соединялись в некой общности индивидуальные философско-поэтические концепции. Бёклин, Штук, Клингер. Эти имена знаменовали собой путь и своеобразие слагаемых немецкого символизма, философию и тональность его образов. Символистская интерпретация ими темы Жизни и Смерти ознаменовалась открытиями, поразившими современников и оставившими загадки для последующих поколений.
Бёклин со своими наполненными мрачной меланхолией архитектурными пейзажами, стихийным всплеском жизни и дыханием смерти в картинах на мифологические сюжеты занимает в этом ряду особое место. Прочерчивая в более чем полувековом художественном развитии не лишенное конфликтов и отступлений, но, по существу, достаточно органичное перерастание романтизма в символизм, этот мастер в разных ипостасях прозревал неоднозначные связи главных величин бытия.
Несколько произведений, появившихся у Бёклина на рубеже 1840–1850 гг., побуждают по-новому посмотреть на то, как и когда, формировалось символистское мышление в немецкой живописи. Картина «Горный ландшафт и водопад», с мрачной доминантой скал на первом плане и видимой в узкий просвет синевато-серого неба белоснежной горной цепью, воспринимается как некий эскиз излюбленного символистами горного пейзажа. Смелое оперирование большими цветовыми плоскостями, диссонансная световая партитура, путающие зрительный масштаб отношения дальних и ближних планов, – все это, хотя в отдельных моментах и было инспирировано открытиями романтизма, анонс того, что утвердится в рубежную пору.
Даже когда Бёклин держится в русле мотивов Каспара Давида Фридриха, как в полотне «Высокогорное плато с деревьями», пронзительное сопоставление черноты земли и словно переживших страшную драму, почти лишенных кроны деревьев с золотой заливкой неба превращает пейзаж в произведение символистского толка.
И в другом жанре – портрете – живописец обнаруживает выходы к художественной типологии и поэтике символизма. Замершая, словно одеревеневшая фигура женщины, ее полное отрешенной замкнутости нервное лицо – свидетельство ухода в иные миры. Какая-то тайна тяготеет над всем ее существом. В отличие от этой почти мистической статики природа обрисована в картине как полная жизни одухотворенная фактура. Вибрирующие, шелестящие, загорающиеся красноватым пламенем листья – ведущая метафора пейзажа. В такой контрастной завязке двух художественных пластов картины возникает близкий символизму контекст. Известный романтический мотив – изображение женской фигуры под деревом – получает в полотне Бёклина индивидуальную поэтическую трансформацию.
И все-таки, как ни странно, не эти полотна стали доминантой творческого самообозначения художника в начале его пути. В Шаакмузее в Мюнхене демонстрируются несколько работ Бёклина первой половины и середины 1860 гг., объединенных темой вольного пребывания человека в окружающем пейзажном пространстве. Написанные в приглушенных бледно-зеленых, разбелено-охристых и розоватых тонах вариации одного мотива – изображение обнаженного юноши на берегу реки, среди деревьев – лишь в редких случаях обострены акцентами красного в метафорических деталях (цветы в руке юноши). Сложный баланс чувственно ощутимого, прежде всего в характеристике человеческого типажа, и одновременно пришедшей из грез потусторонности заставляет связывать эти ранние произведения Бёклина не только с романтической традицией, но и с предчувствием символистской поэтики. Забегая вперед, скажем, что только что начавший свое обучение в Мюнхене П. Клее пишет родителям: «В Шаак-галерее импонируют только картины Бёклина. Фейербах оставляет меня холодным, что касается Мориса Швиндта, тут я могу только улыбаться»[44]44
Brief vom 24. Oktober 1898. – Felix Klee – Paul Klee. Brief an die Familie Band 1893–1906. Köln, 1979. S. 21.
[Закрыть].
Все сознательно безакцентно в работах Бёклина в этот период, все строится на достаточно минималистских для той поры отношениях фигур и их природного окружения. Духовное искательство связывается с природой. Не раз человек прячется в ней, ищет мистической защиты в ее чистом и волшебно-заманчивом мире. Такова «Венера в розовых кустах» (1867) из Базельского художественного музея. Впоследствии, как известно, мотив слияния, уподобления, «перепутанности» человеческих фигур и деревьев станет в искусстве символизма одним из самых популярных. Но в отличие от многих женских образов, появившихся в конце века, с их откровенной взвинченностью Венера Бёклина полна непосредственного обаяния.
Более сложные отношения с реальностью складываются в другой пасторальной картине художника «Химера с рожком» (1866), написанной после очередной поездки в Италию, искусство и природу которой он боготворил. Рим, Помпея были для него самыми высокими святынями. Отнюдь неслучайной была и его дружба с назарейцами. Как верно заметил один из его учеников, это произведение Бёклина «похоже на незаконченные помпейские картины». Ретроспективный отсыл служит в данном случае такому подчеркиванию условности, которое вместе с жухлым колоритом фигуры и отвлеченностью бледно-голубого фона поддерживает тему чего-то призрачного, искусно смонтированного временем, историей, природой. Запеленутая в какой-то странный саван из истлевших трав и драпировок, наслоений гипса и песка, фигура женщины субтильна, невесома. Намеки на несколько жеманную чувственность соседствуют в этом образе с мотивом увядания, лирическая грациозность – со знаковостью древнего гербария.
По-разному духовно и эмоционально озвученная тончайшая созерцательная интонация станет с годами одной из примет Бёклина.
И все же не рано возникшие догадки, не смелое опробование нового в таких жанрах, как пейзаж, портрет, живописные пасторали, а своеобразное отношение к вечным темам и более всего индивидуальный поэтический взгляд на проблемы Жизни и Смерти сделали Бёклина одним из самых известных в Европе художников-символистов. Устремленность к обобщениям не исключала для художника осознания многоликости этих философских констант бытия.
Движение и самое существо Жизни, ее различные ипостаси интересовали Бёклина не в ситуационном смысле, как представителей бытового реализма, и не в поэтическом прославлении красоты мгновения, как импрессионистов. Удивительно сопрягаются между собой в его искусстве интонации жизненного созерцания и бурлеска, ожесточенность смертельных схваток и праздничная расслабленность. Такой разброс, впрочем, вообще характерен для немецкого символизма в сфере живописи. Снова и снова обнаруживаешь в нем перепады от пасторальности к борческим началам, от духовного уединения к радостному соприкосновению с миром, от ощущения совершенства человека и природы к отчужденно пессимистическому восприятию мироздания.
И все же в творчестве Бёклина эти сопряжения имеют особую плотность. Когда рассматриваешь его камерные сцены 1860 г., непросто представить, что уже через несколько лет он окажется автором изображений рассекающих водную гладь морских чудовищ, в начале седьмого десятилетия века создаст апофеоз всемирного ожесточения – грандиозную картину «Битва кентавров» (1872), а позже – известный символ просветленности и гармонии – «Остров любви» (1888). Соотношение поэтического и драматического, созерцательного и брутально агрессивного в его искусстве заключает в себе специфическое, во многом контрастное восприятие жизни.
Как уже говорилось, Жизнь во многих ранних произведениях Бёклина трактуется прежде всего как созерцание. Но Бёклин не хотел полностью погружаться в созерцательный столбняк, отдать в ту пору решающее предпочтение поэтическим идиллиям или меланхолической грусти. С восторгом представляет он в работах, появившихся несколько лет позднее, в конце 60-х гг. XIX в., но с особой систематичностью в следующем десятилетии, пьянящее обольщение моря – прихотливое движение мерцающих в игре света волн, выразительно рисующиеся среди скал очертания бухт и заливов, магнетически привлекательную синеву морского простора. Насыщенный синий цвет, содержащий в себе переливы зеленого и голубого и неожиданно выступающий в обрамлении темных тонов, воспринимается в этом цикле полотен Бёклина как олицетворение непостижимой бесконечности и игровой легкости жизни.
Нередко художник погружает в волшебную, полную зрительных эффектов водную стихию какие-нибудь мифологические существа – русалок и наяд, веселых или встревоженных, демонстративно замерших, чтобы благодаря прозрачности волн можно было проникнуться колдовским притяжением нежной округлости их форм, ослепительным свечением белых и розоватых тел («В игре волн», 1883, Новая Мюнхенская Пинакотека). Не раз предстают эти красавицы, в облике которых можно узнать некоторых знакомых живописцу дам, в окружении играющих тритонов. Мощно вторгающиеся в морские просторы, заставляя волны расступаться, или уже достигшие берега и привольно расположившиеся там, эти лохматые, покрытые рыбьей чешуей и имеющие мужское обличье чудища также воплощение стихийных сил природы.
Своеобразно сталкиваются в этом цикле Бёклина разные творческие тенденции. Эстетизм смешивается с натурализмом, безоглядная фантазийность – с салонной успокоенностью, эпическая широта – с экзотизмом, наконец, размах замысла – с известной утратой вкуса. Так или иначе, для публики и большого круга европейских живописцев 70–80 гг. XIX в. – современников Бёклина заложенная в этом цикле концепция оказалась весьма привлекательной. В противовес накопившимся в искусстве, общественном поведении и частной жизни многочисленным условностям он пропел гимн раскованной чувственности и инстинктивной эмоциональности, как чему-то естественному для всего природного космоса. Его картины, в которых привольно чувствуют себя легендарные существа и реальные персонажи, пробуждали бунтарский дух.
Такая тональность обнаруживает поэтическое сцепление с романтизмом. Последний, как известно, воспринимал сближение с природой как проявление искренних чувств, питал интерес к диковинному, экзотическому. Нередко это облачалось в форму романтической иронии. (Отчасти на этих путях формировался и упомянутый нами цикл Бёклина.) Символизм и модерн также немало способствовали тому, чтобы преодолеть в искусстве отвлеченную правильность. Вдохновляло совсем иное: показать жизнь в ее деформациях, превращениях, странных и неожиданных поворотах. На рубеже XIX–XX вв. это стремление дало себя знать в полном пронзительной меланхолии образе декадента в портрете, в театрализации картин природы в пейзаже, а в композициях на вечные темы – в необычности сочетаний реального и фантазийного, причудливой костюмировке персонажей, структурных диссонансах пространства и во многом другом. Все это помогало вникнуть в духовные тайны мира, делало художественное творчество гибким и артистически наполненным, хотя подчас и не лишенным болезненных акцентов.
В отличие от тех мастеров позднего романтизма, что в разных формах тяготели к классицизирующему академизму, Бёклин трактовал классическую традицию, в данном случае одну из ее основ – античную мифологию, отнюдь не дидактически. Для него это было возвращением к чему-то исконному, излучающему здоровье, естественному. Оригинально найденное им сопряжение античности с варварской стихией впоследствии превратилось в искусстве символизма в одну из самобытных творческих линий. Подобные устремления была антитезой тому, что делали такие мэтры символистской живописи, как Шаванн, Берн-Джонс и некоторые другие, обращавшиеся к античности как примеру благородства, гармонии и безупречного стилизма. Бёклина же в немалой части его искательства влекли гиперболы, перед которыми отступали на второй план поиски стилистической чистоты. Его цикл с изображением русалок и тритонов воспринимается как осознанный взрыв анти-эстетизма, обращенный скорее к бруталистским формам барокко и средневековому натурализму, чем к стилистическим ориентациям искусства Древней Греции. В поисках столь поразившего Европу неожиданного художественного контекста Бёклин усвоил связь античных образов с универсумом, а не их пластическую целостность и ансамблевость.
Открыто славит он поэтическую наивность, противостоящую нормативности многих образцов европейского классического наследия последних веков, а заодно и чрезмерному серьезу профессионального искусства своего времени, будь то сюжетный реализм или оснащенный многочисленными аллегориями поздний романтизм. Настойчиво, хотя и с разной мерой успеха, разрабатывал этот немецкий мастер такие изобразительные схемы и версии стиля, в которых сложные построения уступали место иногда изысканной, иногда грубоватой упрощенности манеры, а наивно-игровая интрига сюжета живо участвовала в рождении нового эпоса.
И в этом ракурсе, при всем своеобразии, очевидны соприкосновения с одним из векторов развития современной Бёклину европейской живописи.
Нарастающее освобождение от повествовательной многосложности, тяготение к поэтической простоте стиля и художественного языка прослеживаются в живописи середины и второй половины XIX в. в нескольких несхожих вариантах. Сдержанный монументализм возникших на стыке романтизма и реализма образов Курбе, Домье, Милле, обаятельная естественность и собранность живописи Эдуарда Мане, раннего Ренуара, Сислея, возвышенная простота лучших работ прерафаэлитов, тонкая апелляция Уистлера к скромной, полной достоинства голландской бытовой картине XVII в., а если заглянуть в новый век, проникновенный минимализм «голубого» Пикассо – лишь самые основные вехи этих принципиально обогативших живопись поисков.
Как известно, в европейском символизме эта тенденция сосуществовала, а подчас и противостояла противоположной – фантазийной насыщенности образов и построений, их усложненной монтажности. Так работали Моро, Климт, Зичи, Энсор. Но и для них сдержанная простота стиля была нередко важным императивом художественного мышления.
На этом фоне бросаются в глаза контрастность и известный буквализм Бёклинского «опрощения», ставшего в определенный период непременным качеством его символических разработок. Тут, как уже говорилось, были свои находки, нечто действительно состоявшееся, привлекающее новизной и неожиданностью, но порой и явная несоразмерность акцентов. Слишком часто становится предметом эпатажа зримый облик его представляющих симбиоз человеческих и животных начал мифологических персонажей. Эротизм этих образов – существенный штрих в утверждении темы романтического бунтарства – оказывается одновременно и чем-то разоблачительным по отношению к мифологическому строю картины.
В хранящейся в мюнхенском Шаак-музее картине «Тритон и Нереида» (1872) первый план подавляет своей выставленной напоказ грубоватой массивностью. Погруженная в тень монолитная фигура Тритона и распростертое на камнях энергично моделированное светом плотное тело Нереиды будто вылеплены скульптором. Главенствует в этой связке тема диких животных страстей, взрыва и успокоения стихийных сил природы. Однако подчеркнутая картинность первого плана сопоставляется в полотне немецкого живописца с более сложным метафорическим решением дальнего плана. Мрачно нарастающие в темной бесконечности волны – предвестие или аккомпанемент роковых событий.
Имея в виду эту метафору, демонстративная натуральность почти вываливающихся на зрителя фигурантов античного мифа может показаться в чем-то несуразной. Александр Бенуа вообще считал Бёклина прежде всего мастером пейзажа, глубинно ощущающим жизнь природы. По его мнению, включение в эти пейзажные панорамы натурно разработанных мифологических фигур лишь портит общее впечатление от картин. Действительно, руководствуясь критерием художественной законченности, нетрудно обнаружить в полотне «Тритон и Нереида» определенные диссонансы. И все же в таком сопряжении у живописца были определенные резоны. Откровенно натуралистическая фактура включается в композицию картины таким образом, что в целом ее симфонический лад сохраняется. Соотношение мрачного омута и зримо написанных мифологических персонажей – по-своему выразительный намек на когда-то происшедшую и вновь готовую повториться драму. Естественно, можно было, вероятно, найти более эстетически единый дух всей этой драматургии. Впрочем, «нелогичные» соединения романтического и антиромантического, символического и натурального в свете практики нескольких художественных направлений XX в. не выглядят чем-то из ряда вон выходящим.
Возвращение к лишенным благостности и сомасштабным мифам представлениям о жизни, ее древности и современности и, в какой-то мере, ее роковой предопределенности было одной из самых смелых творческих затей Бёклина. Его суровые идиллии явно нарушали сложившуюся к 70-м гг. XIX в. панораму европейской живописи. Кроме стилистических и концепционных новаций немецкого живописца показательна иконография его «варварского цикла». Бёклин охотно изображал тритонов и наяд – мифологические существа, ставшие впоследствии органическим компонентом искусства символизма и модерна, трактуя их в наивно-игровом и гротескно утрированном плане. Напомним, что основанный в 1890 г. первый журнал, в котором проповедовались идеи и формы, весьма близкие искусству Сецессии, назывался «Пан».
Как представитель немецкой школы Бёклин обозначил свое самостоятельное понимание тяготеющей к символизму опосредованности изобразительного типажа. Это было совсем иное, чем духовная символизация и эстетизм женских образов у английских прерафаэлитов и рафинированное соединение изображения мифологических божеств с тончайшей вибрацией природы во французской живописи. Создавая свою типологию существ, вместивших в себе черты человека и зверя, он, как уже отмечалось, хотел обрести утраченную связь с чем-то исконно природным.
Поэтическая жизнь природы стала в последние десятилетия XX в. одним из главных притяжений европейских живописцев. В разнообразной палитре их исканий, за которыми стояли близкие или контрастные концепции мира, отношение к природе как взрыву или веками существующей гармонической структуре, чему-то полному импульсивной жизни или слегка оттененной духовным волнением статике, просветленной идиллии или возрастающему преклонению перед мрачным роком, многие полотна Бёклина 70-х гг. XIX в. занимают особое место.
Вместе с затейливыми играми и беззаботным весельем в них, однако, время от времени слышится идущий издалека роковой гул, рождается напряжение, готовое прорваться драматическим срывом, неожиданным скрещением, агонией. В бёклинских картинах, изображающих веселящихся тритонов и русалок, что-то все время таится. Опасная неизвестность рисующегося в тумане берега, нависающая над бухтой туча, зловещие очертания скал, а порой и сам облик диковинных пришельцев, в чем-то узнаваемых, в чем-то вызывающих страх, ставят под вопрос радостную беззаботность. В бёклинских образах и сюжетах этого десятилетия свобода готова подчас обернуться трагическим столкновением, праздник – уступить место жертвенности, а опьянение жизнью – смениться торжеством смерти.
Отчасти такая атмосфера создается с помощью популярных в романтическом искусстве приемов. Но все чаще появляется столь впечатляющее совмещение фактур, такая оптическая экспрессия, столь остро спорящее с другими характеристиками пейзажа соотношение светлых и темных тонов, что это позволяет почувствовать, как созревало искусство символизма не только как поэтическое олицетворение, но и как живописная структура. Конечно, Бёклин был далек в этом движении от во всем продуманной синхронности. Но показательна сама постановка новых задач, интересная, даже когда они не получают последовательное разрешение.
Это вполне относилось к интерпретации художником темы Жизни и Смерти.
Почти с самого начала бёклинское вдохновение праздничным опьянением жизни обрело свой антипод в его же собственной картине «Битва кентавров». Экспонируемая впервые на Всемирной выставке в Вене в 1873 г., она привлекла внимание, вызвав множество зрительских откликов и отзывов прессы. Присуждение немецкому живописцу бронзовой медали не исключило весьма ожесточенной полемики вокруг картины. Отразились и политические моменты, и столкновение менталитетов. Остановимся, однако, на концептуальных особенностях сочинения Бёклина в том ракурсе творческих разработок, о котором идет речь в нашей статье. Хотя после этой картины художник создал много других и творил еще почти три десятилетия, есть нечто такое, что заставляет отнестись к ней с особым вниманием.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?