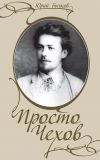Текст книги "Неизвестность искусства"

Автор книги: Игорь Светлов
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Неоднозначно осмысливались и другие традиционные структуры. Сложным поэтическим содержанием наполнялись декоративные панно. Такая их выразительность особо привлекала зрительское внимание. Наряду с емкими обобщениями проявляли интерес к присущим станковому искусству сюжетным отступлениям монументалисты. Все это в какой-то мере отражало непросто шедший процесс сопряжения художественной фантазии и многозначного приближения к реальности, меняющиеся отношения между нарастающим влечением к абстракции и любовно поддерживаемым ведущими представителями венского «Сецессиона» культом чувственности.
После этих рассуждений, навеянных зрительным образом выставки, обратимся к ее тематическому значению, идеям и поискам, глубинно связанным с символистской концепцией.
На выставке обращали на себя внимание связанная с бетховенской темой оригинально построенная по вертикали композиция Ко-ломана Мозера с изящным ритмическим повторением одного и того же мотива, предложенный Эрнстом Штером вариант линеарно-плоскостной абстракции в изображении распространенного в модерне мотива распущенных женских волос, интересная декоративная композиция Альфреда Роллера «Утопающая ночь», в которой символический смысл гибельного погружения передавался с помощью композиционных повторов.
Еще одним немаловажным ракурсом этого удивительного синтеза стало превращение экспозиционного решения в своеобразный мост между удаленными друг от друга, согласно известной исторической хронологии, но в чем-то духовно родственными между собой творческими личностями и художественными эпохами.
Выбор темы выставки был глубоко закономерен. Полная титанического напряжения и лирических прозрений, роковых предначертаний и обращенных к универсуму оптимистических апофеозов музыка Бетховена была для венских сецессионистов высоким воплощением духовности. Творческое бунтарство композитора воспринималось ими как олицетворение свободы и иррациональности мышления художника. А насыщенная борьбой и духовным сопротивлением жизнь Бетховена представлялась драматическим состязанием с судьбой.
Тон всей выставке задавало скульптурное изображение композитора, созданное Максом Клингером. Апофеоз Бетховена осознанно совместился в замысле организаторов выставки и авторов ее экспозиции (Ольбрих, Климт) с апофеозом Клингера. Фатально воздействуя на зрителя, такое скрещение должно было определить интонацию всего посвященного Бетховену показа. Выполненная в белом мраморе скульптура Клингера в полной мере отвечала этим ожиданиям. Тема острого внутреннего конфликта получила выражение в проходящей по лицу композитора мучительной судороге, в странности и неустойчивости положения фигуры. Но не только экспрессия созданного Клингером символического портрета оправдывала доминантное положение статуи в самом начале экспозиции. Широкий ритм в соотношениях масс позволял произведению немецкого мастера активно смотреться в большом пространстве. Установленная Хоффманом в эпицентре нескольких силовых линий, обозреваемая со всех сторон, скульптура как бы собирала воедино работы разных жанров и стилей, размещенные в нескольких пространственных зонах выставки.
Второй (после клингеровской статуи) центр притяжения выставки 1902 г. – «Бетховенский фриз» Климта – уже в краткий период его экспонирования в Вене стал объектом ожесточенной дискуссии. Определенная часть публики продолжала по инерции обвинять художника в нарушении общественной благопристойности, в особенности в сценах, символизирующих Зло. Гротесковый гиперболизм последних, хотя он и имел за собой известную традицию в мировом искусстве, а также среди современников художника, считали оскорблением сложившихся в венской бюргерской среде представлений о возвышенности и поэзии. Для этого круга неприемлемыми оказались сильные в его произведении эротизм и чувственность. В то же время некоторых сторонников эстетизма, в том числе и союзников Климта, раздражал его программный тематизм. Темы ищущего, страдающего Человека и пути Человечества, еще совсем недавно увлекавшие многих живописцев, скульпторов, графиков, теперь воспринимались ими как анахронизм. Климтовский фриз виделся и в этом отношении, и в его стилистической сложности как что-то инородное по отношению к господствовавшей, по их мнению, на выставке линии рационализма и изящества.
Однако и режиссер «Бетховенской выставки» Хоффман, и идеологи «Сецессиона» Бар и Хевеши, и соратники Климта Мозер, Ольбрих, Штер, и значительная часть аудитории, сочувствовавшей в рубежный период основному направлению венских выставок, восприняли сочинение художника как выдающийся образец творческого обновления. Захватывала широта, с которой развертывался в поистине бесконечной панораме образов философский спор Добра и Зла. Климт, по его признанию, соперничал тут с Микеланджело, вдохновляясь, впрочем, в нервной энергетике своего произведения больше драматизмом и мощью образов «Страшного суда», чем гармоничностью Сивилл и эпичностью сцен Ветхого Завета.
При взгляде на занимающий три стены в специальном зале здания венского «Сецессиона» фриз поражает необычайная спрессованность образов, плотность, с которой следуют друг за другом сюжеты, символические олицетворения, сгущения и разряжения ритма. Получив в каких-то исходных моментах импульс в «непрерывном» музыкальном письме Бетховена, Климт несомненно находился под обаянием других фигур – своих современников, более всего Малера, с которым он был дружен. Впрочем, в потрясающей насыщенности его изобразительных и выразительных структур, не ослабевающей даже тогда, когда появляются редкие паузы, прослеживается также воздействие популярного в среде символистов (не только в творчестве, но и теоретических идеях) Рихарда Вагнера. В значительной мере под влиянием вагнеровской расшифровки программы Девятой симфонии Бетховена складывался замысел Климта – тематический состав и отвечающая динамике основных членений фриза смена эмоциональных настроений.
В контексте вагнеровских идей можно воспринять и мощно выраженную во всей структуре фриза волю к синтезу. Поразительная встреча монументальной собранности и картинного расцвечивания отдельных эпизодов, шаржированных сцен и бесстрастных зарисовок, фресковых по характеру композиций и напоминающих иллюстрации к древним книгам знаков, мерцающих мозаичных фактур и декоративной линейности живописных и графических силуэтов создавала столь неодносложную цельность, что впору было говорить о каком-то новом варианте жанровой и стилистической общности искусства.
При всем том не может быть речи о какой-либо хаотичности. «Бетховенский фриз» отчетливо продуман в своих основных узлах – тематическом распределении материала (локализация главенствующих тем Добра и Зла, завершение всей композиции синхронно финалу бетховенской симфонии монументально-хоровым образом триумфа Любви), сопряжении динамики и статики фигур, активизации и приглушении колорита, нагнетании и, напротив, отказе от декоративности. Все эти синхронности и диссонансы, в том числе возникающие среди экспрессивных всплесков как подлинная драгоценность гармонические мотивы, взаимосвязаны. Они – отражение переживаний художника за судьбы Человечества, пластический эквивалент его трагических противоречий и одновременно проповедь его спасения в Любви и Искусстве.
На новом уровне в сравнении с университетским проектом конца XIX века демонстрирует Климт свою приверженность к философскому взгляду на мир, исключая при этом историзм и психологизм и делая сильный акцент на артистических вариациях символизма.
Еще более рельефно, чем раньше, обнажая человеческие пороки и несовершенства, он с особой поэтической утонченностью повествует о духовных просветлениях человека. Именно встреча с монументальными произведениями Климта позволила Хевеши сказать про венский сецессионный Дом: «Это храм, наполненный борьбой и страданиями человека»[89]89
Hevesi L. Acht Jahre Secession. Wien. 1906. S. 101.
[Закрыть].
Наряду с идейной программой Климта внимания заслуживает и его воплощенная в «Бетховенском фризе» стилистическая концепция – весьма индивидуальное соединение эстетизма и брутализма, созерцательного любования и доведенного до кульминации драматизма, изысканного стилизма и грубоватого натурализма. Поднимаясь в своем творчестве над полемикой, выраженной поначалу как альтернатива, попеременно затихавшей и обострявшейся, и в конечном счете вызвавшей раскол венского «Сецессиона», нельзя не оценить художественный синтез Климта как выдающееся явление и интереснейшее провидение. Поставив себе весьма сложные творческие задачи, он возвысился над диктатом жестких стилистических приверженностей. Его полюсные обозначения и не подчиненные поверхностной логике взаимодействия современных художественных открытий и традиций прежде всего в том, что касается цветовых и световых контрастов, элегантной и ослепительной декоративности, артистической динамики плоскостного изображения, оказались смелым творческим ходом. Лишь охватывая такие пласты художественной культуры последних двух веков как романтическая эклектика и постмодернизм, можно в известной мере понять историческое место стилистических комплексов Климта. Но в отличие от этих течений он выступал за энергетически заряженное, активное искусство.
Впрочем, сколь ни велика роль лидера того или иного художественного движения (а Климт и формально и реально именно таковым и был) он не мог во всем предвосхитить его судьбу, отменить возникающие в нем противоречия. «Бетховенская выставка» стала рубежом в развитии венского «Сецессиона». Это был пик новых идей, интересных творческих разработок и еще не реализованных, но весьма плодотворных замыслов. Диалогичность, а подчас и неожиданное сопряжение полюсов оборачивались в лучших творениях венских сецессионистов, и прежде всего у Климта, свежестью символических решений, нервным и изысканным стилизмом. Артистически обыгрывались неизвестные ранее многосложные техники в монументальном искусстве. В увлекательные и совершенные формы отлилось искусство выставок.
Однако, как выявилось в период экспонирования выставки, восприятие функций изобразительного искусства, отношение к проблемам стиля, осознание места монументального и станкового искусства в современном художественном развитии оказались среди двух групп ее участников глубоко различны. «Стилисты» и вместе с ними приверженцы пространственной концепции искусства подчеркивали служебную роль искусств, его подчиненность закономерностям, присущим декоративизму и дизайну. Напротив, натуралисты усматривали в этом опасность для автономной позиции живописи. Кроме того, они выступали против чрезмерной акцентировки интерьерности в выставочном деле. Как можно понять, речь шла не о частностях, а о принципиальной разности позиций.
В период «Священной весны» эти различия были смягчены. «Поначалу главный акцент делался на идеализме и юношеском самопожертвовании, все различия в характерах и взглядах отходили на задний план. Прекрасно уживались между собой натуралисты и оформители пространства», – отмечает А. Энгельгарт[90]90
Engelgart A. 1943. S. 121.
[Закрыть]. В дальнейшем, однако, с разворотом венского сецессионного движения и проведением многочисленных выставок, на которых рельефно обозначались позиции двух художественных лагерей, разрыв стал неизбежным. Оглядываясь назад, можно утверждать, что и этот конфликт, далеко не единственный в художественном пространстве Германии и Австро-Венгрии, и поистине вдохновенная совместная работа художников в «героический» период породили немало творческого, сохраняющего ныне свою ценность. Необычайно многогранный, освещенный поэзией артистического обновления, опыт венского «Сецессиона» еще предстоит исследовать в богатой совокупности художественных открытий и исканий, теоретических идей и организационных форм.
Австрийская живопись рубежа XIX–XX веков и классическая традиция. Климт, античность, Равенна
Впервые опубликовано: Австрийская живопись рубежа XIX–XX веков и классическая традиция. Климт, античность, Равенна // Jahrbuch der Österreich-Bibliothek in St. Petersburg, Bd. 5, 2002, Санкт-Петербургский государственный университет. Филологический факультет. P. 116–124.
Из конца XIX и начала нового столетия, чреватого знаменательными переменами в стилистике и поэтике живописи, протянулась нить к наследию античности и Византии, ставшему в глазах мастеров рубежного времени по новому притягательным. Непросто понять и в полной мере оценить это притяжение, в нескольких принципиальных пунктах очевидно не совпадающее с установкам модерна и в то же время близкое его увлечениям и эстетическим стремлениям. Как, казалось бы, можно увязать надрывную мятежность символизма и равновесие образов античности и Византии, соотнести присущую классическому искусству гармоничную целостность в изображении человека и природы и неожиданные отступления, разрывы, диссонансы которые так любили модерн и символизм?
Многие представители этих направлений культивировали соседство возвышенного и низменного, поэтического и безобразного, силы и слабости, необыкновенного и банального. В этом смысле живопись рубежа XIX–XX веков была скорее своеобразным продолжением романтизма. Но в какой-то мере она подобно романтизму активно вела диалог с классикой. В восприятии последней в рубежный период сменяли друг друга тяготение и отталкивание, восхищение и лишенные пиетета вариации. Одним из главных моментов отношения к классическому наследию в эпоху, загадки которой и ныне волнуют исследователей и любителей искусства, определялся стремлением увидеть его заново – как мифологию, эстетику, систему пластических ценностей.
Словно в противовес накопившейся в художественном мире усталости от бесчисленных вариаций тем, мотивов, приемов античного искусства, в которых часто терялся его подлинный смысл, возникла жажда представить мир как огромность и духовное воспарение, побуждавшая художников рубежа XIX–XX веков обращаться к наследию Древнего Египта, античной Греции, Византии. Такая творческая апелляция помогала обрести ясную дисциплину форм, раздвинуть горизонт мысли, а иногда и заглянуть в вечность, но ни в коем случае не сводилась к стилистической аутентичности.
К тому же для живописцев, графиков, скульпторов, работавших на рубеже XIX–XX веков, привлекательным оказался идеализм классики. В художественном творчестве, представляющем разные варианты искусства модерна и символизма, он раскрывался в диапазоне между углубленной созерцательностью и праздничным апофеозом, просветленным лиризмом и загадочным мистицизмом, отграниченностью от жизни и активным взаимодействием с ней. В то время как значительная часть европейских художников сосредоточилась на поэтизации непосредственных впечатлений действительности, другие сделали точкой отсчета античность. Лучшим способом достичь размежевания с невнятной, эклектической мешаниной второй половины XIX века казалось им стремление взять эту высокую ноту.
Был в рубежной творческой среде и еще один мотив, также усиливавший влечение к античному наследию, – настойчивое стремление к большому стилю. Античные ваятели, архитекторы, мастера вазописи и монументальной живописи, естественно, не были тут единственным полюсом притяжения. Модерн, как известно, немало сделал для того, чтобы возродить интерес к средневековым соборам и замкам, египетским и ассирийским рельефам, древним восточным орнаментам. В этом он также был продолжателем исторических завоеваний романтиков.
Все это, однако, не отменяет того факта, что путь нескольких видных представителей нового искусства был во многом инспирирован античным наследием. В каждой национальной художественной школе складывались, конечно, свои пропорции, возникали свои акценты. В Вене, в среде молодого поколения Густав Климт оказался по существу единственным художником, который обратился к античности не для того, чтобы повторять, а чтобы сделать союзником в трудном утверждении нового. Хотя по-началу у него это было не столь концепционно, как у ведущих мастеров французской и немецкой школы, ставших предтечами Ар-Нуво и Сецессиона. Прежде всего в графических листах, где присущий этому искусству конкурс идеальных форм встретился с образами, полными жизненной сублимации, можно было ощутить перспективное направление процесса. Античные мотивы то передаются в них с присущей модерну холодноватой отвлеченностью, то сопрягаются с экспрессионистским клише, чтобы создать ощущение охватывающего мир ужаса. Уже тут прочерчиваются некие дифференциации, впоследствии оказавшиеся для художника весьма и весьма важными.
При взгляде на произведения Климта конца девяностых складывается впечатление, что экспрессия и гротеск начинают программно преобладать над спокойной, уважительной ретроспекцией. В картине ”Афина Паллада“ (1898) сторонников следования классическим образцам возмутили вопиющие вольности в иконографии, эстетике и этике, которые, по их мнению, допустил здесь живописец. Действительно, Климт, учитывая избранный им мотив, агрессивно наступил здесь на тысячелетний шлейф достаточно монотонных вариаций. Именно так воспринимались бесцеремонность подчеркнуто фронтального разворота изображения, утяжеленности его форм, осознанное нарушение канона в соединении мотива черепа с напоминающим производственные ритмы и фактуры шлемом, закрывающим почти все лицо женщины кроме неподвижных глаз и тонкой линии безмолвного рта. В этой эпатажно отвечающей идеалам нарождающегося стиля работе Климта просматривалась тема торжествующей женщины, вестницы прошлого и олицетворения агрессивной воинственности настоящего, темы, столь популярной в австро-немецком искусстве на рубеже веков.
Можно и дальше перечислять разительные расхождения, которые заключала в себе тема Афины в греческой пластике и в трактовке Климта. Несмотря на это, здесь были какие-то параллели – в величественной очерченности целого, соединении монументальной устойчивости и декоративности. Внутренне художник скорее ориентировался на диалог, а не на разрыв с античностью. В этом сложном балансе отношений перевешивали то традиционные, то характерные для другого направления модерна экспрессивные начала, то складывались контуры их своеобразного синтеза. Именно как пример такого соединения воспринимается золотое одеяние богини – шлем и латы. В сделанном по античным проресям, но и чувствительно удаленном от них сочинении Климта с торжествующей широтой была заявлена тема золотого декора, ставшая впоследствии активным живописным и символическим элементом его искусства. Античность, древность стали тут подсказкой, но сам способ декоративного мышления означал ход к новому видению искусства, где стильность и экспрессия спорят, но и дополняют друг друга.
Неожиданность предпринятого Климтом эксперимента как пластики и художественного синтеза состояла в соединении монументальной структуры форм с оригинальной золотой декорацией, а его путь к символическому образу совмещал в себе гротеск и мистический ореол. Вместе с тем, руководствуясь заявленным в древности прецедентом, он нашел понятную для своего времени метафору. В золотых одеждах, с поблескивающим золотом копьем в руке Афина предстает как осуществляющая торжественный ритуал жрица.
О том, что «Афина Паллада» не осталась в этом смысле для художника чем-то единичным, свидетельствует написанная в 1901 году другая картина вертикального формата – «Юдифь I». Поэтизируя чувственный экстаз женщины вокруг усеченной головы и тем самым фактически приближаясь к сюжету Саломеи, художник одновременно находит свой способ сакрализации. Изображенная в окружении золотых веток деревьев и кустарников, объемно данных золотых плодов и, напротив, тонко намеченных золоченых декоративных орнаментов, Юдифь кажется жрицей изысканного золотого царства. Если в «Афине Палладе» Климт стремился придать живописному изображению почти скульптурную пластику, вступающую в напряженные отношения с золотым декором, то в «Юдифи I» последний связывается с различными вариантами графики. Есть и еще один важный штрих, свидетельствующий о перемене функции декорации такого рода в общем эмоциональном контексте картины. В «Афине Палладе» контраст огненно-переливчатого колорита золотой кольчуги и погруженной в тень головы углубляет драматическую сложность образа. В «Юдифи I» концепционная роль золотых графических заливов и орнаментальных деталей другая – педалировать тему побеждающего Смерть праздничного великолепия. В этом последнем плане в «Юдифи I» Климт намечает ориентир, который в дальнейшем получит развитие в ряде портретов и символических композиций, в особенности во время его „золотого периода“.
Главное, однако, в том, что он делает осознанный шаг к такому артистическому многообразию золотой декорации, которое по существу ведет к глобальному эстетизму. Так или иначе, уже в первый год нового века Климт показал свою особую приверженность к празднично-эротической зрелищности. Такая картина мира стала рассматриваться им как обостренная импульсация жизни и одновременно нечто близкое к искусству. Пройдет еще совсем немного лет, и художник будет продолжать это искательство, артистически используя выразительность линейно-цветового ритма, озаряя изображение изысканной вибрацией фона, создавая новые и новые варианты золотых декораций, вступающие в сложные и неожиданные соприкосновения с форсированным натурализмом портретных изображений.
Не менее значительным был и другой экспромт, позволяющий придать этой связке различные метафорические смыслы, не делая ее однако арбитром между позитивными и критическими знаками, поэтической торжественностью и драматизмом – знаменитый «Бетховенский фриз» (1902). Не вдаваясь во все аспекты стиля и символики образов этого монументального произведения, обратим внимание лишь на некоторые характерные узлы выразительности, свидетельствующие о необычности и одновременно структурности творческого мышления художника. Оригинально соединение в одной из сцен словно пришедшей из немецкого средневековья, сплетенной из тончайшей золотой вязи фигуры воина и будто только что сделанного гротесково-натуралистического рисунка нескольких обнаженных фигур – олицетворения мольбы о помощи. Поразительно это сосуществование идеального и реального, изысканности и грубоватого эпатирования. Как рафинированный стилист Климт, возможно, не должен был допускать этого симбиоза. Но как художник, воспринимающий контрасты жизни как собственную боль, в программной тематической композиции он не мог обойтись без таких скрещений. Важным пунктом эстетики Климта была его установка на принципиальное равноправие различных стилистических тенденций, в особенности когда создавалась многосложная композиция, в центре которой мечты и реальность, человеческая красота и человеческая угнетенность.
Впрочем, и когда Климт думал только о любви, он также не забывал об этой своей творческой и стилистической приверженности. В завершающей «Бетховенский фриз» сцене объятия влюбленных, обнаженные фигуры, в каких-то моментах близкие анатомическим штудиям, резко выделяются на фоне золотой рамы и покрытых золотыми узорами одеяний хористок. Трудно воспринимаемое сочетание! Натуралистическое изображение молодой пары – доминанта композиционная и тематическая, а окружающее его, развернутое в разных измерениях золотое пространство, другая доминанта – эстетическая, декоративная, знаковая.
Но даже когда художник обращается к единичным элементам золотого декора, он сообщает им особое пространственное звучание, самостоятельную ритмическую роль в сложно и многопланово построенной композиции. В центральной панели «Бетховенского фриза», где главенствуют образы враждебных человечеству сил, наряду с гротесковым изображением наглой бабы, отнюдь не стыдящейся своих безобразных форм (Излишество), и соблазняющих притворными улыбками и гибкостью движений молодых женщин (Буйство и Разврат), а с другой стороны – образом мрачного гиганта Тифея в виде оскалившей зубы обезьяны с мрачно горящими глазами, неожиданно появляются две прорезающие тьму золотые спирали. Знаковая графика Климта оттеняет своей чистотой и достоинством вакханалию фигур, олицетворяющих жриц порока. Впрочем, эта золотая проресь имеет и собственный символический статус – олицетворяя свернувшуюся змею и древо жизни, другие начала, заимствованные художником скорее всего из восточного символического пантеона.
Когда же Климт поэтизирует средоточие гармонических начал, вновь, как и в изображении Рыцаря, золотая пленка покрывает почти всю фигуру. Такова рожденная памятью о древности фигура Арфистки. Сплошная золотая заливка поддерживает в данном случае праздничную, просветленную тональность образа, попутно напоминая о золотом веке искусства, каким была для многих поколений античная Греция, и шире – о золотом веке человечества. Даже в таком наделенном экспрессионистскими акцентами произведении, как «Бетховенский фриз», античность вновь напоминает о себе как пример эстетизма и идеальности.
В 1902 году, вскоре после завершения «Бетховенской выставки», Климт посетил Равенну. Созерцание представляющих образцы поздневизантийского искусства равеннских мозаик стало для него одним из сильнейших впечатлений жизни. Поражали многочисленность и разнообразие мозаичных комплексов, украшающих базилики, капеллы, мавзолеи. Производили сильнейшее впечатление всеохватность пространства и его чудесное преображение, которые демонстрировали мастера, работавшие здесь почти полторы тысячи лет назад. Неизгладимый след оставляла эта встреча в сознании художника рубежного времени и потому, что его парадигма заключала в себе ожидание, надежду, потребность в праздничности и энергетическом шоке как противостоянии смутности и неустойчивости.
Мир Равенны потряс Климта, взял его в плен, вдохновил своим сиянием и размахом, тотальностью монументализма и тотальностью декоративизма, философской мудростью и открытостью жизни. Это было для художника великим событием, впрочем, еще и потому, что в своем творческом развитии он подошел к такому рубежу, когда нужно было определять дальнейшие приоритеты, искать преимущественный тон в отношении к искусству после сложно сбалансированного и вместе с тем достаточно хрупкого равновесия, которое сложилось в „Бетховенском фризе“. Хотя контрасты, обострения, возвращения к гармонизации сопровождали Климта на протяжении всего его творческого пути, все же можно заметить определенные периоды, когда преобладание каких-то эстетических и стилистических тенденций ясно обнаруживалось.
Одним из главных итогов соприкосновения венского мастера с искусством Равенны принято считать усиление в это время золотой колористики в его живописи, особенно заметное по крайней мере до 1908 года. Действительно, в произведениях этого периода, таких как «Поцелуй»(1908), портрет Адели Блох-Бауэр (1907), фриз для дворца брюссельского миллионера Стокле (1904–1907), золото превращается в одну из композиционных, колористических, эстетических доминант. Приемы мозаичной кладки или аппликации то выполняют роль фона, то служат изобразительной концентрации, то участвуют в декоративной игре, одновременно обнаруживая свою причастность к символическим решениям художника и создаваемой им духовной атмосфере. Зрительное соприкосновение с золотым мерцанием мозаичных поверхностей, рафинированной золотой отделкой одежды, архитектурными и пейзажными деталями, которое Климт имел в Равенне, активизировало его наметившееся уже ранее влечение к золотой колористике как союзу эстетизма и метафоризма.
Не все, конечно, исчерпывалось золотым шоком. Климт как художник не мог остаться равнодушным к просветленному, радостному цветовому облику равеннских мозаик. Задето было и его колористическое, пластическое чувство, и его философско-эмоциональное видение мира. При всем осознании и тягостном переживании несовершенств и пороков человечества, не изменяя своей зависимости от роковых предначертаний судьбы, он испытывал радость от созерцания красоты пейзажа, пластичности человеческого тела, красоты женских лиц. Это активное, бурлящее энергией мировосприятие получило мощный допинг во время посещения Равенны.
Без этого едва ли возник бы, например, макрокосм «Поцелуя» с его головокружительным ходом образующих крупную кристаллообразную форму золотых плоскостей, украшенных серебряными и желтыми прямоугольниками и черными орнаментальными вставками. Речь идет в данном случае, как, впрочем, и в портрете Блох-Бауэр, не о подражании, не о прямом переносе каких-то мотивов, а об утверждении декоративизма как структурообразующего начала и самостоятельного направления монументализма. Естественно, не только пример Равенны здесь был задействован. Климт был хорошо знаком с тем, что делали в это время другие его коллеги из разных стран Европы, решая проблемы формообразования и роли живописной декоративности в картине и монументальных панно. Впечатления от произведений Моро, Штука, Ходлера не проходили для него даром.
И все-таки можно утверждать, что после Равенны в его декоративном строительстве появилось новое широкое дыхание, новый полет фантазии, который связывал декоративный мотив с оригинальными замыслами, имеющими, как правило, монументально размашистую и вместе с тем сокровенно духовную интонацию. Так случилось, в частности, когда пришла к завершению картина «Поцелуй». Орнаментальность одежд и очертания фигур спрессованы в ней так, что возникает чувственное волнение, сообщающее космической организации форм нечто эмоционально-загадочное, а пестрый луг под ногами влюбленных становится своеобразным синонимом жизни, которую невозможно исчерпать.
Иные, хотя по своему не менее сложные соотношения структурирования целого и деталей и темы напряженного экстатического переживания возникают в портрете Адели Блох-Бауэр. Весьма индивидуально соотносятся в нем интимность, с которой передается облик изысканной светской женщины, и власть сочетаний, вибраций, причудливых превращений, которой обладает окружающий ее золотой мир. Одни видят в представленном так художником облике венской аристократки современную Феодору, имея ввиду известное изображение на одной из равеннских мозаик, другие – молодую пленницу буржуазного золотого мира. Можно воспринимать такой творческий прием и по другому – как воплощении идеального мира, в котором женщина – царица красоты.
С другой стороны, погружение своеобразно решенного экспрессивно-поэтического портрета в мир золотых созвучий свидетельствует о новом повороте в непрекращающемся эксперименте Клим-та. Контуры фигуры Адели включаются в общий узорный план фона, распадающегося на бесконечные вариации ромбов, квадратов, треугольников. При этом мелкие ритмы соседствуют с более крупными, местами ощущается определенное зонирование – различные элементы собираются в группы и вновь образуют фантастические драгоценные россыпи. Если в „Поцелуе“ Климт потряс своих современников (и, как показала прошедшая по многим художественным центрам выставка „Вена на заре XX столетия“, не только их) космическим строительством монументальной формы, включившем в себя декоративную геометрию как собирательный акцент, то в портрете Блох-Бауэр геометрический орнамент в соединении с растительным и с известными с древности символами превращается в отчасти упорядоченное, отчасти стихийное движение энергетических потоков, составляющих внутреннюю пружину всего изображения. Синтезируя структурно отличные друг от друга компоненты картины, смело объединяя фигуративные и нефигуративные формы, Климт выступает здесь синхронно, а иногда и как предтеча начавшегося на рубеже веков и продолженного в первые десятилетия XX столетия обновления живописи.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?