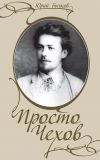Текст книги "Неизвестность искусства"

Автор книги: Игорь Светлов
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Постмодернизм предлагает свои формы сакрализации. Их предметом становятся воспоминания, образы природы или специфической предметной среды, понятие родины, метафоры детства и домашнего очага. И все-таки, еще раз убеждаешься, что в освещении вечных тем есть определенная перекличка между климтовским символизмом и ставшими реакцией на авангардные искания творениями художников конца нашего века. Правда, в отличие от многих правоверных постмодернистов, которые сообщают своим образам пассеистическую или апокалиптическую интонацию, тональность картин Климта, нередко пронизанных настроением приподнятости и романтического экстаза, совсем иная.
Зато как параллель постмодернистской релятивности можно рассматривать одновременный интерес австрийского мастера к прекрасному и безобразному, часто заставляющий соединять их в одном произведении. Сам по себе такой подход не был каким-то исключительным изобретением Климта. Достаточно назвать Родена, Моро, Энзора. Эти мастера, и еще более художники последующих поколений уравняли обе названные категории как предмет искусства. Но в финале XX века в теории и творческой практике постмодернизма вновь оживились их сложные дифференциации и взаимные подмены. Вот как характеризует эту ситуацию современный исследователь: „Постоянные колебания между мифом и пародией, непреходящим смыслом и языковой игрой, архетипическими экзистенциональными сюжетами и сюрреалистическим автобиографизмом создают то особое напряжение между садомазахистским профанированием официальных клише и запредельным сомнамбулизмом умозрительно-декоративных конструкций, которое свидетельствует о стремлении одновременно отвлечь и развлечь аудиторию путем театрализации безобразного“[75]75
Маньковская Н. Постмодернизм в России // Теория художественной культуры. Вып. 2. – М., 1998. С. 13.
[Закрыть].
Возникающее наряду с этим обращение к архетипам высокого искусства, нередко с целью поддержать тему идеального, образуют ситуацию в известном смысле сопоставимую с устремлениями художников, работавших столетие назад. Климт занимает среди них особое место. С исключительным пафосом разрабатывая в своих портретах и картинах тему красоты как одухотворяющего мир начала, он настойчиво возвращается к мотиву безобразного как сгустка самой жизни. В монументальных работах мастера эти чередования стали одним из основных концепционных ходов.
К постмодернистской фазе развития искусства нужно вернуться, чтобы попытаться понять некоторые загадки творчества Климта, его противоречия. Еще раз вспомним о том, насколько смело шел он, сообщая своим образам монументальный масштаб и широкое движение чувств, сколь провидческим оказалось его художественное структурирование. Вместе с тем, в особенности в женских портретах мастера, да и в его символических композициях, при всей изысканности отдельных фрагментов явно проглядывают осознанные уступки салонному искусству.
Конечно, анализируя развитие искусства в последние два столетия, можно найти немало примеров, когда новаторские открытия в живописи не исключали проявлений салонности. Рубеж XIX–XX-го века в этом отношении один из характерных этапов. Пожалуй, не встретить пи одной фигуры из тех, кого мы считаем прологом к тому великому, чем отмечено наступающее столетие, не отдавшей дани салонности и связанной с ней художественной эстетике. Врубель, Штук, Берн-Джонс и другие представители модерна и символизма были ощутимо задеты этим поветрием. Далеко не всегда в структуре их произведений можно было разделить составляющие этого вызывающего странное ощущение сплава.
Климт, как уже говорилось, был едва ли ни самым ярким примером одновременного присутствия салонности и новаторских прозрений в индивидуальном художественном пространстве. Лишь иногда в фрагментах „Бетховенского фриза“ ему удавалось выдерживать единство стиля и строгость вкуса, но и там немало примеров, когда энергетика экспрессивного символизма умерялась изнеженной расслабленностью отдельных сцен. Нельзя забыть, что Климт начинал как весьма популярный в мелкобуржуазной среде художник. Знаменательно и то, что его учителем был Ганс Маккарт, своеобразно соединивший броскость декоративных деталей, чрезмерное роскошество костюмировки и изнеженность пейзажа с фиксированной подачей укрупненных женских фигур и лиц. Используя салонные эффекты такого рода, Маккарт, тем не менее, мог придать своим картинам масштаб, заставляющий воспринимать их как продолжение традиции Караваджо и его круга, итальянских маньеристов, и одновременно как взгляд, вызывающий ассоциации с феллиниевским фильмом „Джульетта и духи“.
Именно Маккарт вдохновил Климта на то, чтобы наделить антураж дам из венского буржуазного круга своеобразным семантическим смыслом. Хотя в своих декоративных экспромтах будущий создатель Сецессиона вдохновлялся другими источниками, вкус к захватывающе-необычным построениям явно был подсказан Маккартом. С артистическим размахом разрабатывая свой стиль, одновременно броско-монументальный и салонно-манерный, Маккарт сделал бросок в XX-й век, в постмодернистское будущее. Климт, по существу оказался там же. Демонстрируя иное – более условное и собранное отношение к форме, он примерял с ней такие значения человеческого образа и поведения, которые вмещались в XX-м веке только в постмодернистскую концепцию.
Так что путь Климта в новый век, воспринимаемый при всех многочисленных связях с непосредственными предшественниками как резкий разрыв, стремительное овладение новым пространством мысли, эксперимента, формы, отнюдь не исчерпывается начавшимся уже при его жизни диалогом с набирающими силу творческими тенденциями. Его сопричастность экспрессионизму и абстракционизму в начале века и обнажение постмодернистской ориентации под его финал достаточны, чтобы увидеть в нем художника, хотя и отнюдь не синхронного нашему времени, но интересно и неоднозначно участвовавшего в созидании его эстетической парадигмы. Не будучи программным авангардист, он способствовал становлению этого течения, тех его разделов, что колоссально меняли весь художественный пейзаж века. Вместе с тем смелое сопряжение современности и высоких традиций художественного наследия объясняют притягательность его искусства много лет спустя.
Притяжение венского Сецессиона
Впервые опубликовано: Притяжение Венского сецессиона // Художественная культура Австро-Венгрии. 1867–1918. СПб.: Алетейя, 2005. С. 75–89.
«Если сравнить впечатляюще традиционные выставки в Мюнхене, то Вена словно окоченевший член человеческого тела, к которому не поступает кровообращение. Даже самый перспективный художник погибнет от вялости культурной конкуренции и отсутствия импульсов. Ведь живопись – это волшебный манускрипт, в котором вместо слов краски. Он должен быть наделен внутренним видением мира, загадочного и полного чудес, а не заниматься ремесленной деятельностью. Искусство живописи должно иметь дело с ментальными процессами графики и поэтическим видением мира», – писал в 1895 г. еще совсем молодой венский писатель Гуго фон Гофман-сталь[76]76
Hofmannsthal Н. von. Die Malerei in Wien // Reden und Aufsätze I. Frankfurt, 1979. S. 526.
[Закрыть]. «Австрии еще предстоит выйти на путь большой художественной политики», – утверждал журнал «Искусство для всех»[77]77
Vincenti Karl von. Die Internationale Jubel-Ausstellung in Wien // Die Kunst für Alle 1893/94, 9. S. 194.
[Закрыть]. Эти суждения современников заключали в себе справедливую оценку ситуации, сложившейся в австрийской живописи последней трети XIX в., когда, в особенности после смерти Ганса Маккарта, обнаружившего в ряде монументальных картин и в цикле «Сезоны» выход к новой поэтике, в ней не появилось сколько-нибудь крупных имен. Преобладали бытовые жанры и пейзажи, отмеченные, как правило, все еще не изжитым влиянием натурализма и бидермайера, набравшим в австрийском искусстве силу начиная с середины XIX в. В выборе живописной манеры, да и в самом масштабе художественного мышления ощущался провинциализм, порожденный кроме всей этой инерции отдаленностью от кардинальных перемен, знаменем которых были в ту пору Париж и Мюнхен.
На этом фоне то, что свершилось благодаря деятельности венского Сецессиона, в течение нескольких лет превратившего австрийское изобразительное искусство и архитектуру в оригинальное творческое явление, образец изысканного вкуса и весьма продуктивного экспериментализма, а саму Вену в один из крупных центров европейской художественной культуры, поистине удивительно. Даже учитывая общий подъем в различных сферах искусства на рубеже XIX–XX вв., этот смелый и упорный ход от инерционной вялости к артистической свободе и одновременно к рациональной организации форм, от скучной регистрации видимостей к духовно наполненному символизму воспринимается в историческом разрезе как нечто незаурядное.
Рождение венского «Сецессиона» как художественного объединения датируется 3 апреля 1897 г. Конец его плодотворного или, как выражаются иные критики, «героического» периода – 14 июня 1905 г. связан с разрывом «натуралистов» и «стилистов» и уходом группы Климта из сецессионного сообщества. За это время было проведено 23 выставки с участием живописцев, графиков, скульпторов, архитекторов, мастеров прикладного искусства, в том числе зарубежных. Однако на первых порах немало идей и примеров нового мышления, образцов сецессионной поэтики и стилистики можно было встретить в журнале «Ver Sacrum». Основанный в 1898 г., он сыграл совершенно исключительную роль в объединении тяготеющих к символизму и модерну художников, венских и зарубежных. «Ver Sacrum» был не только официальным органом венского «Сецессиона», но и живым воплощением его духа.
Символическое обозначение Священной весны (Ver Sacrum), вынесенное на обложку журнала и впоследствии начертанное золотыми буквами на здании «Сецессиона», заключало в себе понятие, которое «полностью согласовывалось с высоким идеализмом художников, их верой в свою миссию поднять вкус и восприимчивость искусства публикой, в стороне от коммерции»[78]78
Bizanz-Prakken M. Der Heilige Frühling der Wiener Secession // M. Bizanz-Prakken. Der Heilige Frühling. Wien, 1999. S. 14
[Закрыть]. Это понятие расшифровывалось как поэзия молодости, ожидание весны, охватывающего весь мир весеннего обновления. Первый номер журнала «Ver Sacrum» задавал именно такой тон. Весеннее настроение возникало в нем в поэтических интерпретациях мотивов цветущих деревьев, танцующих девушек, обилии растительных орнаментов. На первой странице привлекало внимание нарисованное Альфредом Роллером изображение обнаженной девушки, символизирующей Вечную весну.
Буйная жизнь природы, ее рост и цветение волновали в ту пору венских художников, связавших себя с символизмом и модерном. «Виталистический принцип прорастания, характерный для символики всего европейского искусства, ярко проявился теперь в Вене, – отмечает Мариан Бизанц-Праккен. – Юная жизнь выплескивалась из растительных форм и виньеток „Ver Sacrum“, из орнаментики выставочных помещений, из книжного оформления выставочного каталога»[79]79
Bizanz-Prakken M. S. 20.
[Закрыть]. Небывало широко, сначала в графику и декоративно-орнаментальные построения, а потом в интерьерные решения, архитектуру, плакат, различные виды прикладного искусства – от предметов убранства до ювелирных изделий – вошла в венскую художественную культуру поэтика витальности, тема обновления природы.
Макс Бурхарт видел одну из задач «Ver Sacrum» в том, чтобы сопоставить ситуацию венских художников с мифологическим понятием начала века. Программно это обозначилось в его статье, напечатанной в первом номере журнала. Там же появилось стихотворение Людвига Уланда «Ver Sacrum»: «Вы семя нового мира, это и есть приход весны» и т. д.
Проблемы рождающейся в венском творческом круге символики, поиски духовности изобразительного искусства волновали и литератора и эссеиста Германа Бара. «Кто желает раскрыть тайну своей души в живописи или рисунке, тот уже в нашем объединении», – заявлял он в том же, взволновавшем всю Вену первом номере журнала[80]80
Ver Sacrum 1898, 1. S. 7.
[Закрыть]. На его страницах Бар дал удивительно точное определение, многое поясняющее в идейных и творческих приверженностях ведущих мастеров венского сецессиона. «Соседство самопогруженности и духа борьбы свойственно двойственной программности нашей сецессии. Нежная символика всегда сочетается в ней с патетической риторикой борьбы, тонкая поэтика – с заклинающим духом мессианства»[81]81
Ibid.. S. 10.
[Закрыть].
Ныне двойственность, которую прозорливо увидел этот высоко одаренный венский критик, воспринимается не как две стороны медали, а как полное силы и оригинальности устремление к новому типу художественного синтеза. В подвижности, естественной или, напротив, контрастной увязке по-разному зависимых друг от друга эмоциональных настроений, образных метафор, стилистических форм заключалось одно из объяснений успеха, который в течение ряда лет имело на переломе столетий главное в столице Габсбургской империи художественное объединение.
В 1898 г. открылось здание венского «Сецессиона», построенное архитектором Йозефом Ольбрихом. Появление в Вене сецессион-ного Дома стало событием, вызвавшим большой резонанс. Оно как бы конституировало новое движение, придало ему фундаментальность, соединило в необычном сочетании храмовой и пространственно-функциональной архитектуры идейный концепт движения и его творческий разворот.
Над входной дверью здания было помещено изречение одного из идеологов и летописцев венского «Сецессиона» Людвига Хевеши: «Времени – его искусство, искусству – его свободу». Ощущение неповторимой творческой и духовной значимости своего времени было в высокой степени присуще венским сецессионистам. Пассеизм в духе Пюви де Шаванна был им принципиально чужд. Желание перенестись в прошлое уступало место стремлению дать экспрессивное по своей сути освещение настоящего. Призыв Хевеши включал в себя и другое созвучное тяготеющим к «Сецессиону» художникам настроение – неприятие клишированных и нежизненных традиций, всего того, что сковывало живой дух искусства. Знаменательно это сопряжение понятий свободы и современности. Молодые зачинатели венского модерна и символизма ощущали себя борцами за свободу творчества. При этом доктринерство и тяжеловесность стиля должны были смениться артистической подвижностью мысли и воображения.
Теоретики венского символизма любили лаконичные и звучные декларации. В холле здания венского «Сецессиона» можно было прочесть еще один призыв, сформулированный Германом Баром: «Художник, покажи свой мир, красоту, которой никогда не было и которой никогда не будет после тебя». Мысль об уникальности переживаемого на рубеже столетий времени, красочный вариант которой предложил Людвиг Хевеши, увязывается на этот раз с темой красоты и особой ценности индивидуального художественного мира. При этом последний отнюдь не синоним потаенности, согласно убеждениям Бара и других идеологов сецессионного движения, он немыслим без творческого всплеска и духовных откровений.
Крупные выставки, создателями которых были избранный председателем венского «Сецессиона» Густав Климт, Коломан Мозер, Йозеф Хоффман и ряд других архитекторов и художников наряду с журналом «Ver Sacrum» постепенно превратились в явление, концентрирующее в себе идеи и творческие устремления объединения. Они воспринимались как духовный акт и способ демонстрации индивидуальных решений, результат совместной деятельности художников и средство воспитания вкуса к новому искусству. Выставки тщательно планировались, специально обсуждался их профиль, выбор экспонентов из-за рубежа, организационно-дизайнерские формы. На этом пути были, как мы увидим позже, свои противоречия. Но, как свидетельствуют критики и зрители, экспозиции, устроенные движением, поддерживали высокий статус искусства, напоминали о праве индивидуальности на самостоятельность, укрепляли дух артистической свободы.
Необычайная интенсивность выставочных показов соответствовала стремлению лидеров и идеологов венского «Сецессиона» возвысить искусство над жизнью. Разнообразие форм и широкий круг участников, в котором поначалу преобладали зарубежные мастера, динамика пространственной организации, отражающая изменение баланса и функции различных видов искусств, скандалы, не раз сопровождавшие показ самых ярких произведений, – все это стимулировало интерес со стороны публики, становилось событием, обсуждавшимся и на открытии, и позднее, когда страсти остывали и в той или иной мере обнажался итог соревнования художественных концепций.
Один из руководителей венского «Сецессиона» Альфред Роллер обнаружил перекличку между журнальным монтажом и основным замыслом выставки. По его словам, «выставочные помещения были, как и страницы журнала, частью общей атмосферы искусства. Каждый журнал – это маленькая выставка, a „Ver Sacrum“ – это очень большая выставка»[82]82
Nebehay Ch. V. Gustav Klimt. Dokumentation. Wien. 1969. S. 160; Brief von A. Roller an G. Klimt 19.4.1898.
[Закрыть]. Л. Хевеши восхищался органической связью обустройства выставок и стиля экспонатов, которые на ней демонстрировались. Венский выставочный дизайн, как мы определяем ныне это искусство, был не только продуманным. В нем смешивались рафинированная изысканность и моменты экстравагантности, строгая дисциплина в осуществлении основного замысла и при этом такая неоднозначность в сочетании разных видов и жанров изобразительного искусства, архитектурных деталей и орнаментальных фантазий, которая была откровенно романтической и раздражающе духовной.
Впрочем, что-то на этом пути началось еще до создания «Сецессиона». С самого начала исключительно важным для нового объединения было преодоление ставшей одной из причин отставания австрийской живописи национальной замкнутости и решительный поворот к происходившему в общеевропейском художественном творчестве обновлению. По мнению исследователей венского «Сецессиона», без этого было бы крайне сложно представить его перспективы, прояснение целей, самостоятельное определение проблематики и стиля[83]83
Roller A. // Katalog der Ausstellung der Wiener Secession. Wien, 1989. S. 4.
[Закрыть]. Процесс накопления новых качеств в творчестве венского художественного круга шел в конце 1880-х и 1890 гг. подспудно, задыхаясь под толстым слоем выступавшего под маской традиционности консерватизма. Необходим был толчок извне – систематическое знакомство с примерами нового мышления, информация о жизни искусства и его творцов из стран, где стадиальные изменения начались уже ранее. Известно, в частности, что венский «Сецессион», возникший через пять лет после мюнхенского прототипа, питался его примерами и инициативами, в особенности пока не вышел на самостоятельную дорогу.
Об актуальности этих и других зарубежных художественных связей Вены свидетельствовал восторженный прием, который встречали в ней немецкие и более широкие по составу международные выставки в 1890-х и начале 1900-х гг., поистине неуемный интерес к журналам, в которых печатались репродукции уже сложившихся мастеров символизма и модерна, особенно к мюнхенскому журналу «Пан» («Pan»), Хотя и с опозданием, но с увлечением и надеждой усваивали венцы эти, все еще странные для многих поэтические образы и формы. В большой мере благодаря всем этим контактам и впечатлениям ведущая группа венских художников, возглавивших движение за обновление, – Г. Климт, К. Мозер, А. Роллер, К. Моль, Э. Штер – обрела зрелость и постепенно обозначила свое направление.
Разными путями шли к новому они и их коллеги.
В графике, например, многое начиналось со знакомства с техническими новшествами. Состоявшаяся в 1895 г. в Вене международная графическая выставка продемонстрировала, кроме репродукционных техник, и оригинальные листы – работы, выполненные карандашом, гуашью, акварелью. Этого в габсбургской столице, тем более в таком богатстве имен и индивидуальных красок, еще не видели. Во французском разделе привлекали внимание Ропе, Рафаэли, Фантен-Латур, Феликс Валлотон. В голландском – Филипп Зелкин и Андреас Штерн. Среди английских мастеров выделялся Уистлер. Мощно были представлены немцы – Клингер, Либерман, Карл Кениг. Такая выставка, как и последующие графические показы, и в частности широкая международная экспозиция 1902 г., были весьма важны потому, что происходило давно ожидаемое знакомство с современным искусством, его виртуозными мастерами, магнетически действовавшими на не слишком подготовленную венскую аудиторию художников и любителей искусства.
Примечательно, что именно графика оказалась в австрийском изобразительном искусстве проводником сецессионных идей и приемов и шире – сецессионной культуры. Графика, рисунок сыграли первостепенную роль в формировании «венской линии», с ее импульсивностью, артистической изысканностью и гибкостью. Натурный рисунок стал для ведущих мастеров венского Сецессиона средством нервно-эмоциональной реакции на мир. Отказ от академических форм в пользу творческой свободы и утверждения экспрессивных начал был тут непосредственно заметен. И такая сложная техника как офорт была оценена теми, кто хотел артистически передать пульсацию индивидуального переживания, его оттенки. Общепризнанно особое место графики в искусстве модерна. По степени ее артистической интеграции во многие звенья художественной культуры Вена в ряде отношений оказалась впереди. Напористо и быстро проходили венские художники путь от ученичества к творческой самостоятельности.
Пятую выставку «Сецессиона» (1899), целиком посвященную графике, можно с полным правом назвать международной. На ней было показано 634 работы 132 европейских художников, преимущественно рисунки. Но по существу печатно-графические листы рассматривались как своего рода рисунок. Тем самым они как бы уравнивались с ним в статусе оригинальности. Богатство индивидуальных предложений в интерпретации графических техник и в стилистическом оформления листов от натурализма до экспрессионизма и декоративизма (не представленными оказались только импрессионизм и неоимпрессионизм) снова, как не раз в последние годы уходящего века, всколыхнуло мелкое болото австрийского искусства с его боязнью выйти за некий установившийся уровень.
Заметим, что и в эти годы, и впоследствии, карандашный рисунок, «сейсмографически регистрирующий момент изображения»[84]84
Выражение M. Бизанц-Праккен.
[Закрыть], оказался самым излюбленным инструментом для решения весьма разных творческих задач. Именно карандашная графика Климта, Мозера, Курцвайля, обыгрывая контрасты плоскостного и линеарного, статического и динамического, выявляя новые ракурсы фигур, снова и снова активизируя роль жестов, стимулировала новые позиции в живописи и монументализме, а в определенном ракурсе влияла и на проектную архитектуру[85]85
Свидетельством высокой роли венской графики на рубеже XIX–XX вв. стала прошедшая в Вене в 1998–1999 гг. выставка «Gustav Klimt und die Anfänge der Wiener Secession (1895–1905).
[Закрыть]. В немалой мере первоначально именно в графике начинали складываться близкие символизму приемы.
Большой пиетет испытывали венские художники перед зарубежными мастерами, в искусстве которых эти тенденции имели неповторимый индивидуальный акцент. Драматический символизм, странно и изысканно усложненная экспрессия Макса Клингера, овеянные мрачноватой фантазией необычные по своей пространственной композиции листы голландца Яна Торопа, сказочно гармонические и при этом неожиданно обостренные в своей символике графические построения бельгийца Фернана Кнопфа – лишь некоторые примеры, вдохновлявшие в ту пору венскую молодежь, постепенно сплачивавшуюся под знаменем сецессиона.
Естественно, эти притяжения не ограничивались графикой. Названные здесь художники, как известно, много и плодотворно работали в живописи. Хотя их картины первоначально были известны венцам в репродукциях, знакомство с ними оставляло глубокий след. Особое внимание в Вене проявляли к выставкам немецкого искусства. Журнал «Искусство для всех» рецензируя выставку немецкого искусства в 1904 г., замечает: «Давно уже в Вене не было таких дебатов о живописи»[86]86
Schönaich G. Die Münchener Secession in Wien / / Die Kunst für Alle 1894–1895, 10. S.119.
[Закрыть]. Хроникер венского «Сецессиона» Людвиг Хевеши свидетельствует о неизгладимом впечатление, которое оставила выставка, прежде всего интенсивность и свобода колорита у Ф. Штука. Большой популярностью пользовались также мифологические полотна А. Бёклина. В Вене одними из первых оценили Ф. Ходлера, его благородный, полный духовной вибрации символизм признавался творением высшей пробы. Меньше внимания уделялось французскому искусству, хотя притягивали такие фигуры, как П. Гоген, В. Ван Гог, Э. Карьер и наряду с этим более умеренные в своих исканиях художники. «Антагонизм немецкого менталитета и французского поверхностного декаданса присутствовал подспудно, не выплескиваясь в теоретических спорах»[87]87
Bizanz-Prakken M. S. 27–28.
[Закрыть].
Внешний облик выставок венского «Сецессиона» стал удивлять уже с самого начала. Система подвижных стен обеспечивала наибольшую гибкость восприятия и взаимодействия экспонируемых работ в пространстве. Хевеши характеризует выставочный интерьер основного сецессионного здания как «сложно организованную конструкцию». Напоминающий о колористических пристрастиях модерна мертвенно-зеленоватый оттенок задавал тон в холле. В нем же действовало на воображение неожиданной апелляцией к традициям барокко и чистотой своих форм круглое окно К. Мозера. На 3-й выставке, проект и экспозиционное осуществление которой взяли на себя Й. М. Ольбрих, К. Мозер и Й. Хоффман, в пространственной организации выставки появились новые акценты. Средоточием ее стало одно произведение – монументальная композиция М. Клингера «Христос на Олимпе».
Опыт акцентированной подачи одной центральной работы был продолжен на 4-й выставке (1899). Эту функцию выполняла скульптура Артура Штрассера «Триумф Марка Аврелия», представшая в обрамлении золотых мозаик Ольбриха и декоративных венков Мозера. Еще один штрих этой выставки, на которой и количественно, и своеобразием стилистики активно утверждали себя австрийцы, имел принципиальный характер. При ее обзоре стало очевидно, что серьезность и сознательное афиширование символических акцентов не исключает у новых венцев деятельной работы по преобразованию предметной среды. Симптоматично, например, что Ольбрих и Хоффман показали новые варианты мебели – прообраз ставшей знаменитой на весь мир венской мебели. Серию гобеленов в сецессионном духе создал Мозер. Как свидетельствует последующая практика объединения, эта линия укреплялась от выставки к выставке.
В их пространственной организации, как правило, не было строго выдержанного позального принципа. Изящная, продуманная во многих своих компонентах выставка 1899 г. с низко поставленной скульптурой, декоративными деревьями и висящими на специальных конструкциях изящными венками, большими картинами на стенах и целым комплексом камерных живописных полотен в других концах зала напоминала своим афишированным богатством роскошные венские аристократические салоны. Во всей этой пряной атмосфере живописная изобразительность как-то терялась, не воспринимаясь как некий ведущий мотив.
На одной из следующих выставок, проходившей на самом рубеже 1900–1901 гг., кроме упомянутых уже новых видов убранства, представленных ведущими австрийскими мастерами, зрителей привлекала так называемая комната Макинтошей из Шотландии. Поразительно выдержанная по своему вкусу и стилю, она соединила в себе проникнутые мистическим настроением декоративные панно и витражи, специально сделанную мебель и светильники. Пространственно акцентированной была расстановка скульптуры, особый интерес зрителей вызывала композиция для фонтана бельгийца Жоржа Минне. Образующие замкнутый круг с символическим источником внутри коленопреклоненные женские фигуры воспринимались как образ духовного самоуглубления.
На выставке 1901 г. центром притяжения были большие композиции Климта «Философия» и «Медицина», как известно, отвергнутые администрацией и профессурой Венского университета как нарушающие нравственность, а главное, компрометирующие тот дистиллированный образ человеческих стремлений и деяний, который десятилетиями внушался с академических кафедр и поддерживался рядом официальных художников. Климт обнаружил в этих панно свое представление о полном конфликтов и страданий пути Человечества, близкое идеям символизма. Средоточием сецессионной выставки оказалось на этот раз не декоративное решение, а экспрессивный монументализм. Так что бытующее в популярной литературе мнение, будто венский «Сецессион» до Бетховенской выставки развивался в чисто декоративном направлении, лишь слегка приправленном символизмом, не подтверждается фактами. Различные линии в нем то получали преимущество, то отступали в тень, то в разных вариантах сосуществовали друг с другом В этом была не только определенная интрига, но и известная логика. Приобретался живой и разнообразный опыт, искания художников – станковистов и монументалистов – соединялись с экспериментами в самой пространственно-пластической организации выставок таким образом, что находилось место и изящной (и порой броской) декоративности, и обращению к философским вопросам жизни человечества.
По мнению хроникеров и исследователей венского «Сецессиона», которое активно подтверждают дошедшие до нас изобразительные материалы и фотографии, самой яркой и творческой, как по своей концепции, так и по целостной эстетической организации, стала 14-я выставка объединения, получившая название «Бетховенская» (1902). Во многих отношениях – в смелом замысле экспозиции, в силе и оригинальности художественных акцентов, в серьезном, но отнюдь не тяжеловесном, восприятии тематизма, в непринужденности переходов между живописью и графикой, станковизмом и монументализмом, в поэтическом возвеличивании декоративности – это была кульминация сецессионного движения.
Впрочем, на «Бетховенской выставке» были и другие находки, которые, как например соединение свободной по своим силуэтам пластики и изящной строгой геометрии в формах стендов и картинных рам, могут показаться частными, но на самом деле имеют нестандартную подоплеку в развитии стиля и формообразования. Витальность встречалась в экспозиционных ходах талантливейшего венского архитектора со строгой упорядоченностью, артистическая игра – с такими акцентами, которые подразумевали необычайно плотную структуру изображения. Пространство то сжималось, то безгранично расширялось, так или иначе втягивая зрителя в свою орбиту.
«Сецессионисты развили на „Бетховенской выставке“ свое представление о пространственном искусстве. При удивительном многообразии новых техник и материалов и исключительном богатстве художественных методов здесь господствовало такое единство общей пространственной концепции, которое никогда прежде на венских выставках не было достигнуто»[88]88
Bizanz-Prakken M. S. 27.
[Закрыть]. Старые фотографии во многом доносят это впечатление. С поразительной легкостью взаимодействовали на выставке тематические многофигурные композиции и орнаментальные формы, тончайшая графика и яркая живописность, объемные и плоскостные элементы. Очень по-разному, но при этом осмысленно, даже в самых фантазийных ситуациях, использовались возможности каждой художественной формы. Орнамент, например, выступал сразу в нескольких функциях. С его помощью не раз совершалось разделение тактично намеченных архитектором пространственных зон. Порой же он превращался в артистическую декорацию. В другом случае, когда не был связан служебной ролью, мог стать философской абстракцией.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?