Текст книги "Фонтан бабочек"
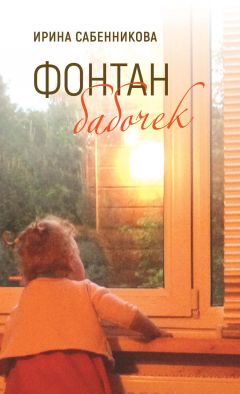
Автор книги: Ирина Сабенникова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
Дед мороз есть!
– Деда Мороза нет! – со слезой в голосе заявила Дашуня.
– Может быть, и нет, – уступаю я, понимая, что лгать ребёнку – дело не стоящее, и в то же время сожалея о том, что она уже теперь, в восемь лет, лишена сказки. Не знаю точно, можно ли считать сказку ложью. На мой взгляд, нельзя. Сказка – это выдумка, такая же реальная, как и всё, чем мы себя окружаем. Но что толку философствовать, когда надо спасать сказку, любимую сказку. Здесь уж всякие средства хороши, и я схитрила.
– Деда Мороза нет, а варежки есть! – неожиданно для самой себя и для Шуни, как её продолжали называть дома, сказала я, указывая на большие мохнатые варежки Ивана, сидящего рядом, на лице которого я мельком заметила какую-то почти детскую обиду от того, что Деда Мороза нет.
– Это Ванины варежки, – с уверенностью произнесла Шуня.
Определённо, сегодня она была как гранитная стена. Ваня, муж её старшей сестры, уже отслуживший в армии, не зная, чью сторону принять, но всё же склоняясь в сторону защиты Деда Мороза, закрыл глаза, делая вид, что спит.
– Как хочешь, – я старалась казаться как можно более равнодушной. – Нет так нет.
– А подарки мама с папой покупают, – продолжала обличать весь мир моя племянница.
– Конечно, мама с папой, – соглашаюсь я, чем привожу её в недоумение, она-то ждала с моей стороны протеста, ей же, как и всякому ребёнку, без сказки невозможно. – Дед Мороз не может все подарки покупать. Ты же знаешь, как много детей на земном шаре живёт, вам в школе, наверное, уже рассказывали.
Я обращаюсь к столь разумным доводам, предполагая, что ребёнок, настроенный на отрицание всего, и теперь станет отрицать. Моя племянница ходит в 1-й класс, а ещё в музыкалку и на волейбол, на горных лыжах катается, но за всей этой занятостью что-то потерялось, нет, наверное, у неё возможности, как у нас в детстве, поваляться с книжкой, пофантазировать, оживляя только что прочитанное, прожить жизнь книжного героя самой. Все забивают то мультфильмы, то компьютерные игры – здесь за тебя уже всё придумали, ты только включи и потребляй, точно суп «Горячая кружка», ни рисовать, ни шить на толстопузых и кривоногих пупсов уже не надо. У Барби модная коллекция одежды последнего сезона такова, что любая модница позавидует, а родители призадумаются. И затухает в ребёнке желание творить, создавать что-то самой, соперничая в этом с подружками. Теперь, пожалуй, и на смех поднимут за самострок. А мои пупсы щеголяли в одежках, пусть и на живую нитку сшитых, но мной самой придуманных. Ну это так, лирическое отступление.
– Раз Дед Мороз сам не успевает всё подготовить, то просит родителей ему помочь, – веду я всё ту же тему и вижу, как, не встретив сопротивления с моей стороны, девочка теряется. – Что именно купить, только он сам знает. Ты разве письмо Деду Морозу не писала?
– Писала, – застенчиво признаётся Шуня.
– Если его нет, зачем же ты писала? – нажимаю я на логику: дети, несмотря на свой иррационализм, очень логичны.
– Боялась, что подарков не будет, – по-детски искренне признаётся племянница.
– А подарки под ёлкой лежали? – спрашиваю её я. – Вечером не было, а утром, когда все ещё спали, они уже были? – продолжаю допытываться я.
Ребёнок кивает головой и с удивлением смотрит на меня: откуда я это могла всё знать, меня же там не было.
– Папа с мамой их туда положить никак не могли, – подвожу я её к долгожданному выводу. – Так что сама суди, есть Дед Мороз или его нет.
– Думаешь, всё-таки есть? – спрашивает меня Шуня тихо, шепча одними губами, чтобы никто не узнал о её капитуляции, и тихонечко поглаживает варежки, подвигая их поближе к себе.
– Я верю, что есть. Какой же Новый Год без Деда Мороза? Праздника же не будет, – привожу я последний свой довод и ничуть не лукавлю.
– А девочки в классе говорят, что его нет, что это сказка для маленьких, – с грустью сообщает племянница об источнике своего недоверия.
Мне совсем не хочется говорить о незнакомых мне девочках, у которых своя семья, а хочется только защитить племянницу, хочется, чтобы в её жизни всегда присутствовало волшебство, без которого просто невозможно.
– Ты разве хочешь жить без сказки? – спрашиваю я её так, на всякий случай, прекрасно понимая, что ребёнок никогда не откажется от сказки. Она мотает головой, а я вижу, как Ванины варежки тихонько, как бы сами собой исчезают в объёмном кармане детской куртки, где им совсем не тесно.
– Я их сохраню до следующего Нового года, – шепчет она, – под ёлку положу, пусть Дед Мороз найдёт.
Я заговорщически киваю. Ваня открывает глаза, как человек, только что проснувшийся, варежек ему, конечно, не жаль, да и зима на исходе. Главное – сказка спасена.
Кто помнит людоеда?
– Детские страхи, – скажете вы, – это повод проконсультироваться у психолога.
Наверное, так, только многие ли из вас обращались к психологу, а детские страхи живут в каждом. Они как Оле-Лукойе – непонятно что и неизвестно где: то вдруг проясняются и обретают определённую четкость, то так же неожиданно растают, оставив после себя только неясную тревогу и какое-то беспокойство. Да и некогда о них думать: дел, замыслов, нереализованных желаний так много, что ловить это в общем-то безобидное приведение времени нет. А тут уже и дети со своими детскими страхами, и их нужно успокоить и защитить. А как защитить, если у самого из подсознания, то во сне, а то и наяву, проступает этот образ хромоного Людоеда, грозящего тебе костылём. Хотите сказать, что вам это незнакомо, ну тогда вы, должно быть, памятник самому себе, а не человек из плоти и крови, и я вам искренне сочувствую. Ну что мы без своего прошлого? Трава, срезанная бензокосилкой, – её отправят в компост, и всё. «А что мы с нашим прошлым?» – спросите вы. Вселенная, где есть место всему. И Людоеду тоже. Так кто же помнит Людоеда? Вот я – помню.
Он жил в нашем доме. На нашей лестничной площадке в соседней квартире. И уже одно сознание его близкого присутствия отравляло мне жизнь, я его боялась. Надо признаться, что в том возрасте, а было мне лет шесть-семь, я не боялась ничего, кроме собственных фантазий, а поскольку оказалась натурой впечатлительной, то все прочитанные мне моим старшим братом книжки так или иначе прорастали в какие-то образы, которые и обретали свою собственную, не зависящую от этих книжек жизнь. Это не были в чистом виде литературные персонажи, а скорее какие-то фантомы, полученные наложением одного на другого, за счёт чего их устрашающие черты сильно разрастались, а поскольку дети мыслят конкретно, то они, эти образы, и прилипали к кому-нибудь как карнавальная маска.
Людоед был стар и одноног. На взгляд ребёнка, даже очень стар, старше моих родителей и всех тех, кто меня окружал. И единственный одноногий человек среди известных мне людей. У него был деревянный протез до колена, который он иногда снимал и клал на лавку возле себя. Эта невероятная его способность отстёгивать свою ногу вызывала в дворовых детях ужас, смешанный с любопытством, и мы подолгу следили за ним, стараясь не пропустить, как нам тогда казалось, этот его фокус с подстёгиванием ноги. Иногда он спускался во двор на костылях и без ноги, неловко прыгая со ступеньки на ступеньку вниз по лестнице, похожий на взъерошенного и сильно потрёпанного кошкой воробья. Внизу, во дворе, с южной стороны сараев стоял большой грубо сколоченный стол, поверху застеленный коричневым линолеумом, за которым собирались любители домино «забить козла». Игра была настолько азартной, что вопли игроков заглушали всё, но громче и торжественнее всех звучал возглас: «Рыба!!!» – с затухающим вослед ему выдохом всех присутствующих: «Э-х-х…»
Помнится, я долго не могла понять, сколько ни приглядывалась к играющим, в чём, собственно, дело, когда ни козла, ни рыбы, даже засушенной до бесчувствия воблы, никогда не было, как, впрочем, не было и рыбаков.
Стучать костяшками домино во дворе могли только пенсионеры, но подходить к ним мне не разрешалось. Мои дворовые приятели такого запрета не имели и поэтому могли просветить меня относительно правил игры в козла, само название которой в нашем доме не произносилось.
Среди разношёрстной компании игроков в домино Людоед выделялся своей рыжей с проседью шевелюрой. Разумеется, как и положено людоеду, он был рыж. Неопрятная растительность на одутловатом лице – то ли борода, то ли двухдневная щетина – тоже имела красновато-пыльный оттенок, как и нависающие на глаза мохнатые, топорщащиеся брови, придававшие лицу угрюмый и недовольный вид. Что касается глаз, то мне трудно их вспомнить – смотреть ему в глаза я бы ни за что не стала, но, кажется, они были какого-то неопределённого бутылочного цвета, колючие, точно вязальные крючки, и смотрели на нас, детей, недобро.
Жил Людоед один в своей небольшой однокомнатной квартире. Была ли у него когда-либо жена, никто из моих приятелей не знал, а спросить у взрослых мы не решались, потому что пустое любопытство не приветствовалось, а рассказать им о Людоеде и тем самым окончательно его материализовать было боязно. Думаю, что взрослые видели его иначе, внешне он мало чем отличался от многих других людей: потёртый серо-бурый пиджак с оттопыренными спрятанной в них четвертушкой водки карманами, серая кепка, какие носили тогда многие, и армейские кирзовые сапоги, точнее – один сапог, деревянный протез в обуви не нуждался.
Людоедом считала его я, но старалась всячески скрыть свои страхи от других, не желая казаться маленькой. Дворовым ребятам скорее нравилось дразнить инвалида, который из-за своей хромоты не мог им ответить подзатыльником или надрать уши, как всякий раз грозился, он только злобно ругался и размахивал костылём, что их веселило. Дети – народ жестокий.
Как-то раз Людоед, то ли был особенно пьян, то ли просто не удержался на одной ноге, замахнувшись своим костылём на кого-то из мальчишек, упал на спину на лестничной клетке. Упал, а подняться уже не мог, точь-в-точь как майский жук, перевёрнутый на спину, – ухватиться руками ему было не за что, сапог скользил по гладкой керамической плитке. И вдруг заплакал. Зажмурившись, я протянула ему руку, чтобы помочь подняться. Людоед ухватился за неё железной хваткой инвалида, привыкшего больше полагаться на свои руки, чем на ноги, и этим напугал меня до смерти. Мне его было не поднять, он, кое-как повернувшись, ухватился за перила, отпустил мою руку и наконец поднялся. Я принесла ему съехавший вниз по ступенькам костыль. Он ничего не сказал, отвернулся и, неловко подпрыгивая на одной ноге, добрался до своей двери и исчез.
После этого случая я долго его не встречала, а потом мы переехали в другой дом, и он перестал быть моим соседом. Видела я его редко и всё больше за игрой в домино и, может быть, совсем забыла бы о его существовании, но он вдруг умер. Я помню, как его заострившийся и оттого сделавшийся ещё более хищным профиль выделялся на фоне красной ткани дешёвого гроба, покоящегося на плечах его приятелей. Как и требовали условности, они были одеты во всё черное, сопровождая его в последний путь, шли медленно, без всякой торжественности за духовым оркестром, невероятно диссонируя с жарким августовским полднем. Чем-то это напоминало неожиданно наступившее солнечное затмение, когда чёрная тень, накрывшая солнце совершенно бездымно, сгорает от его жара.
Оркестр был в те годы неотъемлемым атрибутом любых провинциальных похорон, и, как бы ты ни прятался и ни затыкал уши, ты всё равно слышал похоронный марш инвалидной команды. Музыка поднималась над выгоревшей травой детских площадок, над пыльной листвой летних тополей, залетала в открытые окна квартир, забивалась в подъезды и подворотни, загоняя туда же случайных прохожих и детвору, сообщая всем, что Людоед умер, и по раскалённому солнцем асфальту похоронная процессия медленно двигалась в сторону кладбища.
Человек умер, его похоронили, и вместе с ним должны были уйти и мои страхи, но не тут-то было: Людоед остался в моей памяти точно таким, каким я видела его много раз, – с копной рыжих с проседью волос и неопрятной щетиной на лице, где под нависающими кустистыми бровями поблёскивали недобрые глаза бутылочного цвета.
Я давно выросла, много раз переезжала с места на место и никогда не возвращалась в город, где родилась. В моей жизни поменялось всё, но Людоед оставался где-то на задворках моего подсознания, там же, где живут вечно движущиеся солнечные тени от молодых тополей, посаженных в год моего рождения. Словно какая-то непонятная мне самой вина осталась у меня перед Людоедом, и оттого я, наверное, не могла его забыть. Но всё когда-нибудь разрешается, порой самым неожиданным образом, так и с этой детской историей. Уже взрослым человеком я приехала в Ереван, можно сказать – случайно, и так же случайно попала в дом-музей Параджанова, не собиралась, но события сложились так, и я об этом не жалела. Музей был необычный – все два этажа фамильного дома заполнены фотографиями, авторскими коллажами и картинами, и почти в каждой присутствовал сам Параджанов в самых разных, часто парадоксальных образах, но везде узнаваемый. И так, неторопливо бродя по пустым залам музея, я наткнулась на неожиданную картину, выполненную не то цветными карандашами, не то пастелью с какой-то детской непосредственностью и одновременно пронзительностью, характерной именно для детей лет до десяти. На картине был изображён одноногий человек на костылях, в руках он нёс свою собственную ногу. Человек был неуловимо похож на знакомого мне Людоеда. В отличие от большинства других, эта картина имела название – «Досрочно освобождённый», от жизни или от смерти – автором не указывалось. Но с этого момента Людоед ушёл из моей памяти, оставив, правда, как не вполне ещё растворившуюся тень на стене, карандашный рисунок.
Фонтан бабочек
Это было неожиданно и волшебно, как всё в детстве, и можно было лишь радоваться безмятежному счастью ребёнка, захватившему тебя, точно нежданный летний дождь среди солнечного дня.
Мы приехали на дачу, была по московским представлениям ранняя весна: конец апреля – начало мая. На едва прикрытых травой полянах неожиданно праздничными казались только что зацветшие первоцветы – бадан и примулы, кое-где проглядывали жёлтые и белые крокусы, потерянные в своём подмосковном одиночестве. Деревья, всё ещё голые, застенчиво сторонились людей, точно нагие купальщицы на пляже, застигнутые врасплох. И вдруг, нарушая эту весеннюю недосказанность, несделанность и задумчивую сквозистость, раздался счастливый детский крик:
– Идите скорей, мы с папой сейчас фонтан из бабочек делать будем!
На такой призыв откликнется даже нелюбопытный, а потому все сразу высыпали в сад в предчувствии чего-то необычного.
Посреди ещё пустого сада, на маленьком деревянном столике, удачно прикрывающем дачный колодец, стояла обычная прозрачная банка, какие чаще всего используют для варенья. В банке, разминая и расправляя онемевшие за долгую зиму крылышки, шурша цветастым шлейфом и встряхивая усиками, копошились бабочки. Здесь были «павлиний глаз», пара крапивниц и ещё какие-то. Разобрать, какие именно, сквозь стекло и из-за их суеты было нельзя.
– Мы их по всему дому собирали, – с гордостью объясняла Стеша, поминутно заглядывая в банку, – они где только не прятались: и в подвале, и на балконе, и на самом верху в дедушкином кабинете. Папа даже на стул вставал, чтобы их с потолка снять, – продолжала лепетать она, с восторгом описывая свои и папины подвиги по спасению бабочек.
Действительно, можно ведь было просто вымести их с подоконников и из щелей – спящих и беспомощных, как зимний сор, даже не заметив. Но нет, мой возмужавший мальчик, до сих пор строящий спасательные мостики для паучков, попавших в беду, и здесь не позволил бабочкам погибнуть навсегда. Вялые, едва живые, они были тщательно собраны по всему нашему дому, который, как и всё, со мной связанное, был похож на головоломку, а потому не помогал, а скорее препятствовал задуманному им. Бабочек поместили в банку с крышкой. Банку поставили на самое солнечное место в саду. От тепла и света спящие красавицы проснулись, ожили и теперь трепыхались в банке с одним желанием – немедленно её покинуть.
– Ну давай же фонтан делать, – нетерпеливо дёргала отца Стеша, – они ведь там крылышки помнут.
Подгоняемый нашими недоумёнными взглядами, главный собиратель бабочек не торопясь подошёл к столу. С грацией факира, совершающего тайное действо, он неторопливо открутил крышку – и вдруг сдёрнул её с банки. Яркий фонтан разноцветных бабочек взмыл в небо над нашей пока ещё унылой дачей подобно живому фейерверку. Бабочки разлетелись по саду, пробуя после долгой зимы свои пёстрые крылышки, жадно припадая к цветущим первоцветам, даря им первый поцелуй этой весны.
– Вы видели, какой фонтан у нас с папой получился?! – радостно кричала Стеша, бегая по саду вместе с порхающими кругом бабочками и размахивая руками, словно и сама ощущала себя такой же бабочкой.
– Что это у вас происходит? – спрашивали встревоженные соседи, заглядывая в наш сад через невысокий забор. – Откуда столько бабочек в апреле?
– У нас фонтан, – вопила Стеша, захлёбываясь от восторга и счастья, – фонтан из бабочек!
– Ах вот оно что… – уныло констатировали соседи. – И что же это у вас всё не как у людей? – и со знанием дела добавляли: – Теперь от гусениц не отобьёшься.
А бабочки, точно живые цветы, продолжали порхать по пустынному саду, скрашивая его сквозистость и блёклую унылость, обещая всем нам счастье.
Аксиома, не нуждающаяся в доказательстве
– Дедушка, давай не поедем! – мальчик лет девятидесяти со спутанными светлыми вьющимися волосами тянул деда за рукав.
– Ну как же, Егорка, мы можем не ехать. Ты же знаешь, папа с мамой ждут, они звонили.
– Дедушка, ну пожалуйста, – мальчик едва сдерживал слёзы, как заведённый, повторяя: – Я не хочу уезжать, не хочу!
– Ну что ты, что ты, – мужчина неловко потрепал ребёнка по голове, словно стесняясь этой своей ласки. Но по его какому-то потерянному выражению лица было видно, что он расстроен не меньше внука.
– Я не хочу к ним, я с тобой хочу!
Мальчик прильнул к деду, обняв его худенькими ручонками, и как-то совсем по-детски уткнулся в живот.
Дед, грузный мужчина лет шестидесяти пяти, в футболке цвета хаки и таких же штанах, которые из-за множества карманов любят рыбаки, положил свою ещё мощную руку на плечо внуку и легонько похлопал, успокаивая:
– Будет тебе, будет, мы же мужчины.
Он старался скрыть своё волнение от мальчика.
– Деда, не отдавай меня, не отдавай, – упрямо твердил ребёнок, всё сильнее прижимаясь к нему.
– Да что случилось-то? – не выдержал мужчина, ожидавший на остановке автобуса и волей-неволей наблюдавший эту сцену.
– Да вот, – ответил дед, – внука к родителям везу, а он не хочет.
– Они меня не любят, я им не нужен! – выкрикнул мальчик, оторвавшись от деда и повернувшись в сторону незнакомца. – А он любит, и я его люблю!
– Ну так поговорите с родителями, они же вам не чужие люди, что мальчишку насиловать-то! – посоветовал пассажир примерно тех же лет, что и дед мальчика.
– Бесполезно! – махнул рукой тот. – Это всё мать его, сына моего она подмяла, вот и мальчишку подомнёт.
– Ну так же нельзя, надо как-то договориться, сейчас же они его вам отдали, – недоумевал пассажир.
– Отдали, потому что деваться некуда было, а теперь обратно забирают, и уж другой раз вряд ли будет.
– Дядя, – у мальчишки, вероятно, появилась какая-то надежда, он оторвался от деда и метнулся к незнакомцу, – а вы им сами позвоните, скажите, чтобы они меня не забирали, мне здесь хорошо. Скажите, что мы с дедом на речку рыбачить ходим, он меня всяким приемам обучил… – мальчик старался перечислить всё хорошее, что могло бы помочь ему остаться, и, боясь, что этого будет недостаточно, вновь бросился к деду.
– Деда, ну покажи, как мы с тобой боремся, покажи.
– Ну что же, я здесь буду показывать? – растерянно протрубил дед, на футболке которого через всю грудь шла надпись «Афганец».
– Ну покажи, покажи, – точно воробышек на медведя, набрызгивал на него внук.
Дед, неловко потоптавшись, сделал какое-то стремительное движение, вероятно подсечку, и мальчик непременно бы упал, но мощные руки бережно подхватили его и поставили на землю.
– А теперь я, я, – теребил его внук, – я тоже умею.
Подняв пыльную завесу, к остановке подъехал автобус. Двери со скрипом открылись, выпуская немногочисленных пассажиров. Мальчик умоляюще взглянул на мужчину.
– Дядя, ну скажите, что у меня живот разболелся, что я ехать не могу, – едва сдерживая слёзы, попросил мальчик, обращаясь к незнакомому человеку как к последней надежде на спасение, вероятно, интуитивно понимая, что дед ничего уже сделать не может, иначе бы давно сделал.
– Дайте телефон, я попробую поговорить с родителями, – произнёс мужчина, не выдержав.
– Алло, алло… Кто я? Да просто человек на остановке… Я хочу предупредить, что с вашим сыном всё нормально, он с дедом тут, но у него живот разболелся, он не может ехать, – торопливо, стараясь сказать всё сразу, говорил немолодой мужчина.
– Что? Живот болит? У Егора? Где вы находитесь, назовите место, мы сейчас подъедем!
Взвинченный женский голос, точно шуруп, ввинчивался в плотный воздух знойного летнего дня.
Мужчина отстранил трубку и в растерянности посмотрел на деда, тот с досадой крякнул: мол, я так и знал, что уж теперь, говори.
Незнакомец прочёл на табличке название остановки, после чего раздались короткие гудки – женщина отключила телефон.
– Деда, ну почему они не дают мне остаться?! Я же хорошо себя веду, – мальчик тряс деда за подол футболки.
Дед молчал, да и что он мог объяснить ребёнку, не говорить же ему, что они считают его, участника афганской войны, бывшего десантника и разведчика, пропащим человеком, который их сына ничему хорошему научить не может. Да и что в самом деле он может ему дать, если уж по-честному, да ничего, разве свою любовь, да ещё передать ему свои представления о чести и долге, но кому это теперь нужно!
По рассыпанному возле автобусной остановки гравию недовольно зашуршали шины, подъехала и остановилась иномарка.
– Егор?! Где ты?! Немедленно в машину!
У женщины, выскочившей из автомобиля, был не терпящий возражения голос. «Голос руководителя или менеджера, но только не матери», – подумал про себя незнакомец, понимая, что он ничего уже сделать не может.
– Папа, ну что ты в самом деле, мы же договаривались!
Из машины вышел молодой мужчина, чем-то отдалённо напоминающий человека с надписью «Афганец», только без его угловатости и какой-то весь сглаженный.
– Борис, не надо травмировать мальчика, пусть ещё поживет у меня, я сам его потом привезу, – сделал мужчина последнюю попытку воздействовать на сына. Тот заколебался.
– В машину, Егор, я сказала, в машину! – женщина подтолкнула растерявшегося ребёнка к автомобилю и тут же закрыла дверку. Из-за бликующего стекла на остановку, уже заполненную людьми, смотрело несчастное личико ребёнка, от бликов на стекле казавшееся наполовину стёртым, точно ребёнок таял и вот-вот мог растаять совсем.
Машина отъехала.
– Ну вот и всё, кончилась моя жизнь! – с горечью произнёс афганец.
Было странно видеть здорового, крепкого ещё мужчину таким беспомощным. Люди на остановке молчали, да и что они могли сказать, чем успокоить.
– Пойдём выпьем, – предложил незнакомец, невольно принявший участие в только что разыгравшейся трагедии.
Афганец окинул невидящим взглядом улицу, по которой уехал автомобиль, в его глазах соляными кристаллами стыли слёзы.
– Пойдём, – кивнул он.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































