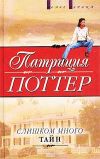Текст книги "Следы ведут в прошлое"
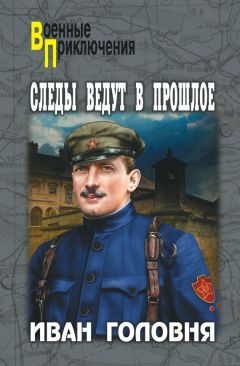
Автор книги: Иван Головня
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
– Если вы думаете, – тщательно подбирая слова, медленно произносит Голубь, – что арестантам, собравшимся бежать, в Сосницкой милиции выдают на дорогу подтверждающие их личность документы, то, должен вас уведомить, вы крупно заблуждаетесь. Это может подтвердить и ваш товарищ, – Голубь кивает в сторону Березы. – Насколько мне известно, ему тоже не выдали документ.
– Допустим, Березу мы и без документов знаем как облупленного, – явно подражая Голубю, так же медленно выговаривает Сорочинский. – А вот как быть с вами? Кто нам подтвердит вашу личность? И почему мы ни с того ни с сего должны верить вам?
– А вы попросите подтвердить мою личность тех трех милиционеров, которых не так давно здесь, в ваших краях, я ранил и отправил на тот свет. Может, слышали? Дело было у Выселок и в Соснице. Или поинтересуйтесь у того милиционера, который ранил меня. Насколько я помню, его фамилия Шмаков. Вам этого мало, пан Сорочинский?
Хотя Голубь старается говорить по-прежнему спокойно, чувствуется, что он не на шутку раздражен и с трудом сдерживается, чтобы не вспылить.
– Зачем вам нужен атаман Ветер? – меняет направление разговора Сорочинский.
– Мне поручено сказать об этом лично Роману Михайловичу.
– Хорошо! – восклицает радушно Сорочинский. – Вы меня убедили. Будем считать, что с документами у вас все в порядке. Три подстреленных милиционера – это действительно убедительнее любого документа. Словом, я вам верю. А теперь… я, конечно, извинюсь, – в голосе Сорочинского слышатся чуть ли не просительные нотки, – но мне хотелось бы потолковать кое о чем с моими хлопцами.
Столь неожиданная и резкая перемена в поведении Сорочинского должна была бы по крайней мере насторожить Голубя, но он, то ли не заметив этой перемены, так как находится в явно возбужденном состоянии, то ли не придав ей особого значения, лишь равнодушно пожимает плечами:
– Дело хозяйское.
– Ты, Федось, тоже иди сюда, – говорит Сорочинский, обращаясь к Березе, и отступает в дальний угол комнаты. К нему подходят Вороной и Муха. Сбившись в плотный кружок, все четверо начинают о чем-то возбужденно шептаться. Однако как ни напрягает слух Голубь, расслышать ему ничего не удается.
На стене позади шепчущихся бандитов покачивается большая тень. Временами она напоминает силуэт не то верблюда, не то вола. Голубь от нечего делать начинает рассматривать это постоянно меняющееся причудливое изображение. И тут до его слуха долетает взволнованный шепот не в меру увлекшегося начштаба:
– Да нам, хлопцы, просто повезло с этим «уполномоченным»! Другого такого случая не будет. Что тут думать? Все равно скоро всем нам хана будет. Не сегодня так завтра чекисты прихлопнут. Иного выхода, как явиться с повинной, я не вижу. А если мы еще сдадим чекистам этого типа из губповстанкома – а птица он, по всему видать, важная, – да наведем на Ветра, то я больше чем уверен, что нас помилуют. Ну как? Решайте!
Смысл услышанного не сразу доходит до сознания Голубя. Его замешательство длится не больше секунды. В следующее мгновение он делает огромный прыжок к столу, хватает одну из гранат Сорочинского и срывающимся от негодования голосом кричит:
– Откупиться мной захотели, шкуры продажные! Так вот вам! Получайте! – С этими словами, рванув кольцо, Голубь швыряет гранату под ноги боевиков, а сам, отскочив назад, распластывается на полу лицом вниз.
Проходит секунда, другая, а ожидаемого взрыва нет. Проходит еще несколько томительных секунд… Голубь медленно приподнимает голову и недоуменно осматривается вокруг. Вся четверка стоит на прежнем месте, граната лежит у их ног, и, как ни странно, никто не обращает на нее внимания. Все взоры устремлены на Голубя.
На крупном лоснящемся лице Сорочинского выражение разочарования. Вероятно, он ожидал иное продолжение своей, как ему казалось, великолепной выдумки. Невозмутимый Вороной смотрит на распростертого на полу Голубя, как и прежде, совершенно безразлично. «Прямо Царевна Несмеяна какая-то!» – мелькает в голове Голубя. Береза всем своим видом дает понять, что к этой затее он непричастен. И только Муха, зажмурив от удовольствия глаза и чуть ли не до ушей растянув рот, трясется в беззвучном смехе.
– Вставай, герой! Или подстели хоть под себя тюфяк, а то пузо простудишь! – захлебываясь от восторга, тонко по-собачьи лает он. – Железки-то эти без начинки! Ха-ха-ха! Как мы тебя?
Муха подходит поближе и даже наклоняется над Голубем, стараясь получше рассмотреть его лицо. Он уже мысленно представляет себе, как будут покатываться со смеху все, кому он будет рассказывать об этом комичном случае.
Поняв наконец, что произошло, Голубь, ни на кого не глядя, начинает медленно вставать с пола. А затем случается то, чего вряд ли кто – возможно, и сам Голубь – ожидал. Он вдруг стремительно, словно разворачивающаяся стальная пружина, выпрямляется во весь свой большой рост и одновременно с этим делает короткий и резкий взмах правой рукой снизу вверх. Неожиданный и сокрушительный удар приходится Мухе точно в подбородок. Звонко щелкнув зубами, Муха летит в воздухе несколько метров, стукается головой о стенку и, раскинув руки, растягивается на полу. Судорожно икнув, он дергает напоследок головой и затихает.
Голубь делает по инерции шаг вперед и оказывается перед Сорочинским. Его потемневшие от гнева глаза бегают по лицу Сорочинского, словно отыскивая место, куда будет нанесен следующий удар. Сорочинский, весь напрягшись, предостерегающе кладет руку на рукоятку маузера. Стоящий рядом Вороной направляет в живот Голубя дуло своего обреза.
– Идиоты! Проверять вздумали! – дрожа от негодования, хрипит сквозь зубы Голубь. – Это меня-то! Кретины…
Сплюнув в сердцах под ноги Сорочинскому, он сокрушенно крутит головой и, чтобы унять дрожь в руках, опирается ими о стол.
– Ты зря тут руками размахался… – ворчит Сорочинский. – Подумаешь, обидчивый какой! Если бы не эти проверки, то чекисты и милиционеры давно бы переловили нас, как кроликов. Так что, ты уж извиняй нас, пан Голубь! Сам должен пони…
В этом месте оправдательно-назидательный монолог Сорочинского самым неучтивым образом прерывает пришедший в себя Муха. Услышав последние слова начштаба, он приподнимает голову и, сплюнув кровью, угрожающе хрипит:
– Вот я сейчас… его «извиню»! Сейчас! Вот только… найду свой обрез…
Муха, словно слепой, шарит вокруг себя руками и нащупывает лежащий неподалеку обрез. Схватив его, он проворно подтягивается на локтях и прислоняется спиной к стене. Уставившись диким взглядом на Голубя, который все еще стоит, склонившись над столом, спиной к остальным, Муха лязгает затвором и истерично визжит:
– Убью-у, сво-оло-очь! Убью-у-у!
Голубь стремительно оборачивается и видит, как подрагивает в руках Мухи обрез, черный зрачок которого смотрит ему, Голубю, прямо в грудь. Указательный палец трясущейся руки Мухи лежит на спусковом крючке…
«А ведь этот придурок и впрямь может убить меня!» – забыв тотчас о боли в ушибленных суставах правой кисти, с ужасом думает Голубь и содрогается от этой мысли. И сразу же начинает чувствовать, как вязкий страх сковывает его тело и сознание, как стынет в жилах кровь, а по спине ползут мурашки.
– Брось обрез, Тарас! Кому говорю – брось обрез! – шипит Сорочинский, устрашающе вращая зрачками.
– Убью-у! – брызгая слюной, смешанной с кровью, визжит Муха. – Убью гада!
Из всех находящихся в комнате один Вороной сохраняет непоколебимое спокойствие. С выражением полнейшего равнодушия на лице он лениво подходит к Мухе и резким, без замаха, ударом ноги выбивает из его рук обрез. Опешивший на какое-то мгновение Муха хочет снова закатить истерику, но Вороной широченной ладонью обхватывает его лицо, тянет кверху и ставит Муху на ноги. Муха мычит и, стараясь вырваться из цепких рук Вороного, раза два дергается. Тогда Вороной, сунув свой обрез за пояс, освободившейся рукой достает из кармана пиджака кусок туго скрученной веревки и подносит ее к выпученным глазам Мухи. Все это Вороной проделывает молча и неторопливо, с прежним выражением полнейшего равнодушия на остром, как топор, лице.
Муха мигом успокаивается. По-видимому, ему не раз приходилось видеть эту веревку в «работе».
Вместо мурашек по спине Голубя текут щекочущие струйки пота, в теле чувствуется непривычная слабость, а ноги становятся ватными. Чтобы не упасть, он снова вынужден опереться о стол. Дверь в комнату приоткрывается, и в ней показывается голова отца Лаврентия. Срывающимся голосом он громко шепчет:
– Вы что тут тарарам подняли? На все село слышно! Забыли, где находитесь?
– Уходим, отче! Не волнуйтесь! Уходим! – успокаивает попа Сорочинский и, обращаясь к Голубю, участливо спрашивает:
– Вы как, идти сможете?
– Смогу. Мне лучше.
– Вот и хорошо. Тогда уходим, – говорит Сорочинский, запихивая свои гранаты обратно в карман.
Беспокойные гости отца Лаврентия выходят по одному из церкви и растворяются в темноте.
16
Ночь тихая и теплая. Нагретый за день воздух только начинает остывать. Чернильное небо усеяно мириадами мерцающих светлячков. В его бездонной глубине есть что-то завораживающее.
Впрочем, к небу никто из компании, покидающей, крадучись, церковь, особо не присматривается. Смотрят больше под ноги, хотя и там из-за густой темени почти ничего не видно.
Глубь, который успел оправиться от потрясения, вызванного стычкой с Мухой, снова начинает закипать злостью. Теперь уже на Сорочинского, придумавшего дурацкую затею с проверкой и гранатами.
«Козлы вонючие! Жуки навозные! Ишь, чего надумали – уполномоченного губповстанкома проверять! Как будто я мало им доказательств предоставил. Они, видите ли, не доверяют мне. А я вот почему-то должен им верить. Можно подумать, что мы не одинаково рискуем! – негодует Голубь, глядя в спину смутно маячащего впереди Сорочинского. – Надо было и этому головастику съездить по харе, чтобы знал наших…»
Идти Голубю на этот раз намного легче. Рана уже не вызывает прежней боли. Он лишь слегка прихрамывает, чувствуя слабое покалывание, да и то почему-то выше раны.
Идут цепочкой: впереди уверенно шагает Вороной, за ним – Сорочинский, далее – Голубь и Береза, замыкает шествие на всех и вся злой Муха. Идут молча. Услышав подозрительный звук, не ожидая команды, все останавливаются и, замерев, прислушиваются. И только когда вплотную подходят к казавшемуся издали сплошной черной стеной лесу, начинают чувствовать себя поувереннее.
У леса группа останавливается. Сорочинский подзывает Березу, и они отходят в сторону. Пошептавшись несколько минут, возвращаются к оставшимся. Береза прощается со всеми за руку – особенно долго и старательно трясет руку Голубю – и один идет дальше вдоль леса. Когда Береза сливается с темнотой и стихают его шаги, Сорочинский объясняет:
– Я послал его в Катериновку. У нас там есть одно надежное местечко. Пусть побудет пока там… Как нога?
– Ничего. Можно терпеть.
– Ну и хорошо! Идти осталось немного. Еще версты четыре – и будем на месте.
…Среди густого кустарника идущие впереди Вороной и Сорочинский останавливается.
– В чем дело? – шепотом спрашивает Голубь, подумав, что его провожатые учуяли опасность.
– Небольшая, но малоприятная процедура, – неохотно отзывается Сорочинский. – Здесь мы вынуждены завязать вам глаза, пан Голубь. Мы делаем так всем, кто сюда попадает. Впрочем, это ненадолго, скоро мы будем в штабе.
Что-то буркнув под нос, Голубь покорно нагибает голову. «Правильно делают! Береженого бог бережет. И нечего мне тут капризничать. Хватит того, что произошло в церкви».
Пока Голубь так размышляет, Сорочинский завязывает ему платком глаза. Потрогав, хорошо ли держится повязка, берет гостя за руку и ведет за собой. Через несколько десятков метров Голубь чувствует, что лес расступился, и они вышли на открытое место. Тянет сыростью и запахом застоявшейся воды.
Если бы не повязка на глазах, то Голубь мог бы увидеть, как поспешивший вперед Вороной, не дойдя до хаты метров двадцать, останавливается под молодым дубком, находит в его кроне металлическое кольцо и трижды за него дергает. Повторив свой сигнал, он быстро подходит к двери и негромко, так чтобы не расслышал поотставший с Сорочинским Голубь, говорит в щель:
– Совы летают только ночью…
– Ночью они хорошо видят! – слышится изнутри хриплый мужской голос.
– Это я, Вороной. Со мной Сорочинский, Муха и гость.
Тотчас гремят запоры, и открывается дверь.
В тесных сенях пахнет гниющей древесиной и квашеной капустой. Кадка с капустой стоит, должно быть, где-то в углу сеней. Сорочинский оставляет Голубя под присмотром Вороного, а сам следом за впустившим их Кострицей и Мухой заходит в комнату.
И сразу оттуда доносится торопливый приглушенный разговор. Проходит добрый десяток минут, прежде чем возвращается Сорочинский.
Развязав на голове Голубя платок, он открывает дверь в комнату и говорит нарочито громко и почему-то по-польски:
– Прошем пана до покуюв!
И трудно понять, то ли прозвучавшая в голосе Сорочинского ирония относится к этому убогому жилищу, то ли это издевка над гостем.
Оказавшись в комнате, Голубь жмурит глаза и прикрывает их пятерней. Делает он это не столько для того, чтобы защитить глаза от яркого света большой керосиновой лампы со стеклом, подвешенной к потолку посреди комнаты, сколько для того, чтобы ознакомиться с обстановкой да присмотреться к атаману Ветру.
Комната оказывается довольно просторной. И это, несмотря на то, что чуть ли не третью ее часть занимает большая печь с лежанкой. Справа от входа – массивная деревянная вешалка грубой кустарной работы. На ней висит кое-какая одежда, а вместе с нею – несколько обрезов и казачья шашка в богатых ножнах. Далее, вдоль стены с единственным окошком, закрытым снаружи ставней, стоит длинная лавка с высокой, как у дивана, спинкой. Лавка накрыта полосатым цветастым рядном. Таким же рядном застлана широкая дубовая кровать с резными спинками. Кровать стоит у стены напротив. Посреди комнаты – стол. На нем – свисающая до самой земли – именно до земли, так как пол в комнате земляной – белая скатерть с вышитыми по краям большими красными маками. На столе возвышается граммофон с мятой трубой, похожей на гигантский цветок колокольчика. Вокруг стола несколько стульев.
На одном из них, прямо перед Голубем, откинувшись на спинку и широко расставив ноги, словно выставив напоказ свои добротные юхтевые сапоги, сидит мужчина лет тридцати пяти с утиным носом и круглыми бесцветными глазами на плоском, цвета серой глины лице. Его заметно поредевшие светло-русые волосы гладко зачесаны назад, обнажая прямой с залысинами лоб. Одет мужчина в офицерские галифе и серый, военного покроя френч, перетянутый новенькой портупеей.
Голубь сразу догадывается – впрочем, особой проницательности ему и не потребовалось, – что это и есть атаман Ветер собственной персоной.
Сзади Ветра, облокотившись на спинку кровати, стоит еще один человек, мужчина лет сорока пяти с одутловатым лицом, всю левую щеку которого пересекает багровый шрам. Бросаются в глаза тонкие, как ниточки, бескровные губы и красные кроличьи глаза. Это – Василий Кострица, ординарец и телохранитель атамана. На гостя он смотрит настороженно, исподлобья.
Вороной и Муха садятся на лавку, Сорочинский остается стоять за спиной Голубя.
Отняв руку от лица, Голубь виновато усмехается и, ни к кому конкретно не обращаясь, произносит:
– Доброе утро, панове!
Такое приветствие приходится атаману явно не по душе. Он продолжает пристально смотреть на гостя, не раскрывая рта. Молчит и Кострица.
Поняв, что совершил оплошность, Голубь делает шаг вперед, вытягивается в струнку и четко по-военному чеканит:
– Уполномоченный Бережанского губповстанкома Григорий Голубь с особо важным поручением к пану атаману Ветру!
По лицу Ветра скользит едва заметная снисходительная усмешка. Он встает, тянется, чтобы казаться повыше – в росте он явно проигрывает гостю, – и важно, с расстановкой произносит:
– Я и есть тот самый атаман Ветер, к которому у вас особо важное поручение от Бережанского губповстанкома. Рад вас видеть в наших краях. Выходит, самому губповстанкому стал нужен атаман Ветер? Приятная новость. Не ожидал… Вот только не возьму в толк, зачем это я им понадобился. Однако о делах позже.
Ветер как бы невзначай бросает взгляд на понурившегося Муху, на его распухший подбородок и удивленно спрашивает:
– Тарас, откуда это у тебя? Падал, что ли?
Обычно не в меру словоохотливый Муха молчит и лишь обиженно сопит. За Муху приходится отвечать Сорочинскому, хотя ровно три минуты тому назад он успел рассказать атаману и об этом случае.
– У нас там… при встрече с паном Голубем случилось маленькое недоразумение. Ну а это… результат недоразумения.
– Даже так! – удивленно таращит глаза Ветер. – И это с такой-то кличкой! Голубь – конечно, ваша кличка?
– Разумеется, – кивает головой гость.
– А что, кличка подходящая! – смерив Голубя с ног до головы оценивающим взглядом, продолжает Ветер. – Кличка в самый раз. Крылья бы еще… И все же бить моих людей не следовало бы, – помолчав, сухо добавляет атаман и тут же примирительно осведомляется: – Как нога?
И о ноге Ветер спрашивает единственно для того, чтобы выказать свою осведомленность. Однако, вспомнив о ноге Голубя, атаман решает, что тому, наверное, трудно стоять, да и стоять, пожалуй, хватит – церемонию встречи можно считать оконченной, – и жестом руки приглашает гостя сесть.
– Заживает, слава богу, – небрежно роняет Голубь и тяжело опускается на стул. Садятся Ветер и Сорочинский. Один лишь Кострица остается стоять.
– А скажите мне вот что… – закурив трубку и прокашлявшись, спрашивает Ветер. – Зачем это вам понадобилось выдавать себя за моего родственника?
– Если я нанес этим ущерб вашей репутации, атаман, – очень серьезно говорит Голубь, – то я готов немедленно извиниться перед вами. Не мог же я каждому встречному-поперечному докладывать, кто я и зачем ищу Ветра.
– Вы правы, – подумав, соглашается Ветер и тут же, как бы невзначай, быстро спрашивает: – А не проще ли было бы вам связаться со мной через ваших же людей, уполномоченных губповстанкома в Сосницком уезде?
Сказав это, Ветер многозначительно смотрит на Сорочинскоro. Тот в ответ одобрительно кивает головой.
– С Марчуком и Ковальским у нас еще с середины прошлого месяца нет связи, – помедлив самую малость, говорит Голубь. – До нас дошли сведения, что оба они вместе со своими охранниками убиты не то чекистами, не то милиционерами. Будь они живы, меня и не послали бы сюда.
Ветер и Сорочинский снова обмениваются быстрыми взглядами.
– Сведения верные, – после продолжительной паузы роняет Ветер. – Хотя и не совсем: ваши люди наскочили у села Катериновка на засаду самооборонцев.
– Жаль, – вздыхает Голубь. – Хорошие были люди… и такая нелепая смерть.
– Так с чем пожаловал к нам уважаемый пан Голубь? – решив, что приспело время для делового разговора, спрашивает Ветер.
Голубь раскрывает рот, чтобы ответить, но, спохватившись, выразительно смотрит на Ветра.
– Н-да… – мычит Ветер и, обращаясь к Кострице, Вороному и Мухе, говорит: – Вы, хлопцы, идите пока отдыхать, а мы тут потолкуем еще малость.
17
– Меня послали сюда передать вам, пан Ветер, – Голубь хотел сказать «пан Щур», но вовремя одумался, так как не знает, будет ли это приятно атаману, – что двадцать четвертого июня, это, если я не ошибаюсь, будет суббота, в одиннадцать вечера вас ждет в Бережанске руководство губповстанкома. Сопровождать вас в Бережанск поручено мне.
– И зачем же я им понадобился? – безучастно интересуется Ветер.
– Я не могу говорить об этом преждевременно…
– А я не могу идти в город, не зная, ради чего я должен рисковать! – резко изменив тон, напористо произносит Ветер. – Я не играю в кошки-мышки. Эта игра не по мне. Можете так и передать своему руководству!
– Впрочем, – как бы не расслышав слов атамана, продолжает спокойно Голубь, – одна из причин вашего вызова в Бережанск мне известна. Могу по-дружески сообщить. Но при условии, что вы не выдадите меня. У нас болтунов не жалуют.
– Договорились, – небрежно роняет Ветер и, глядя почему-то не на Голубя, а на Сорочинского, с деланым равнодушием спрашивает: – Какая там еще причина?
– Причина из приятных! – загадочно усмехается Голубь. – И притом для вас обоих. Но помните, что мне не поручали говорить вам об этом. Словом… Бережанский губповстанком по согласованию с Центроповстанкомом решил назначить вас, Роман Михайлович, войсковым атаманом Сосницкого уезда, а Павла Софроновича – вашим начальником штаба. Более подходящих кандидатур на эти ответственнейшие посты там не видят.
– Вот уж не ожидал! – притворно удивляется Ветер, делая вид, что эта новость свалилась на него как снег на голову. Но тут же, сбросив маску, продолжает по-другому, быстро и возбужденно: – И правильно решили! А что, не так? У кого в уезде самый большой отряд? У меня! Кто в уезде по-настоящему борется с совдепами? Я да мой отряд! Другие – что? Девок ловят да скопом насилуют. А мы большевиков да их прихвостней бьем. О Крупке и до вас слух небось дошел? – Голос Ветра заметно звенит, а лицо, обычно серое, становится лиловым.
– А-то как же! – понимающе ухмыляется Голубь. – И до нас дошел, и еще, куда следует, дошел. О Крупке знают в самом Центроповстанкоме. Кое-кто и за границей уже знает…
– Неужели сам Головной?
– Не исключено, – уклончиво отвечает Голубь, давая понять, что он и так много лишнего наболтал.
– Я одного не могу понять, – встревает вдруг в разговор Сорочинский. Всякая неясность, равно как и недомолвки или разговоры намеками, вызывают у него подозрительность. – Почему это они ни с того ни с сего решили объединить нас?
– Не только вас, – поправляет его Голубь. – Назревают великие события, и потому Центроповстанком по указанию Головного атамана спешно проводит объединение всех находящихся на Украине верных ему повстанческих сил. Все остальное растолкуют в Бережанске.
– Там знают, что делают! – в пику Сорочинскому поддакивает Ветер Голубю, уязвленный тем, что его начштаба не догадался поздравить своего атамана с предстоящим повышением. – Ты, Павел Софронович, принеси-ка сюда все, что там у нас есть. По такому случаю не грех и тяпнуть по стаканчику-другому.
Не проходит и двух минут, как на столе появляется бутыль самогона, большая круглая буханка хлеба с подрумяненной коркой, увесистый кусок сала, щедро пересыпанный солью, десяток молодых луковиц с длинными зелеными перьями и в довершение всего – кольцо домашней колбасы. Ее запах заставляет Голубя судорожно проглотить слюну. Пока Сорочинский нарезает закуску, Ветер разливает в стаканы мутный самогон. Его запах мгновенно распространяется по комнате, перебивая даже аппетитный запах колбасы.
Подняв кверху стакан, Ветер торжественно произносит:
– За Украину!
– За Украину! – повторяют вслед за атаманом Сорочинский и Голубь, и все трое дружно опрокидывают содержимое стаканов в рты. Выпив, Ветер и Сорочинский довольно крякают и, прежде чем приступить к еде, нюхают хлебные корки. И только Голубь, не привыкший, похоже, к такому напитку, долго отфыркивается и морщит нос. Слышится громкое чавканье и хрустение на зубах лука. Больше всех старается Голубь. Ест он торопливо, тяжело дыша и беспрерывно работая челюстями, словно опасаясь, что ему может не хватить еды.
Второй тост, за «Головного атамана и батька всех щирих украинцев Симона Петлюру», провозглашает Сорочинский.
…Насытившись, Голубь осматривается.
– Неплохо устроились, между прочим… Милиция с чекой не тревожат? – любопытствует он.
– В эту глухомань милицию и калачом не заманишь! – мычит с набитым ртом Ветер.
Несмотря на утреннее время, в комнате довольно тепло, а после выпитого самогона и вовсе становится душно. Первым начинает потеть Сорочинский. Отдуваясь, он снимает свой пиджак и расстегивает ворот рубахи. Его примеру следуют остальные.
Сорочинский ощупывает приценивающимся взглядом крепкую шею и бугрящиеся под рубахой мышцы Голубя, смотрит на его кривой нос и спрашивает:
– Французской борьбой, случаем, не занимался?
– Было дело, – неохотно отвечает Грицко. – Одно время в цирке даже выступал… Пока в Виннице Иван Заикин не расплющил о помост мой нос, а заодно чуть было не оторвал руку.
– Тот бугай может! – понимающе усмехается Сорочинский. – Видел я его однажды. В Бережанске. Здоровый детина, ничего не скажешь.
Ветер принимается разливать по третьему разу. Голубь накрывает свой стакан ладонью и отрицательно мотает головой.
– Ну-у-у… – разочарованно тянет атаман. – А еще казаком называется, с Заикиным боролся… Нет! Так дело не пойдет! Пить – так всем вместе!
– Погибать – тоже вместе! – поддерживает своего командира Сорочинский. – Или ты не уважаешь нас? Так ты так и скажи!
– Ладно! Наливайте, – решительно взмахивает рукой Голубь. – Только тост теперь за мной. Пью за панов атаманов Сосницкого уезда! Слава! Слава! Слава!
Ветер и Сорочинский довольно ухмыляются, а Голубь подносит к губам стакан и залпом осушивает его до дна.
– Вот это по-нашему! Смотри-ка, атаман, – подмигивает Ветру Сорочинский, лицо которого покрылось уже алыми пятнами, – оказывается, и в Бережанске есть настоящие казаки!
– Казак – что надо! – Ветер снисходительно хлопает Грицка по спине. – Такого казарлюгу я с удовольствием взял бы в свой отряд. Как, пошел бы к атаману Ветру?
После третьего стакана языки развязываются окончательно. Разговор становится легким и непринужденным.
– Очень скоро, друзья мои, – старательно, без прежней поспешности пережевывая хлеб с колбасой, неторопливо говорит Голубь, – на Украине наступят новые времена. Ждать осталось считанные дни. Не сегодня завтра можно ожидать грандиозные события. Вся Европа сплотилась против красной заразы и готова немедленно выступить в крестовый поход против совдепии.
– Скорее бы уж начиналось! – икнув и вытерев тыльной стороной ладони жирный рот, хрипит Ветер. – Тогда уж я покажу этой задрипанной голоте и землю, и волю, и коммуну, и светлую жизнь. Ох, и покажу! Жрать они будут эту землю у меня…
– Да! Чуть было не забыл! – перебивает атамана Сорочинский. – Помнишь Гриценко и его жену из Выселок?
– Тех, что мы весной в собственной хате живьем зажарили?
– Их самых. Так вот. Объявилась дочка ихняя. Оксана. Тогда ее не оказалось дома… Снова в Выселках околачивается. Прислали из Сосницы секретарем сельсовета. Комсомолкой стала. Головы пацанам морочит – агитирует в комсомол поступать да комбед организовывать. Хату ей дали. Ту, что пустой стояла при въезде в село со стороны Сосницы. Очень укромное место, между прочим…
Сорочинский скалит в усмешке крупные зубы и довольно потирает руки.
– Ну что ж, придется и ей устроить «светлую жизнь», раз она так стремится к ней, – цедит сквозь зубы Ветер. – Пусть на том свете в коммунию агитирует.
– Вот именно! – поддакивает Сорочинский. – Поручишь это дело мне. – И, обращаясь уже к Голубю, продолжает, ухмыляясь: – Люблю, понимаешь, потолковать иногда с молодыми девушками о «светлой жизни». Очень любопытные беседы получаются.
Спустя какое-то время разговор возвращается к предстоящей поездке атамана в Бережанск, и Сорочинский, ни на кого не глядя, говорит неожиданно протрезвевшим голосом:
– Все это, конечно, хорошо – назначение и прочее… Но вот путешествие атамана в Бережанск… Не нравится мне все это. Сейчас брату нельзя доверять, а тут… Как-никак Роман Михайлович командир самого крупного отряда в уезде. И вот так… с бухты-барахты подвергать его жизнь опасности… Я не могу этого допустить.
Ветер перестает жевать луковичное перо и также вперивается в гостя немигающим взглядом мутных глаз. Голубь молчит и лишь блаженно усмехается. В его голове приятная легкость и пустота. Мысли перемешались, разбрелись какая куда, и тщетны все усилия собрать их в кучу.
Не дождавшись ответа, Сорочинский говорит далее, твердо и напористо:
– Словом, так. В город пойду раньше я. Мне необходимо, прежде чем туда пойдет Роман Михайлович, все увидеть и узнать самому. А для этого, Гриша, – Сорочинский доверительно заглядывает в глаза Голубю, – ты должен дать мне адрес и пароль. До двадцать пятого времени у нас еще достаточно. Так как?
– Нет, – отрицательно мотает потяжелевшей головой Грицко и мычит заплетающимся языком: – Это невозможно. Губповстанком – это вам не… какая-то там захудалая корчма, в которую в любое время может забрести каждый, кому вздумается. Вот! У нас тоже конспирация и… все такое. Туда вызывают только в случае крайней необходимости и по крайне важным делам. Вот так!
– Нет так нет! И не будем из-за такой ерунды заводить спор, – с неожиданной легкостью идет на попятную начштаба. – Давайте-ка я лучше спою вам что-нибудь. На лирику что-то потянуло, душу захотелось отвести…
18
Проснувшись, Голубь никак не может понять, где он и что с ним. Как и не может понять, отчего в его голове такая непривычная гудящая тяжесть. Он пробует открыть глаза, чтобы осмотреться, но, оказывается, сделать это не так просто. Едва он раздирает тяжелые веки, как тотчас висящий над ним потолок начинает двигаться и опрокидываться то в одну, то в другую стороны. Голубь морщится, будто ему дали понюхать нашатыря, и спешит закрыть глаза. Несколько минут лежит спокойно. Затем пытается повернуть голову набок. Но и это не удается. Голова оказывается настолько тяжелой и наполненной чем-то колышущимся, что даже незначительное движение вызывает кружение и тошноту. Голубь тихонько стонет и, боясь больше пошевелиться, замирает.
– Ну что, друг Грицко, гудит в башке? – слышится откуда-то издалека насмешливый голос Ветра. – Давненько, наверное, не употреблял?
Голос Ветра кажется Голубю слишком громким, а каждое его слово больно ударяет по голове, как будто это не слова, а тяжелые булыжники. В ответ Голубь мычит что-то нечленораздельное.
– Потерпи малость, – не стараясь вникнуть в смысл мычания Голубя, отзывается Ветер, – сейчас я тебя подлечу. Тут у нас кое-что еще имеется…
Превозмогая головокружение, Голубь медленно поднимается и садится. Берет протянутую атаманом кружку и подносит ее ко рту. В нос ударяет запах самогона. Голова Голубя судорожно дергается. Встретившись с насмешливым взглядом Ветра, Голубь заставляет себя подавить отвращение. Сделав последний глоток, он, не глядя на атамана, протягивает ему кружку и снова растягивается на лавке. Спустя минут десять он может уже смотреть и даже поворачивать голову.
На печи лежит атаманов ординарец Кострица. Свесив голову, он лузгает семечки и с любопытством рассматривает Голубя. Ветер сидит за столом и читает потрепанную книгу. Чтение ему дается нелегко. Это видно по тому, как он, напрягшись, усердно шевелит губами.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.