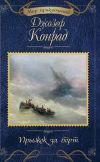Текст книги "Счастливчик Джим"
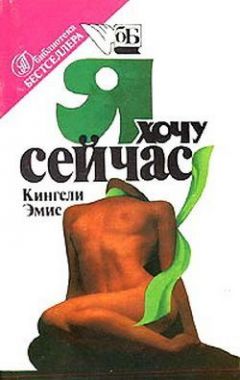
Автор книги: Кингсли Эмис
Жанр: Зарубежный юмор, Юмор
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
Глава VI
Диксон снова вернулся к жизни. Он очнулся сразу, не успев почувствовать, что просыпается. Ему не довелось медленно, достойно покинуть чертоги сна – его бесцеремонно вышвырнули оттуда. Он лежал в нескладной, неудобной позе и не находил в себе сил пошевелиться – так ему было скверно. Словно раздавленный краб на вымазанной дегтем гальке под утренним солнцем. Свет резал ему глаза, но оказалось, что переводить взгляд с предмета на предмет еще мучительнее. Он попробовал было и тут же решил, что с этой минуты всю жизнь будет смотреть только в одну точку. В висках у него стучало, и от этого казалось, что все кругом пульсирует, а во рту было так погано, словно какое-то насекомое заползло туда ночью по ошибке да там и нашло место последнего успокоения. Кроме того, всю ночь он участвовал в кроссе по пересеченной местности, а потом его с большим знанием дела избивали в полицейском участке. Ему было очень скверно.
Он нащупал очки, надел их и тотчас увидел, что с одеялом что-то неладно. Чувствуя, что при каждом движении он рискует отправиться на тот свет, Диксон все же слегка приподнялся, и его воспаленным глазам открылось такое зрелище, что цимбалист, засевший у него в голове, совсем обезумел. В верхней части пододеяльника не хватало большого неправильной формы куска. Куска чуть поменьше, но все же значительного не хватало и в отвернутом крае одеяла, а под ним, в том же одеяле, не хватало куска примерно величиной с ладонь. Сквозь все эти дыры, края которых были черны, как отчаяние, виднелось коричневое пятно на втором одеяле. Диксон провел пальцем по краю дыры в пододеяльнике, и на пальце остался темный след. Это была сажа. Раз сажа – значит, горело. Раз горело – значит, сигарета. Неужто его сигарета сгорела дотла на одеяле? А если не сгорела, так куда же она девалась? На постели ее нигде не было видно. В постели – тоже. Скрипнув зубами, Диксон свесил голову с кровати. По светлому рисунку дорогого на вид ковра тянулась коричневая бороздка, заканчивавшаяся сероватым комочком пепла. Диксон почувствовал себя глубоко несчастным. Это чувство еще усилилось, когда он бросил взгляд на тумбочку возле кровати. На ее полированной поверхности виднелись два черных обугленных углубления. Они шли под прямым углом друг к другу и обрывались почти у самой пепельницы, в которой лежала одна-единственная обгоревшая спичка. На столе виднелись еще две неиспользованные спички. Остальные спички и пустая пачка из-под сигарет валялись на полу. Бакелитовой кружки нигде не было видно.
Неужели все это натворил он? А может, какой-нибудь бродяга, какой-нибудь громила забрался в комнату и устроил себе здесь привал? А может, он стал жертвой какого-нибудь призрака вроде мопассановского Орля, но отличающегося пристрастием к табаку? В конце концов он все же пришел к заключению, что это дело только его рук, и горько пожалел об этом. Теперь он, конечно, лишится места, особенно если у него не хватит духу пойти к миссис Уэлч и чистосердечно покаяться ей во всем, а он уже знал, что никогда на это не решится. Ведь то, что он может сказать в свое оправдание, еще более непростительно. Разве к поджигателю отнесутся с большей снисходительностью оттого, что он предварительно напился? Да притом как! Презрев свой долг по отношению к хозяевам и остальным гостям, отказавшись от наслаждения камерной музыкой, бросив все, как только его потянуло выпить.
Ему оставалось лишь надеяться, что Уэлч пропустит мимо ушей рассказ жены о погубленных одеялах. Впрочем, по опыту известно, что порою Уэлч бывает не совсем глух и слеп к окружающему: заметил же он в студенческой работе нападки на книгу своего ученика. Но, с другой стороны, тогда удар пришелся по самому Уэлчу. Вероятно, его не может особенно взволновать судьба простынь и одеял, которыми он в настоящую минуту не укрывается. Однажды, припомнилось Диксону, он пришел к заключению, что можно явиться в пьяном виде в профессорскую гостиную в университете, браниться, бить стекла, рвать газеты под самым носом Уэлча, и тот ничего не заметит, при условии если его персона останется в неприкосновенности. Это воспоминание в свою очередь воскресило в памяти Диксона случайно прочитанную фразу в книге, принадлежавшей Элфриду Бизли: «Стимул не может быть воспринят мозгом, если организм не испытывает в нем потребности». Он рассмеялся, но смех сменился гримасой.
Диксон вылез из постели и направился в ванную комнату. Через несколько минут он вернулся, жуя зубную пасту и держа в руке лезвие от безопасной бритвы, которым он принялся осторожно обрезать обожженные края пододеяльника и одеяла. Он сам толком не понимал, зачем это делает, однако по окончании операции все стало выглядеть как-то благопристойнее, во всяком случае, причина катастрофы стала менее очевидной. Когда все дыры приняли прямоугольную форму, Диксон медленно, с трудом, словно дряхлый старик, опустился на колени и выбрил пострадавшее место на ковре. Отходы, получившиеся в результате этих манипуляций, он сунул в карман пижамы. Теперь он примет ванну, а потом спустится вниз, позвонит Биллу Аткинсону и попросит его сообщить о приезде родителей значительно раньше, чем было условлено. Он присел на край постели, чтобы хоть немножко оправиться после мучительной возни с ковром, и в эту минуту, прежде чем он успел подняться, кто-то – он без труда понял, что это мужчина – вошел в ванную комнату. Диксон услышал, как загремела на цепочке пробка от ванны, затем зашумела вода из открываемого крана. Кто-то – Уэлч, или Бертран, или Джонс – собирался принять ванну. Кто именно – стало ясно при первых звуках низкого, плохо поставленного голоса, фальшиво распевавшего что-то. Диксон узнал блаженную белиберду жалкого Моцарта. Бертран вообще едва ли стал бы распевать в ванне, а Джонс откровенно признавался, что все, написанное До Рихарда Штрауса, для него не существует. Медленно, словно подрубленное дерево, Диксон повалился боком на кровать, ткнулся пылающим лицом в подушку и затих.
Он получил возможность немного собраться с мыслями, но как раз это ему меньше всего хотелось делать со своими мыслями. Чем дольше они будут идти вразброд – особенно мысли о Маргарет, – тем лучше. И тем не менее все время, чего с ним раньше никогда не бывало, он пытался представить себе, что скажет Маргарет при встрече с ним, если, разумеется, она еще захочет с ним разговаривать. Диксон высунул язык так, что коснулся им подбородка, страшно сморщил нос и беззвучно пошевелил губами. Сколько усилий придется ему приложить, чтобы убедить Маргарет хотя бы разомкнуть для начала уста, а затем излить на него весь запас гнева и укоров? И ведь это только предварительная схватка перед генеральным сражением, цель которого – заставить ее принять его извинения. В отчаянии он пытался прислушаться к песенке Уэлча, пытался высмеять ее несравненную банальность и вызывающую зевоту монотонность, но ничего не вышло. Тогда он стал думать о том, что его статья принята в журнале, стараясь хоть в этом почерпнуть утешение, но тут же вспомнил откровенное безразличие, с каким Уэлч отнесся к этой новости, и его безапелляционный совет, почти слово в слово совпадавший с тем, что сказал Бизли: «Заставьте их указать, в каком номере они ее напечатают, Диксон, иначе это мало чего стоит… очень мало…» Диксон сел на кровати и осторожно, в несколько приемов спустил ноги на пол.
Конечно, можно позвонить Аткинсону, но есть еще один выход, более простой, более легкий – немедленно скрыться, уехать, ни с кем не попрощавшись. Нет, не годится, если он не намерен уехать прямо в Лондон. А что сейчас делается в Лондоне? Он начал расстегивать пижаму, решив обойтись на этот раз без ванны. Широкие лондонские улицы и просторные площади, должно быть, пустынны в этот час, только какой-нибудь одинокий прохожий спешит куда-то. Он легко мог нарисовать себе эту картину. В его памяти ожили два дня отпуска, проведенных в Лондоне в дни войны. Он вздохнул. С таким же успехом мог бы он мечтать сейчас о Монте-Карло или Огненной Земле. Затем, прыгая на одной ноге, уже освобожденной от пижамы, и стараясь освободить и другую, он забыл обо всем, кроме боли, которая плескалась у него в голове и просачивалась сквозь мозг, как вода сквозь песок. Он привалился к камину, чуть не столкнув Будду на пол, и весь обмяк, словно подстреленный кинобандит. Интересно знать, есть на Огненной Земле свои Маргарет и Уэлчи?
Несколько минут спустя он оказался в ванной комнате. Уэлч оставил после себя кайму грязной мыльной пены по краям ванны и запотевшее зеркало. Немного подумав, Диксон начертил пальцем на запотевшем стекле: «Нед Уэлч слюнявый дурак, лицо, как поросячья задница». Затем протер зеркало полотенцем и взглянул на свое отражение. Выглядел он не так уж плохо. Во всяком случае, чувствовал он себя не в пример хуже. Однако волосы на макушке продолжали торчать, как яростно ни приглаживал он их мокрой щеткой для ногтей. Он хотел было употребить вместо бриолина мыло, но раздумал, потому что уже не раз превращал таким способом волосы на затылке и над ушами в некое подобие утиных перьев. Сегодня очки более чем обычно делали его пучеглазым, как лягушка. А в общем, вид у него был, как всегда, здоровый и – так ему казалось – честный и добрый. Приходилось этим удовольствоваться.
Он уже готов был проскользнуть вниз к телефону, но, возвратившись в спальню, решил еще раз осмотреть повреждения, нанесенные постельным принадлежностям. Что-то было не так, чего-то не хватало, но он никак не мог понять – чего. Он прошел в ванную комнату, запер дверь в коридор, снова вооружился бритвенным лезвием и снова принялся обрабатывать края дыр. Но на этот раз он делал надрезы, насечки и небольшие зубчатые выемки так, чтобы образовались лохмы. Затем, держа лезвие под прямым углом к краю дыры, стал скрести им по материи, стараясь как можно сильнее растрепать край. Потом отступил на шаг, окинул взглядом свою работу и решил, что так стало значительно лучше. Катастрофа, постигшая постельные принадлежности, теперь уже мало походила на дело рук человеческих. На первый взгляд могло показаться, что тут основательно потрудилась целая колония моли или свирепствовал какой-то грибок. Покончив с этим, Диксон повернул ковер так, что выбритое место хотя и не было совсем скрыто креслом, все же находилось к нему поближе.
Диксон уже прикидывал, не снести ли тумбочку вниз, чтобы на обратном пути выкинуть ее из окна автобуса, но в эту минуту до его ушей донеслось знакомое пение. Оно звучало так, словно певец мотал на ходу головой от удовольствия. Звуки росли, ширились, как грозное предчувствие. И вот дверь ванной комнаты начала сотрясаться, а ручка вертеться и греметь. Пение оборвалось, но тряска и грохот по-прежнему продолжались, и к ним присоединились пинки ногой, сменившиеся затем глухими толчками – словно кто-то пытался высадить дверь плечом. Уэлч, должно быть, никак не ожидал, что ванная комната может быть занята, раз ему понадобилось в нее вернуться. (Зачем, кстати, могло это ему понадобиться?) Да и теперь возможность такого осложнения, по-видимому, не умещалась в его сознании. Перепробовав различные способы взамен бесплодного сотрясания дверной ручки, он снова возвратился к первоначальному способу – бесплодному сотрясанию дверной ручки. Затем отбушевал еще один, последний шквал ударов и пинков, послышались удаляющиеся шаги, и где-то хлопнула дверь.
Со слезами бессильной ярости на глазах Диксон вышел из спальни, нечаянно раздавив по дороге бакелитовую кружку, которая неизвестно каким образом попалась ему под ноги. Спустившись вниз в прихожую, он поглядел на часы – было двадцать минут девятого – и направился в гостиную, к телефону. Спасибо еще, что Аткинсон по воскресеньям отправляется за газетами и встает рано. Успеть бы только его поймать. Диксон взял трубку. Затем в течение двадцати пяти минут все его усилия были направлены на то, чтобы как-то дать выход обуревавшим его чувствам, не повредив разламывающейся от боли голове. В телефонной трубке что-то жужжало и шелестело, словно в прижатой к уху морской раковине. Пока Диксон, сидя на обитом кожей подлокотнике кресла, безмолвно изрыгал проклятия, весь дом, казалось, внезапно пришел в движение. Кто-то начал расхаживать по комнате у него над головой, кто-то спустился по лестнице и прошел в столовую, кто-то отворил дверь в конце коридора и тоже прошел в столовую, где-то вдалеке загудел пылесос, где-то открыли кран и потекла вода, где-то хлопнула дверь и чей-то голос позвал кого-то. Когда весь этот шум принял такие размеры, словно за дверью гостиной собралась небольшая толпа, Диксон повесил трубку и встал. Поясница у него ныла от неудобной позы, рука – от бесконечного постукивания по рычагу аппарата.
Завтрак в доме Уэлчей, как и самый их образ мыслей, переносил вас в иную эпоху. Горячая еда стояла на буфете в старомодных кастрюлях-грелках, название которых Диксон даже не сразу вспомнил. Разнообразие блюд и их количество напоминали о том, что профессорское жалованье мистера Уэлча основательно подкрепляется недурным личным состоянием его супруги. Диксон никогда не мог понять, каким образом Уэлч ухитрился подцепить богатую невесту. Объяснить это какими-то его достоинствами, действительными или вымышленными, едва ли было возможно, а причуды его характера не оставляли места для алчности. Должно быть, старикан, когда был помоложе, обладал тем, что он теперь начисто утратил, – кое-каким обаянием. Несмотря на отчаянную головную боль и не менее отчаянную досаду, Диксон все же почувствовал себя счастливее, когда постарался вообразить, какие произведения кулинарного искусства послужат сегодня наглядным доказательством благоденствия Уэлчей. Направляясь в столовую, он уже почти забыл и об одеялах, и о ковре, и о Маргарет.
В столовой не было никого, кроме приятельницы Бертрана. Она сидела за столом перед полной с верхом тарелкой еды. Диксон пожелал ей доброго утра.
– Доброе утро. – Она сказала это просто, без неприязни.
Диксон тотчас решил избрать грубоватую – «люблю резать напрямик» – манеру обращения, которой всего удобнее замаскировать любую намеренную грубость, уже совершенную или предполагаемую. Приятель его отца, ювелир, пользуясь этим незамысловатым способом, ухитрялся в течение пятнадцати лет, которые Диксон был с ним знаком, безнаказанно говорить людям одни только гадости, и все сходило ему с рук. Намеренно подчеркивая свой северный акцент, Диксон сказал:
– Боюсь, я вам вчера немного нахамил.
Она быстро вскинула голову, и он с горечью отметил про себя, какая у нее красивая шея.
– О… это… Забудьте. Я тоже показала себя не с лучшей стороны.
– Мне очень приятно, что вы не обиделись, – сказал он и тут же припомнил, что уже употребил однажды эту фразу в разговоре с ней. – Во всяком случае, я был не слишком любезен.
– Пустое, забудем об этом, хорошо?
– С радостью. Спасибо.
Наступило молчание, во время которого Диксон с некоторым удивлением отметил про себя, как много и как быстро она ест. Гора омлета с грудинкой и помидорами, обильно политая соусом, заметно уменьшалась. Пока Диксон молча наблюдал за девушкой, она снова подлила себе на тарелку жирной красной подливки из стоявшего на буфете соусника и, перехватив его исполненный любопытства взгляд, сказала, подняв брови:
– Я очень люблю этот соус. Надеюсь, возражений нет?
Однако это прозвучало не очень уверенно, и Диксону показалось даже, что она слегка покраснела.
– Ешьте на здоровье, – добродушно сказал он. – Я сам люблю эту штуку. – Он отодвинул от себя тарелку с корнфлексом, потому что привкус солода был ему неприятен. Созерцание омлета с грудинкой и помидорами убедило его, что с завтраком спешить не следует. Когда он садился за стол, в пищеводе у него появилось такое ощущение, словно его зажали в тиски. Он налил себе чашку черного кофе, выпил ее и налил еще.
– А вы разве не хотите чего-нибудь поесть? – спросила девушка.
– Нет, пока не хочется.
– Что с вами такое? Плохо себя чувствуете?
– Да, не очень хорошо, признаться. Голова что-то побаливает.
– А, так вы все-таки ходили в пивную, как сообщил нам этот… как его зовут…
– Джонс, – сказал Диксон, стараясь вложить в это слово все, что он думал об этом человеке. – Да, правильно, я был в пивной.
– И, кажется, много выпили? – Она так заинтересовалась этим, что перестала есть и замерла, зажав в одной руке нож, в другой – вилку. Диксон заметил, что кончики пальцев у нее совсем квадратные, а ногти обрезаны очень коротко.
– Да кто его знает. Наверно, – ответил он.
– Сколько же?
– Ну, я никогда не считаю. Это вредная привычка.
– Пожалуй. А все же, сколько вы выпили? Примерно.
– Ну… кружек семь-восемь.
– Пива?
– А чего же еще? Разве не видно, что спиртные напитки мне не по карману?
– Восемь пинт пива?
– Ну да. – Он усмехнулся, думая про себя, что она, в общем, славная девчонка и что голубоватые белки придают ей какой-то необыкновенно здоровый вид. Однако он тут же отказался от своего умозаключения, а дальнейшее перестало его интересовать, когда она сказала:
– Ну, если вы так много пьете, вполне естественно, что вам нездоровится на следующий день. – И она выпрямилась на стуле, совсем как гувернантка.
Диксону снова припомнилось, как грубиян ювелир укорял его отца за «благочопорность», потому что тот вплоть до самой войны никогда не выходил из дома без белого крахмального воротничка.
Это резвое словообразование весьма точно выражало то, что не нравилось Диксону в Кристине. Он сказал довольно холодно:
– Вы правы, правы, как никто. – Выражение это Диксон подхватил у Кэрол Голдсмит, и, подумав о ней – впервые за это утро, – он вспомнил о поцелуе, свидетелем которого был накануне вечером. Внезапно его осенило, что все это имеет отношение не только к Голдсмиту, но и к этой девушке. Впрочем, она, по-видимому, сумеет постоять за себя.
– Все вчера недоумевали, куда вы исчезли, – сказала она.
– Могу себе представить. Скажите, а как отнесся к этому мистер Уэлч?
– К чему? Когда узнал, что вы отправились в пивную?
– Ну да. Он был рассержен или не очень?
– Представления не имею. – Почувствовав, вероятно, что это прозвучало несколько резко, она добавила: – Я ведь его совсем не знаю, и поэтому мне трудно судить. По-моему, это как-то прошло мимо него, если вы понимаете, что я хочу сказать.
Диксон отлично понимал и почувствовал вдруг, что может, пожалуй, теперь рискнуть отведать омлета с грудинкой и помидорами. Направляясь к буфету, он сказал:
– Это хорошо, должен признаться. Пожалуй, надо будет все же принести ему извинения.
– Неплохая мысль, мне кажется.
Она сказала это таким тоном, что он отвернулся к буфету и, слегка ссутулив плечи, скорчил одну из своих излюбленных гримас – лицо китайского мандарина. Эта девушка и ее приятель вызывали в нем такую антипатию, что он не мог понять, как они-то терпят друг друга. Тут он вспомнил про одеяло и ковер. Ну не дурак ли он! Как можно было все так бросить! Необходимо что-то предпринять. Надо подняться наверх и поглядеть на них еще разок – может быть, при виде их его осенит вдохновение.
– Черт! – машинально произнес он вслух. – Черт возьми… – И, опомнившись, добавил: – Боюсь, мне надо бежать.
– Как, вы уже спешите домой?
– Нет, я пока еще не уезжаю… Я хотел сказать… Мне надо подняться наверх. – Чувствуя, что все это звучит довольно глупо, он добавил в полном отчаянии, все еще держа в руке крышку от кастрюли: – Мне надо кое-что поправить в моей комнате… – Он взглянул на нее и увидел, что ее глаза расширились. – У меня ночью был пожар.
– Вы устроили пожар у себя в спальне?
– Ничего я не устраивал – случайно поджег сигаретой. Само собой как-то загорелось.
Выражение ее лица снова изменилось.
– У вас был пожар в вашей спальне?
– Да нет, только в постели. Она загорелась от сигареты.
– Вы подожгли постель?
– Ну да.
– Подожгли сигаретой? Нечаянно? А почему вы ее не потушили?
– Я спал. И узнал о том, что произошло, только утром, когда проснулся.
– Так вы, верно… И неужели вас не обожгло? Он накрыл наконец кастрюлю крышкой.
– Нет как будто бы.
– Хорошо хоть так. – Она поглядела на него, крепко сжав губы, и вдруг расхохоталась, но совсем не так, как смеялась накануне вечером. Диксон подумал, что сейчас ее смех звучит далеко не столь музыкально. Светлая прядка упала на лоб, отделившись от тщательно приглаженных волос, и девушка тотчас водворила ее на место.
– Что же вы теперь собираетесь делать?
– Еще сам не знаю. Но что-то сделать надо.
– Да, вполне с вами согласна. И времени терять нельзя – скоро горничная начнет убирать комнаты.
– Я знаю. Но что же сделать?
– А много сгорело?
– Довольно много. Одеяло прожжено насквозь, и дыры порядочные.
– М-да… Видите ли, трудно что-нибудь посоветовать, не поглядев. Если вы… Да нет, это не поможет.
– Послушайте, а если бы вы поднялись наверх и…
– И поглядела сама?
– Да. Это вас не затруднит?
Она снова выпрямилась на стуле и задумалась.
– Хорошо. Только, конечно, я ничего не обещаю.
– Разумеется. – Он радостно припомнил вдруг, что несколько сигарет все-таки уцелело от огня. – Я очень вам благодарен.
Они уже направлялись к двери, когда она сказала:
– Но вы же не позавтракали.
– Что делать! Теперь уже некогда.
– Я бы на вашем месте все-таки поела. Второй завтрак здесь бывает довольно скуден.
– Да я и не собираюсь его дожидаться… То есть теперь уж нет времени… Обождите минутку. – Он бросился назад к буфету, схватил скользкое печеное яйцо и засунул его в рот целиком. Она бесстрастно наблюдала за ним, скрестив руки на груди, на лице ее ничего не отразилось. Бешено работая челюстями, он прихватил еще кусок грудинки, сложил его несколько раз, тоже сунул в рот и жестом показал, что готов. Волна тошноты поднялась и подкатила к горлу.
Следуя за Кристиной, он прошел через прихожую и поднялся по лестнице. Откуда-то издалека долетали окариноподобные звуки флажолета, исполняющего худосочную мелодию. По-видимому, Уэлч завтракал у себя в комнате. С чувством огромного облегчения Диксон убедился, что дверь ванной комнаты не заперта.
Девушка остановилась и строго на него взглянула.
– Для чего это мы сюда направляемся?
– А моя спальня за ванной.
– Вот что! Какое странное расположение комнат.
– Наверное, эту часть дома распланировал сам Уэлч. Так ведь удобнее, чем наоборот – сначала спальня, а потом ванная.
– Да, вероятно. Ого! Вы вчера действительно хватили лишнего. – Она уже прошла вперед и стояла, разглядывая и ощупывая простыни и одеяла, словно материи, разложенные для продажи на прилавке. – Но эти дыры совсем не похожи на прожженные. Кажется, что их прорезали чем-то острым.
– Видите ли, я… Я обрезал обожженные края бритвой. Мне казалось, что так будет выглядеть как-то лучше.
– Почему же?
– Трудно объяснить. Мне просто казалось, что так лучше.
– М-да. И все это натворила одна сигарета?
– Ну, этого я не знаю. Вероятно, одна.
– Да, вы в самом деле совсем… и тумбочка тоже! И ковер! Вы знаете, я думаю, что мне не следовало бы ввязываться в это дело. – Внезапно она широко улыбнулась, отчего лицо ее стало уже неправдоподобно здоровым, и оказалось, что передние зубы у нее не совсем правильной формы. Этот дефект почему-то совсем лишил Диксона душевного спокойствия, и он решил, что надо бросить замечать в ней то одно, то другое. В ту же минуту она выпрямилась и задумчиво сжала губы.
– Мне кажется, самое лучшее перестелить сейчас постель так, чтобы убрать все это вниз. Одеяло, которое только чуть-чуть порыжело, можно постелить сверху. С обратной стороны оно, вероятно, совсем не пострадало. Ну как? Жаль, что здесь нет еще и пухового одеяла…
– Да, пожалуй, это неплохо придумано. Но ведь когда станут перестилать постель, все обнаружится.
– Да, конечно, но, думаю, никому в голову не придет, что это от сигареты, особенно после ваших упражнений с бритвой. И притом никто ведь не сует голову под одеяло, чтобы покурить, не так ли?
– Да, конечно, это верно. Так за дело.
Пока он отодвигал кровать от стены, Кристина стояла, скрестив на груди руки, и наблюдала за ним. Затем они вместе принялись перестилать постель. Шум пылесоса раздавался теперь где-то совсем близко – он заглушал даже звуки флажолета. Когда они вместе перестилали постель, Диксон вопреки недавно принятому решению разглядывал девушку и, к великой своей досаде, убедился, что она еще красивее, чем ему казалось. Он почувствовал, что ему нестерпимо хочется скорчить гримасу, которую он корчил, когда Уэлч наваливал на него какое-нибудь новое поручение с целью испытать его способности, или когда на горизонте появлялся Мичи, или когда на память ему приходила миссис Уэлч, или когда Бизли передавал ему очередное высказывание Джонса. Словом, ему страшно захотелось сделать гримасу, надуть щеки и с силой выдохнуть из себя воздух – весь, весь воздух, и с такой силой, чтобы заглушить в себе сумятицу чувств, которую эта девушка пробуждала в нем: негодование, печаль, досаду, раздражение и холодную злобу – все аллотропы боли. Девушка была вдвойне виновата перед ним: во-первых, тем, что казалась такой привлекательной, во-вторых, тем, что, будучи такой привлекательной, маячила у него перед глазами. Когда ему доводилось видеть кого-нибудь из современных цариц Савских – итальянских киноактрис, жен миллионеров, премированных красавиц, – с этим он справлялся легко. Более того, ему даже нравилось глядеть на них. Но то было совсем другое, а на эту ему бы лучше не глядеть вовсе. Он читал, вспомнилось ему, что кто-то, считавший себя знатоком в вопросах любви, не то Платон, не то Рильке, кажется, сказал, что любовь – чувство совершенно отличное не только по силе, но и по самой сути от обычного чувственного влечения. Значит, чувство, которое девушки вроде Кристины пробуждают в нем, – любовь? Да, во всяком случае, другого чувства, которое он мог бы так назвать, ему не только не приходилось испытывать, но он даже не представлял себе его. Но против этого, если не считать довольно сомнительной поддержки Платона (или Рильке), – весь опыт, накопленный человечеством в этой области. Хорошо, но что же это за чувство, если не любовь? Оно не похоже на желание.
Когда, кончив подтыкать одеяло, они стояли рядом возле кровати, он с трудом удержался, чтобы не положить руку на ее высокую крепкую грудь, и в то же время этот жест представлялся ему столь же естественным, само собой разумеющимся, как если бы он протянул руку и взял большой сочный персик из вазы с фруктами. Нет, что бы это ни было и как бы оно ни называлось, только он ничего не мог с собой поделать.
– Ну вот, теперь, мне кажется, все в порядке, – сказала девушка. – Кто не знает, ни за что не догадается, что там внизу, верно?
– Конечно, и большое вам спасибо за помощь.
– Пустяки. А что вы намерены сделать с тумбочкой?
– Я уже думал об этом. В конце коридора есть маленький чуланчик со всяким хламом. Там полным-полно ломаной мебели, заплесневелых книг и прочей ерунды. Меня посылали туда вчера за нотным пюпитром – так он, кажется, называется? В этом чулане найдется местечко и для тумбочки – за старой французской ширмой, на которой намалеваны какие-то придворные маркизы, ну вы знаете – в широкополых шляпах и с банджо. Если бы вы могли выглянуть в коридор – посмотреть, свободен ли путь, я бы сейчас, не откладывая, оттащил ее туда.
– Идет. Блестящая мысль. Если спрятать эту тумбочку, никому и в голову не придет, что дыры прожжены сигаретой. Подумают, что вы порвали простыню, потому что вас мучил кошмар.
– Ничего себе кошмар – пробуравить ногами простыню и одеяло!
Она взглянула на него, полуоткрыв рот, затем начала смеяться. Смеясь, она присела на край постели, но тут же вскочила, и так поспешно, словно постель снова начата тлеть. Диксон тоже рассмеялся – не потому, что ему было весело, а потому, что он был признателен Кристине за ее смех. Они оба все еще продолжали смеяться, когда она, выглянув из ванной комнаты в коридор, поманила его за собой. Он схватил тумбочку и выбежал на площадку. И в эту минуту Маргарет внезапно распахнула дверь своей комнаты и увидела их.
– Что вы тут вытворяете, Джеймс? – спросила она.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.