Читать книгу "По, Бодлер, Достоевский Блеск и нищета национального гения"
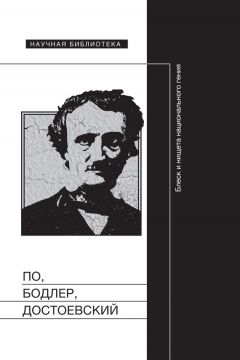
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Раскольников, который, коротко говоря, хочет стать Цезарем, Наполеоном или – никем, безусловно, имеет собственную теорию, но Достоевский напоминает нам, что в этом прометеевском персонаже сосредоточена целая философская традиция, утверждавшая и независимость, и всемогущество человека. Вместе с тем можно сказать, что Раскольников Достоевского гениально воплощает собой одну идею По из «Беседы Моноса и Уны»: «Как можно было предположить, исходя из причины его расстройства, его заразила страсть к системе и абстракции. Он запутался в обобщениях»[212]212
По Э.А. Беседа Моноса и Уны. С. 328.
[Закрыть].
Раскольников действительно запутался в обобщениях и деталях – просто потому, что видение мира и человека, на котором основывалась его теория, было по своей сути ошибочным, извращенным, перверсивным. Однако для этого «одержимого» («одержимого» прежде всего в том смысле, который придавал этому слову Достоевский: «одержимого идеей», неспособного открыть «всю красоту реального» и тем более укоренить в нем собственную идею) петербургское пространство становится одновременно и грезой, и кошмаром. Хотя ему случается запираться в своей комнате-шкафу в те моменты, когда тревога становится совсем невыносимой, персонаж Достоевского, подобно человеку толпы, постоянно бродит по улицам Петербурга, по оживленному торговыми рядами кварталу Апраксина двора: он действительно как будто не в состоянии оставаться наедине с собой и со своей идеей, испытывая потребность в чьем-нибудь присутствии; и в то же время не может выносить присутствия других людей дольше нескольких минут. И большой город этому способствует – ведь именно он выступает одновременно и символом изменения мира, и идеальным местом, где гордый интеллектуал может развивать свои смертоносные умозаключения, столь же опасные, сколь опасны некоторые «knowledge» и «fancy» По.
Наши размышления о современном мире и об одном из самых эмблематических его пространств – о большом городе – подводят нас наконец к вопросу о «странности» и «чужестранности». Его мы попытаемся прояснить в дальнейшем изложении: в семантическом ореоле этого понятия, как мы полагаем, три наши автора встречаются как нельзя более определенно, правда давая ему различные имена: «причудливое», «чужестранное» или «фантастическое».
У Достоевского это пространство большого города, мир, лишенный морали, где человек, оторванный от родной питательной почвы, все время уступает соблазнам «hubris», «fancy» или резонирующего ума, является весьма благоприятным местом для возникновения того, что сам он именует «фантастическим» и что не имеет ничего общего с фантастическим Гофмана – хотя Достоевский и восхищается этим автором. Напротив, несмотря на сдержанное суждение о По как о поэте, Достоевский действительно открывает в американском писателе фантастическую стихию, в которой автор, «допустив это [неестественное] событие, во всем остальном совершенно верен действительности»[213]213
Достоевский Ф.М. [Предисловие к публикации] Три рассказа Эдгара Поэ. С. 88.
[Закрыть]. Это не может не напомнить некоторые приемы самого Достоевского. В знаменитом письме к Н.Н. Страхову он объяснял:
У меня свой особенный взгляд на действительность (в искусстве), и то, что большинство называет почти фантастическим и исключительным, то для меня иногда составляет самую сущность действительного. Обыденность явлений и казенный взгляд на них, по-моему, не есть еще реализм, а даже напротив. В каждом нумере газет Вы встречаете отчет о самых действительных фактах и о самых мудреных. Для писателей наших они фантастичны; да они и не занимаются ими; а между тем они действительность, потому что они факты… Неужели фантастичный мой «Идиот» не есть действительность, да еще самая обыденная! Да именно теперь-то и должны быть такие характеры в наших оторванных от земли слоях общества – слоях, которые в действительности становятся фантастичными[214]214
Достоевский Ф.М. Письмо к Н.Н. Страхову от 26 февраля / 10 марта 1869 г. Письма 1865 – 1873. Т. 29 (1). С. 19.
[Закрыть].
Для Достоевского фантастическое заключается не в понимании того, что «наименее общие» факты абсолютно реальны, а в осознании исключительности некоторых людей и событий, что не соответствуют той «рациональной» идее, которую формируют для себя люди, исходя из того, какой «должна» быть реальность, и не понимая, что все они движимы внутренней необходимостью, не поддающейся логике или разуму, но не ускользающей от порядка мира и реальности. Реализм, претендующий на то, чтобы заниматься только повседневной и «логической» реальностью вещей, как раз и является фантастическим – в том смысле, что он останавливается на поверхности реального, забывая искать глубокий смысл в событиях и существованиях.
По мнению Достоевского, реальность становится причудливой, странной, чуждой и фантастической из-за резкого разрыва человека с собственными корнями – это так называемая пространственная обескоренность, являющаяся внешним знаком обескоренности метафизической. Такой разрыв все время грозит человеку безумием, но оно способно также ослепить (или сделать близоруким, согласно метафорике рассказа По «Очки») тех, кто рассматривает реальность, не заходя за внешние рамки видимостей, а также и тех, кто именует фантастическим не что иное, как явление в реальности духовной драмы человека.
Представляется, что это «фантастическое» Достоевского не так уж далеко от того, что русский романист называет (возможно, слишком быстро, как и вся критическая традиция того времени) «фантастическим» у По. Однако в этом «фантастическом» так мало «фантастического» – если придерживаться узуальной литературоведческой терминологии, – что, по нашему мнению, можно было бы поискать у самого По какое-то другое слово для обозначения не только природы его искусства, но и той беспокойной странности, которая время от времени проявляется в его текстах.
Можно думать, что это понятие есть в рассказе «The Angel of the Odd» («Ангел необъяснимого») – в том значении английского слова «odd», которое, как уже было сказано, Бодлер усиливает в своем переводе, используя субстантивированное прилагательное «le Bizarre» («причудливое»). Мы полагаем, что в этом рассказе (где «фантастическое» имеет меньшую силу в сравнении с другими текстами) за видимой буффонадой и экстравагантностью ситуации, за постоянно сказывающимся юмором, за очевидной сатирой, направленной и на религию прогресса, и на склонность теоретиков-спиритуалистов к использованию абсолютно непонятного языка, у По скрыты гораздо более глубокие и серьезные идеи. С первых строк чрезмерная элегантность, самомнение, а также опьянение рассказчика заставляют нас воспринимать его как внутренне пустого и бессодержательного человека: он просто пытается заполнить свое существование скучным чтением, беспричинным гневом, алкоголем и изысканными блюдами. Однако ему не удается наделить себя жизненностью и содержательностью; любопытно, что его резкое неприятие «необъяснимых событий» перекликается с теми упреками, которые Достоевский адресовал «авторам-реалистам», говоря об их невнимании к фантастическому в действительности. Наконец, сколь бы смехотворным и карикатурным ни выглядел «ангел причудливого», необходимо учитывать, что каждый эпизод предстает как греза, как видение (возникающее, очевидно, в состоянии опьянения). Это позволяет нам предположить, что «ангел» (он немного похож на рассказчика и, когда не пьет сам, щедро наливает ему киршвассер) представляет идею морального и метафизического падения человека, который потерял не только всякое чувство собственного достоинства, но и чувство прекрасного, гармонии и, самое главное, бесконечности. Это как проявление в заснувшем сознании той части человека, через которую он связан с бесконечностью и которую порожденные алкоголем или «резонирующим» умом иллюзии отвергают или попросту не признают.
Таким образом, не будет сильным преувеличением сказать, что необъяснимое (или причудливое) у По имеет нечто общее с фантастическим у Достоевского. Ангел причудливого предстает гротескной фигурой, однако это не мешает ему быть также «ангелом-вестником» необъяснимого (ведь остальные – это вестники Бога). Более того, можно утверждать, что причудливое (а с этим понятием сталкиваются почти все персонажи у По, хотя оно не всегда так названо) – это то, что является в сознании и что, будучи недоступным для стерильной мысли, определяется как «необъяснимая» связь человека с бесконечным.
Можно было бы подумать, что представленное выше отношение Бодлера к городу в том, что касается его странности (или фантастичности, или необъяснимости), резко отличается от отношения Достоевского и По к урбанистическим пространствам, но на самом деле все не так просто.
Для начала подчеркнем, что слово «причудливый» постоянно выходит из-под пера Бодлера в работах по художественной критике. И хотя в таком контексте это слово часто имеет обычное и распространенное значение («что-то странное»), оно также может приобретать – когда необходимо дать определение самому искусству или красоте – особенное значение, отличающееся абсолютно позитивными коннотациями.
Это можно увидеть, например, в тексте, посвященном «Всемирной выставке» (1855), который мы уже цитировали, освещая идею прогресса в творчестве Бодлера. В разделе под названием «Метод критики. О современном понимании прогресса применительно к изобразительному искусству» поэт пытается дать определение прекрасному и выступает как против ««присяжных критиков», подобных тирану-мандарину (как он пишет, «все время вызывающему во мне представление о нечестивце, который тщится занять место Бога»), так и против «высокомерных софистов, которые почерпнули все свои знания из книг». После чего поэт-критик замечает:
Прекрасное всегда причудливо. Я отнюдь не хочу сказать, что причудливость его надуманна, хладнокровно причудлива, ибо в этом случае оно оказалось бы чудовищем, находящимся вне русла жизни. Я хочу сказать, что в Прекрасном всегда присутствует немного причудливости, наивной, невольной, бессознательной, она-то и служит главной приметой Прекрасного….Эта доза причудливости… образует и определяет индивидуальность, без которой нет красоты[215]215
Бодлер Ш. Об искусстве. С. 578 – 579. Перевод изменен.
[Закрыть].
Помимо установленных критикой схождений этого фрагмента с текстом «Лигейи»[216]216
Клод Пишуа замечает, что источник мысли Бодлера находится в следующем рассуждении персонажа По: «Нет красоты восхитительной… если верно говорить о всех формах и всех видах красоты, – без некоторой странности [strangeness] в пропорциях» (Baudelaire Ch. Œuvres Complètes II. P. 1369). Ср.: «“Нет утонченной красоты, – справедливо подмечает Бэкон, лорд Верулам, говоря обо всех формах и genera прекрасного, – без некой необычности в пропорциях”» (По Э. Лигейя // По Э. Полное собрание рассказов. С. 146).
[Закрыть], перевод которой был опубликован Бодлером примерно в то же время, что и статья о Всемирной выставке, следует обратить внимание на то, что приведенная формулировка свидетельствует о глубокой продуманности этого понятия в эстетической системе поэта. Если допустить, что «присяжные критики» – это нечестивцы, желающие заполучить место Бога, и если они при этом занимаются искусством, теоретически и абстрактно им интересуются, исходя только из здравого смысла и заимствованной, неоригинальной науки, то причудливость, напротив, предстает как исключительное в своем роде выражение оригинальности, подлинности в искусстве. Иными словами, речь идет об индивидуальности человеческой личности, о способности человека к восприятию, чувствованию, а также о той способности, что позволяет работать в творчестве человеческой интуиции и воображению (воображение здесь не имеет ничего общего с «fancy»).
Следовательно, то, что Бодлер называет «причудливым», есть не что иное, как выражение личности, а личность у Бодлера всегда связана с Богом, с миром метафизическим и духовным. Поэтому его «причудливость» можно считать – как у По или Достоевского – проявлением в жизни, особенно в истинном художественном творении, нерационального измерения бытия, манифестацией той бесконечности, что ведет к человеку.
Таким образом, в трех различных мирах, при использовании таких различных литературных жанров, как рассказ, поэма и роман, По, Достоевский и Бодлер постоянно вводят (а порой и погружают) нас в глубины человеческого сердца, в то пространство, где «дьявол с богом борется, а поле битвы – сердца людей»[217]217
Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Т. 14. С. 100.
[Закрыть]. В нудной и «логичной» жизни современного человека, а также в его безрассудствах, в которых он рискует погибнуть, если попытается объективировать мир или творение, они нам все время приоткрывают то, что человек, по меньшей мере некая доля человека, всегда уклоняется от неумолимых обстоятельств чувственного мира и сознающего разума.
Очевидно, что каждый из трех наших авторов выразил что-то от «национального гения» своей литературы и культуры. Вместе с тем справедливо будет сказать, что все трое являются гениальными поэтами всечеловечества – и не только потому, что сегодня, равно как и раньше (точнее, сегодня гораздо в большей мере, чем раньше), человечество чествует их таланты, но и потому, что они писали (а стало быть, думали и творили) не только для своего «сегодня», но и для будущих времен и поколений. Возможно, следует сказать так: думая в своем времени, определяя свои идеи и свое поэтическое искусство в зависимости от того мира, в котором они существовали и продолжением которого является наш сегодняшний мир, они ставили под вопрос (в свое время и – заведомо – в наше) моральные, интеллектуальные и этические основания, на которых был построен мир, в котором мы сегодня живем.
Ни один из них не смог уверовать в реализм (и тем более не смог принять его эстетически!), однако все трое обладали обостренным чувством реального, того реального, в толщах которого залегает сюрнатуральное. Наконец, следует добавить: если слово По, слово Бодлера и слово Достоевского звучат до сих пор (возможно, как никогда раньше, во всяком случае, как никогда звучно), то причина этого в том, что, будучи критиками своего времени, они были прежде всего творцами, обнаруживая в самом своем творчестве, что воображение – «царица способностей» – это не проекция вне реальности, а, наоборот, погружение в реальность вплоть до того ее сокровенного ядра, где она открывается навстречу бесконечности.
Перевод с французского Сергея Фокина
Список литературы
Белинский В.Г. Письмо Н.В. Гоголю // Н.В Гоголь в русской критике. М., 1953. С. 243 – 252.
Бодлер Ш. Об искусстве / Пер. Н.И. Столяровой и Л.Д. Липман. М., 1986.
Бодлер Ш. Цветы Зла / Изд. подгот. Н.И. Балашов, И.С. Поступальский. М., 1970.
Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1972 – 1990. Т. 14, 18, 19, 23, 29.
По Э.А. Полное собрание рассказов / Изд. подгот. А.А. Елистратова и А.Н. Николюкин. М., 1970.
Balthasar H. Urs von. Le Chrétien Bernanos/ Trad. de M. de Gandillac. Paris, 1956.
Baudelaire Ch. Œuvres Complètes I / Ed. de C. Pichois. Paris, 1975.
Fink S. Who is Poe’s «The Man of the Crowd»? // Poe Studies. Vol. 44. № 1. Oct. 2011. P. 17 – 38.
Labarthe P. Le Spleen de Paris: Petis poèmes en prose de Baudelaire. Paris, 2000.
Lemonnier L. Edgar Poe et les poètes français. Paris, 1932.
Pageaux D. – H. Perspectives liminaires // Revue de littérature comparée. 2001/2002. № 298. Р. 199 – 203.
Pichois C., Ziegler J. Charles Baudelaire. Paris, 1996.
Poe E.A. Contes – Essais – Poèmes / Éd. C. Richard. Paris, 1989.
Vaillant А. Conversations sous influence. Balzac, Baudelaire, Flaubert, Mallarmé // Romantisme. 1997. Vol. 27. № 98. Р. 97 – 110.
Walter G. Edgar Alan Poe. Paris, 1991.
Слушая социопатов По: преступление, наказание, голос[218]218
Автор благодарит Сергея Фокина и Александру Уракову за предоставленную возможность апробировать этот текст на конференции и А. Уракову – за помощь в подготовке статьи.
[Закрыть]
Cтивен Рэкмен
Предлагаемая работа являет собой диптих. В ней сделана попытка сравнить два образа Эдгара Аллана По. Первый образ связан с конфликтом современных читательских интерпретаций в отношении рассказов По с мотивом преступления и социопатологии, второй – с признанием художественной силы этих же рассказов Ф.М. Достоевским, который читал их в шестидесятых годах XIX века во французских и русских переводах. И хотя рамка данного сравнительного анализа отсылает к изобразительному искусству, в статье речь пойдет в основном об аудиальной составляющей прозы По – о ее тональности, регистре, а также о голосе. Мы попытаемся понять, каким образом голоса социопатов По могли быть услышаны в этих двух очень разных культурных контекстах, отражающих две неизменные ипостаси восприятия По. В первом случае мы увидим, как они спровоцировали две прямо противоположные реакции: «совершенно правдоподобно» (Стивен Кинг) – «на три четверти пародия» (Джил Липор). Обе реакции, или оценки, представляют два противоборствующих критических лагеря и выражают полярные эстетические позиции, которые уже были намечены в произведениях По. Во втором случае нас будет интересовать, как Достоевский, во всех смыслах важный читатель По, имеющий непосредственное отношение к изобретению современной литературы и ее чувствительности, откликнулся на этот социопатический голос. Цель предлагаемой компаративной стратегии – обнаружить в рамках критического сравнения и противопоставления глубинную историко-литературную непрерывность, проследив, в какой мере амбивалентное отношение современных читателей к социопатическому голосу По было отражено уже в его первых русских переводах. Намечая линию непрерывности, мы постараемся показать, каким образом роль По в качестве одного из основоположников современной литературы была внутренне связана с этими критическими позициями и каким образом социопатическая речь, которую он изобрел, была услышана и понята.
1. Трещина в доме По
По был первым теоретиком современного рассказа. В основе его теории лежит идея единого, кумулятивного эффекта, который рассказ должен произвести на читателя «за один присест» [in one sitting], подобно выстрелу или дозе радиации (сам По определил его как период продолжительностью от получаса до двух), хотя остается совершенно неясным, испытывали ли читатели воздействие его рассказов сколько-нибудь единообразно[219]219
В первоначальном виде теория короткого рассказа По появилась в его рецензии на «Дважды рассказанные истории» Натаниэля Готорна в «Graham’s Magazine» за 1842 г. (№ 20. P. 298 – 300).
[Закрыть]. Эффект его произведений на читателей (можно сказать, эффект его эффектов) значительно варьировался. Мы можем отнести это на счет общей поливалентности знаков, которая действует как центростремительная дерридианская энтропия даже там, где автор стремится к предельной ясности[220]220
Cр., в частности, «Письмо и различие» (2000). Анализ «Похищенного письма» Жаком Деррида см. в: The Purloined Poe: Lacan, Derrida and Psychoanalytic Reading. P. 173 – 213.
[Закрыть]. Но мы также можем увидеть, что в разночтениях По есть своя, вполне определенная специфика, отсылающая к особым свойствам его стиля или голоса либо же к меняющимся вкусам и взглядам на этот стиль или голос. Расхождение в оценках По подчас связано с содержанием его самых популярных рассказов – о насилии, жестокости, убийстве, и соответственно с отношением к этому насилию рассказчика, чей голос мы слышим. Хорошо известные (по крайней мере в кругах исследователей По) обвинения Гарольда Блума упираются именно в голос: «Некритичных поклонников По нужно просить читать его рассказы вслух (но только для себя!). Связь между актерским стилем Винсента Прайса[221]221
Винсент Прайс (1911 – 1993) – американский актер и шоумен, известный исполнитель произведений По.
[Закрыть] и стилем По, увы, отнюдь не случайна»[222]222
Modern Critical Views: Edgar Allan Poe. P. 9.
[Закрыть].
Кажется, что Блум буквально не выносит звук голоса По. Отождествляя его с особой манерой и стилистикой Прайса (а что еще мог иметь в виду Блум, как не исполнение Прайсом безумцев По?), он заставляет нас услышать в этом голосе якобы присущую ему взволнованность, манерность и дилетантизм; как будто стилизации Прайса – которые Гарри М. Беншофф назвал шоу квир-дивы[223]223
Поскольку в русском языке нет точного аналога современного значения английского слова «queer», мы будем каждый раз заменять его наиболее близкими по смыслу синонимами, отсылая к оригинальному слову в скобках; исключение составляют признанный термин «квир-теория» и сленговое слово «квир-дива». – Прим. перев.
[Закрыть] в стиле хоррор (queer male horror-diva), то есть смесью маниакальной одержимости с жеманной утонченностью и женственностью, – и были голосом настоящего По[224]224
Benshoff H.M. Vincent Price and Me: Imagining the Queer Male Diva. P. 146 – 149.
[Закрыть]. Дело не только и не столько в нашем несогласии с Блумом; важно отметить, что его насмешки очень точно обозначают линию разлома в восприятии творчества По, равно как и являются типичной стратегией перемещения насилия и ужаса рассказов По в сферу несерьезного и подросткового. Такое перемещение оказывается, в сущности, способом читательского сопротивления единству эффекта По, а также знаком того, что в его голосе и впрямь есть нечто странное, неустойчивое, отклоняющееся от нормы, возможно гомоэротическое (queer). На эту тональность голоса По читатели, в особенности американские читатели XX и XXI веков, «настраиваются», когда пытаются реагировать на насилие в его рассказах или каким-то образом с этим насилием справиться[225]225
Квир-интерпретации По главным образом исследовали то, как гомосексуальное желание заявляет о себе в его рассказах при помощи готических конвенций, тем самым их переписывая. Л. Пёрсон выявляет гомоэротический подтекст рассказов с мотивами «гомофобного отторжения и насилия»: Person L.S. Queer Poe: The Tell-Tale Heart of His Fiction. P. 26 – 27. А. Уракова в схожем ключе интерпретирует «гомосоциальную интригу» «Похищенного письма», используя терминологию Ив Седжвик Кософски (Urakova A. «The Purloined Letter» in the Gift Book: Reading Poe in a Contemporary Context). Д. Гревен, которого вопросы гендера интересуют больше, чем гомосексуальное желание per se, фокусируется на «гомоэротических обертонах» в отношениях между мужскими персонажами «Повести о приключениях Артура Гордона Пима», особо отмечая, как уничижение и меланхолическая скорбь в романе По бросают вызов гендерным нормам XIX века (Greven D. «The Whole Numerous Race of the Melancholy among Men»: Mourning, Hypocrisy, and Same-Sex Desire in Poe’s Narrative of Arthur Gordon Pym). Э.Л. Маккаллум, интерпретируя преимущественно «Бочонок амонтильядо», обнаруживает гомоэротические аспекты мести в рассказе (McCallum E.L. The «queer limits» in the Modern Gothic). Ни одна из этих интерпретаций не рассматривает голос как культурный маркер гомоэротического (queer).
[Закрыть].
В самом деле, придуманная По теория единства эффекта особенно хорошо применима к страшному рассказу, готическому рассказу и мистификации – жанрам, призванным напугать, вызвать более-менее похожие и очевидные физические реакции или, в случае мистификации (если она успешна), заставить читателя хотя бы на время довериться автору и поверить в рассказываемое[226]226
Например, «Философию творчества», где По пытается применить свою теорию единства эффекта на практике, рассказывая, «как сделан» «Ворон», многие читатели сочли мистификацией, в некотором смысле подменой одного вида ожидаемого эффекта другим.
[Закрыть]. По пытается полностью завладеть нашим вниманием, делая стремление к тотальности, целостности впечатления мотивом и raison d'être своей теории. Он представлял себе сцену чтения текста, когда «душа читателя находится под контролем писателя» («the soul of the reader is at the writer’s control»)[227]227
Poe E.A. Essays and Reviews. P. 586.
[Закрыть]. Воспримем ли мы это как проявление авторского абсолютизма или читательского уничижения, будет зависеть, разумеется, от нашей точки зрения, но для По современный (modern) рассказ должен подтолкнуть нас к одной из этих позиций. По обращается не к благосклонному читателю XVIII века, но к читателю века XIX, которым, как он воображает, можно манипулировать. Ирония такой позиции становится очевидной, если вспомнить, что авторская стратегия По была ответом на новую культурную ситуацию, когда продолжительность концентрации внимания сильно сократилась, а требования к читателю возросли. Та самая сила, которая, казалось бы, должна была резко ограничить аудиторию По, – конкуренция за внимание – становится опорным пунктом его теории. Если у писателя есть только час на то, чтобы его прочитали, он должен использовать этот час так, чтобы читатель не мог оторваться от книги.
Ирония позиции По состоит также в том, что она побуждает читателей активнее сопротивляться контролю; Блум – главный, но далеко не единственный пример такого сопротивления. Многие критики, например, скептически воспринимают «Философию творчества», где По раскрывает механизмы создания эффекта, а саму «Философию…» считают ироническим преувеличением авторских калькуляций. Но чаще всего разногласия возникают в отношении таких рассказов По о социальных и психических патологиях, как «Сердце-обличитель» и «Черный кот». Вот два недавних примера. Говоря о «Сердце-обличителе» как о «первом произведении в жанре криминальной социопатии», Стивен Кинг написал, что гениальность рассказа –
в здравом, на первый взгляд, голосе рассказчика. Рассказчик не назван по имени, и это правильно, поскольку мы понятия не имеем, как он выбрал свою жертву и что подтолкнуло его на преступление… Кроме всего прочего, это убедительный рассказ о безумии, которому По не дает никаких объяснений. И не должен. Веселый смех повествователя… говорит нам все, что нам нужно знать… Что, однако, возвышает этот рассказ над другими историями в этом жанре и делает его пророческим, так это то, что По смог предсказать темноту (darkness) грядущих поколений. Например, нашего[228]228
King S. The Genius of «The Tell-Tale Heart». P. 189 – 190.
[Закрыть].
Второй пример. Историк культуры Джил Липор, пересказывая сюжет «Сердца-обличителя» для популярной аудитории «Нью-йоркера», говорит буквально следующее:
Если принимать лучшие «страшные» рассказы По за чистую монету – это поразительно, безупречно пугающие рассказы; но на самом деле они так и сочатся презрением. «Наполовину шутливая болтовня, наполовину сатира», как он сам однажды описал их. «Сердце-обличитель» скорее читается как на три четверти пародия… Сумасшедший со сверхострым слухом убивает старика и прячет его останки под полом. Когда прибывает полиция, убийца начинает слышать стук сердца своей погребенной жертвы[229]229
Lepore J. Humbug: Edgar Allan Poe and the Economy of Horror. P. 88.
[Закрыть].
Цитируя финал рассказа, Липор делает вывод: «Большинство рассказов По заканчиваются манерными, как продажная девка, страшилками (have these campy, floozy ‘Boo’ business at the end). По знал, что все это дешевые трюки. Он выполнял их хорошо – ему не было равных, – но они нравились не всем»[230]230
Ibid.
[Закрыть].
Там, где Кинг видит в высшей степени правдоподобный эффект, Липор замечает три четверти розыгрыша. Там, где Кинг обнаруживает леденящее кровь, гениальное предвидение современных серийных убийц задолго до того, как они появились, Липор находит одну манерность, дешевый «развод» читателя. Перед нами – один из тектонических разломов в критической литературе о По. Кто он: Гений или Обманщик? Гений и Обманщик? Каждый знакомый с историей критической рецепции По согласится, насколько привычной стала эта амбивалентность. Если творчество По в самом деле предоставляет нам, как сказано в названии одного исследования, «основание для обмана», тогда Липор сопротивляется этой стратегии, отказываясь быть обманутой или хотя бы признать, что на какое-то время она была захвачена прочитанным[231]231
См.: Ketterer D. The Rationale of Deception in Poe. Г.Р. Томпсон использует концепт «романтическая ирония», чтобы объяснить подобную критическую реакцию на рассказы По; он доказывает, что рассказы с мотивом социопатического ужаса неразрывно связаны с его мистификациями и сатирической прозой (Thompson G.R. Poe’s Fiction: Romantic Irony in the Gothic Tales. P. 10).
[Закрыть]. На данном этапе истории критической рецепции По очевидно, что именно спорные аспекты послужили его канонизации и что его голос – как и отклик на этот голос – находятся в самом центре развернувшегося диспута.
Приведенные мнения Кинга и Липор интересны не только тем, что они иллюстрируют две основные позиции в отношении По, но и тем, каким образом каждая из сторон аргументирует свою точку зрения. Вынося свой вердикт, обе стороны стремятся продемонстрировать определенную степень критической изощренности, связь с конкретным историческим моментом своего высказывания. Кинг апеллирует к печально известной истине: мы живем в век рутинной психо– и социопатологии. Ужас По – отнюдь не поддельный, потому что он сумел реконструировать поведенческую логику душевнобольного маньяка XX века. Липор приходит к диаметрально противоположному мнению: мы должны перестать верить По и его мнимым трюкам. Дети и наивные люди, живущие в XIX веке, пожалуй, могут обмануться, но этого никак не может позволить себе «современный» рефлексирующий читатель.
В определенном смысле оба мнения, какими бы несхожими они ни были (лично мы больше склоняемся к точке зрения Кинга), – продукт современной критики. Современный критик высоко оценивает текст, вычитывая из него страшную истину, которая стала очевидной лишь в ходе истории в XX и XXI веках. «Современность» Кинга опирается на непреложный факт: в XX веке появились серийные убийцы, травмировавшие наше сознание, сделавшие более мрачными сводки наших новостей, нашу литературу и нашу литературную восприимчивость. Он перечисляет имена современных серийных убийц, как историки перечисляют преступления геноцида, в качестве признаков «модерного» сознания. Для Кинга сила По – в мрачном пророчестве, в голосе, который самым «жутким» образом (uncannily) предрекает грядущие времена. Липор же видит здесь лишь жульническую попытку вызвать страх, апеллируя к современному читателю, которого не так-то легко развести. Ее современность – в сверхбдительности по отношению к мошенничеству в любой форме, даже в форме так называемых эстетических «надувательств» (aesthetic humbugs) XIX века.
Обе эти точки зрения (как в каком-то смысле все точки зрения) предполагают избирательное отношение к фактам и даже их искажение. Как говорит Кинг, мы «не имеем понятия», почему безымянный рассказчик выбрал старика в качестве жертвы и почему решил его убить, но читатели и критики «Сердца-обличителя», разумеется, помнят, что некоторое представление о возможных мотивах там все-таки есть, и безумие, которое Кинг находит столь убедительным, вызывает читательский интерес как раз потому, что выражает себя предельно конкретно; именно конкретность, точность деталей, какой бы иррациональной она ни была, позволяет нам выдвигать различные версии происшедшего. Кроме того, убийца-повествователь у По не является, строго говоря, серийным убийцей. Хотя его признание намечает такую гипотетическую возможность (он интуитивно понимает, что самым привлекательным аспектом убийства может быть его публичность), ему не хватает терпения убить еще кого-нибудь, прежде чем признаться[232]232
Еще одним, недавним примером похожей позиции может служить высказывание Джойс Кэрол Оутс, которая пишет о нутряной силе «обреченного / проклятого / в высшей степени экстатического голоса По» в «Сердце-обличителе»: он «пленил меня и глубоко отпечатался в моей памяти как один из “голосов” моего далекого детства, к которому я часто возвращаюсь, всегда с восхищением и с не меньшей степенью удивления и трепета» (см. главу «P.S.» в сборнике ее эссе «Дикие ночи!»: Oates J.C. Wild Nights! P. 7).
[Закрыть].
Липор пытается доказать – правда, весьма неубедительно, – что манерность По помогает водить читателя за нос, как будто обман может спровоцировать страх. На самом деле она (как и Блум) хочет сказать, что голос По – это голос мошенника, надувалы. Такое представление о По ошибочно, но интересно как пример читательского сопротивления его голосу. Насилие его рассказов, вызываемый ими страх, безусловно, производят должный эффект – заставляют нас вздрогнуть, но это не столь уж и важно. Мы полагаем, что в голосе По действительно есть нечто от queer в первоначальном значении этого слова – «невыразимо странный». «Странное» или «причудливое» в широком смысле делает возможными как интерпретации его текстов в контексте гомосоциального дискурса, так и исполнение Винсента Прайса и, наконец, объясняет то, почему некоторым читателям голос По кажется манерным. Эта особенность текстов По маркируется странным эпитетом «floozy» в статье Липор. Согласно словарю Уэбстера, «floozy» означает неразборчивую в половых контактах женщину или проститутку, однако Липор использует это слово как прилагательное; тем самым она как будто хочет сказать: проза По – queer, не произнося само это слово. Как и Блум, считающий, что интерес Прайса к По неслучаен (как заметил Дэвид Леверенц, «Блум обвиняет По в немужественности»[233]233
Leverenz D. Poe and Gentry Virginia. P. 218.
[Закрыть]), Липор пытается обесценить прозу По своим эпитетом. Она не может сделать это открыто, дабы не быть обвиненной в бестактности и гомофобии, и потому слово «манерный» («campy») или употребленное в качестве эпитета слово «проститутка» («floozy») служат субститутами слова «queer», имеющего вполне определенные коннотации для современного американского читателя, в первую очередь к квир-теории. Более того, произнести это слово значило бы опасно приблизиться к гомофобному стереотипу о гомосексуальном убийце-социопате. И тем не менее прозу По, его повествовательный голос в самом деле отличает качество, которое можно назвать английским словом «queerness»; это качество вполне вписывается в рамки современной квир-теории, но одновременно находится за ее пределами.
Фигура Прайса в этой связи заслуживает внимания – в той мере, в какой его легко узнаваемый голос (богатый оттенками, манерный, выразительный, слегка шепелявый) стал голосом самого По. Злодей в голливудских фильмах ужаса, как кассовых, так и низкобюджетных, приглашенный злодей (Яйцеголовый) в телевизионном сериале «Бэтмен», насмешливый участник телешоу «Hollywood Squares» и популяризатор изобразительного искусства, Прайс неизменно выступал в амплуа образованного и язвительного эстета. Исполняя роли Родерика Ашера, принца Просперо и других персонажей По в экранизациях «American International Pictures» (а также в собственных шоу одного актера), Прайс привносит свой публичный образ в творчество По. Нередко цитируют его слова: «Я не играю монстров, я играю людей, гонимых роком и убивающих из мести»[234]234
Цитату из Прайса можно найти в разных источниках в интернете. Она приводится у Беншоффа: Benshoff H.M. Vincent Price and Me: Imagining the Queer Male Diva. Р. 147.
[Закрыть]. Гонимых роком, но каким роком? Для Г.М. Беншоффа это рок или печальный удел гомосексуальности, подвергаемой стигматизации в современном обществе. Беншофф пишет: «Фильм за фильмом Прайс исполнял роли гениальных и артистичных готических антигероев, которые обрушивали свою страшную месть на скучных олухов, дерзнувших встать у них на пути»[235]235
Ibid. P. 148.
[Закрыть]. Для Беншоффа Прайс, подавляющий культурным превосходством и культурной инаковостью простых смертных, которые не желают его понять и признать, словно наносит ответный удар всем тем, кто когда-то дразнил самого Беншоффа «гомиком» или «девчонкой» на школьном дворе. В препубертантном, но уже протогомосексуальном сознании юного Беншоффа Прайс словно реализовал его фантазию об отмщении. По крайней мере для некоторых зрителей XX века произведения По, благодаря стилизациям Прайса, воплощают вполне определенную культурную фантазию о мести гетеронормативному миру.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































