Читать книгу "По, Бодлер, Достоевский Блеск и нищета национального гения"
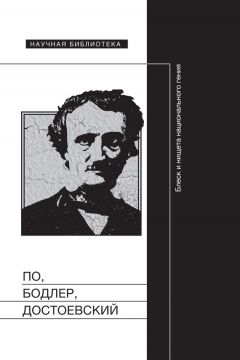
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Последняя глава третьей части, «“Их Бодлер”. Восприятие Бодлера в русской эмиграции первой волны: Берберова, Адамович, Поплавский» Дмитрия Токарева, начинается с упоминания статьи А.И. Урусова «Тайная архитектура “Цветов Зла”» как свидетельства поэтического авторитета Бодлера в России рубежа веков. «Напротив, в кругах русской эмиграции, среди представителей которой были люди разных поколений и разных творческих ориентиров, в том числе и вышедшие из символизма и акмеизма, имя Бодлера воспринималось с известной сдержанностью». Как и в случае с американским «сиреневым десятилетием», здесь важен временной фактор: «в силу естественного хода времени Бодлер из модного и актуального поэта стал уважаемым классиком, имя которого по праву шло первым в ряду французских поэтов второй половины XIX века (Бодлер, Верлен, Рембо, Малларме); образование самого этого ряда свидетельствовало о неизбежном перерождении еще недавно живого литературного пространства в схематизированное пространство учебника литературы, полное клише и общих мест». Однако наряду с традиционным представлением о Бодлере как декадентском поэте (Берберова) существовала тенденция, уводящая от этого клишированного представления. Например, для Адамовича и Поплавского Бодлер оказывается интересен не только и не столько сам по себе, сколько в качестве фигуры литературного сопоставления; это последнее обстоятельство способствовало неожиданным сближениям, например Бодлера и Некрасова, и вело к переосмыслению собственной национальной традиции.
Каким бы трюизмом это ни прозвучало, но любая интерпретация так или иначе сопряжена с вымыслом – достраиванием, домысливанием, заполнением пробелов, подчас сопровождаясь эрзац-творческими практиками, встречным сочинительством. В последней части книги, «Между вымыслами и домыслами», речь пойдет как о художественном вымысле, так и о граничащем с вымыслом металитературном и философском/критическом комментарии; исключение, пожалуй, составляет глава о Романе Якобсоне, однако и здесь По, Бодлер и Достоевский важны не сами по себе, но в составе построений или конструктов сложной поэтологической теории. С одной стороны, будет показано, как другие писатели – Т.С. Элиот, Генри Миллер, Борхес – отталкивались от По, Бодлера или Достоевского в своем художественном творчестве; каким образом фигуры или образы последних послужили источником вдохновения, самоидентификации, металитературной рефлексии; наконец, как вымысел соседствовал с интерпретацией. С другой стороны, будут исследованы отклики на По, Бодлера и Достоевского в рамках нехудожественных высказываний философа (Ницше), режиссера (Эйзенштейн) и теоретика литературы (Якобсон). В четвертой части книги продолжается, с одной стороны, тема художественной преемственности, отчасти затронутая в разделе, посвященном орнитологии По и Бодлера в компаративистском аспекте, с другой стороны – тема культурного посредничества и феномена национального гения в инокультурной среде.
Первая глава – «По, Бодлер, Достоевский: “опасные связи” в свете теории декаданса позднего Ницше» Андреа Скеллино – развивает тему декаданса вслед за Фокиным и Пановой. В главе рассматриваются отклики Ницше на творчество Бодлера и в меньшей степени – на Достоевского и По; «амбивалентное родство» трех авторов для Ницше Скеллино объясняет «семантической неустойчивостью» понятий декаданса. В центре анализа – понятие «Космополис», идеальный город художника-декадента, а также сама концепция декаданса, как она представлена в работах и черновых заметках позднего Ницше. Ницше полагал, что «наша эпоха черпает энергию жизни из заката». «Закат, апогей зрелости – это обещание нового дня, восходящего света. Именно этот образ позволяет нам представлять Космополис Ницше, Бодлера, По и Достоевского в виде города золотой осени, что залит закатным светом и преисполнен обжигающей признательности, пережитой философом в Турине на пороге зимы его безумия».
Городская тема продолжена в главе Андрея Аствацатурова «Бодлеровский Париж в текстах Т.С. Элиота и Генри Миллера», правда, речь идет уже не об утопическом Космополисе, а о «парижском тексте» Бодлера и о том, как он трансформируется в творчестве двух представителей американского модернизма: Т.С. Элиота (ранние стихотворения, «Бесплодная земля») и Генри Миллера («Тропик Рака»). Элиот и Миллер, при всех различиях в их мировоззренческих и эстетических установках, создавая свои урбанистические пейзажи, ориентируются на Бодлера, иногда повторяя и развивая его линию, иногда вступая с ним в полемику. При этом Элиот «хотя и несколько корректирует этот текст, все же сохраняет классицистскую ориентированность Бодлера» и одновременно «старается усилить эффект имперсональности, лишая образы Бодлера их витальности и превращая “парижские картины” в семиотическую игру, в язык, порожденный другими языками, например языком Данте. Мир Элиота – это мир готовых слов, мир чистой литературы, замкнутой в своих пределах». Миллер, напротив, «размывает ясность и классицистичность» бодлеровского Парижа, увиденного сквозь призму поэзии Элиота. Его Париж, романтический и сюрреалистический, «рождает иллюзию подлинной изменчивой жизни, а не системы знаков».
В следующей главе, «“Порочный список”: По, Бодлер, Достоевский. В мире слов и недомолвок Борхеса», Мария Надъярных обращается к другой важнейшей фигуре литературы XX века – Хорхе Луису Борхесу, но, в отличие от Аствацатурова, работает не столько с литературным наследием писателя, сколько с его металитературными текстами, например интервью. В частности, она анализирует интервью Борхеса с аргентинским прозаиком Хуаном Хосе Саером (от 15 июня 1968 г.; опубликовано в 1988 г.), где, «как будто пытаясь (для самого себя?) подытожить динамику собственного отношения сразу ко всем трем ниспровергнутым в зрелости кумирам юности», Борхес единственный раз сближает имена По, Бодлера и Достоевского в рамках одного текста. Помещая интервью в контекст критических и художественных высказываний Борхеса (самое известное из последних – это, конечно же, рассказ о Пьере Менаре, символисте из Нима, страстном поклоннике По, «который породил Бодлера, который породил Малларме, который породил Валери, который породил Эдмона Тэста»), Надъярных приходит к следующему заключению: «для Борхеса эти три имени (в их гипотетическом единстве) воплощают некую идеальную комбинацию возможных вариантов стремления современной литературы к отклонениям от разнообразных норм», в частности к притягательной инаковости «“ужасного”, порочного, зловещего, рокового».
В главе Татьяны Боборыкиной «Фокус на бесконечность: По, Бодлер, Достоевский в пространстве Эйзенштейна» речь также идет о комбинациях имен По, Бодлера и Достоевского в эссе и заметках Сергея Эйзенштейна. Основным материалом анализа служит, однако, эссе Эйзенштейна, посвященное только Эдгару По, – «Психология композиции» (прямая аллюзия на знаменитую статью По, описывающую процесс создания «Ворона», «The Philosophy of Composition» – «Философия композиции», более известную как «Философия творчества»). Это эссе примечательно тем, что в нем Эйзенштейн «применяет метод “детективного расследования”» для того, чтобы «обнаружить скрытую интригу полемической статьи По». Используя дюпеновский дедуктивный метод, он занимается реконструкцией реконструкции и доказывает, что «статья По представляет собой не столько теоретическую работу, сколько еще одно художественное творение» – иными словами, вымысел. Сближение вымысла и интерпретации происходит в том числе за счет того, что Эйзенштейн сопоставляет «Философию композиции» с «Тайной Мари Роже», в частности говоря о том, что «анализ “Ворона” есть совершенно такая же пристальная “декомпозиция” средствами исследования прекрасного образа “совершенной Красоты” созданного им стихотворения», как разложение тела прекрасной Мари в детективном рассказе По.
Последнюю часть и книгу в целом завершает глава Федора Двинятина «По, Бодлер, Достоевский в работах Романа Якобсона». В своих статьях и заметках по поэтике и истории литературы Якобсон объединяет имена По и Бодлера в связи с их высказываниями о роли структуры, симметрии, «математики» в поэтическом тексте, а имена Бодлера и Достоевского – в контексте соотношения романтизма и реализма. Эти упоминания, в одном случае (Бодлер) систематические, в другом (По и особенно Достоевский) спорадические, тем не менее важны в контексте «общего credo Якобсона как исследователя поэтики». Как отмечает Двинятин, «в “мире Якобсона” имена По, Бодлера и Достоевского говорят в первую очередь о том, что поэзия пронизана многочисленными, глубокими, иногда намеренно нарушаемыми симметриями и регулярностями, а повествовательная проза нередко неправдоподобна, условна и фантастична».
Теоретическая рефлексия Якобсона позволяет подытожить размышления о трех национальных гениях, которых мы неизбежно видим сквозь призму художественных и критических прочтений. Избранная редакторами и авторами книги компаративистская стратегия в рамках сравнительного исследования языков и культур (По и Достоевский; По и Бодлер; По, Бодлер и Достоевский) ожидаемо повлекла за собой новые комбинации (По, Бодлер, Достоевский и Ницше; Бодлер, Элиот, Миллер; Бодлер, Георге, Рильке; По, Бодлер, Достоевский, Борхес и т. д.), что говорит не только о значимости каждого из наших персонажей, но и о важности завязавшихся между ними отношений «родства», «братства», преемственности, связи, диалога и спора для истории современной культуры.
Список литературы
Акройд П. Эдгар По. Сгоревшая жизнь. СПб., 2012.
Бодлер Ш. Цветы Зла / Изд. подгот. Н.И. Балашов и И.С. Поступальский. М., 1970.
Достоевский Ф.М. [Предисловие к публикации «Три рассказа Эдгара Поэ»] // Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: В 15 т. СПб., 1993. Т. 11. С. 159 – 160.
Гроссман Дж. Д. Эдгар Аллан По в России: Легенда и литературное влияние / Пер. с англ. М.А. Шерешевской. СПб., 1998.
Лавров А.В. Символисты и другие: Статьи. Разыскания. Публикации. М., 2015. С. 346 – 387.
Николюкин А.Н. Жизнь и творчество Эдгара Аллана По (1809 – 1848) // По Э.А. Полное собрание рассказов / Изд. подгот. А.А. Елистратова и А.Н. Николюкин. М., 1970.
Сайт посольства США в России // http://russian.moscow.usembassy.gov.
Уракова А. Классик или герой? 100-летний юбилей По и его последствия // По Э.А. Новые материалы и исследования / Ред. – сост. В.И. Чередниченко. Краснодар, 2011.
Уракова А.П. Повесть о приключениях Эдгара Аллана По // Культ как феномен литературного процесса: автор, текст, образ / Под. ред. М.Ф. Надъярных и А.П. Ураковой. М., 2011. С. 244 – 261.
Фокин С.Л.Меланхолия национального гения, или О литературном национализме По, Бодлера, Достоевского // Фокин С.Л.Фигуры Достоевского во французской литературе XX века. СПб., 2013. С. 376 – 379.
Фокин С.Л. Пассажи: Этюды о Бодлере. СПб., 2011.
Фуко М. Ненормальные / Пер. с франц. и послесл. А.В. Шестакова. СПб., 2004.
Штахель К. Новейшая поэзия во Франции, в Италии и в Англии // Отечественные записки. 1856. Февраль. № 2. С. 1 – 21.
Bandy W.T. Baudelaire et Poe: une vue retrospective // RLC. 1967. Année 41. Avril – juin. P. 180 – 194.
Bandy W.T. Baudelaire et Poe: vers une nouvelle mise au point // Revue d’histoire littéraire de la France. 1967. Année 67. Avril – juin. P. 329 – 334.
Baudelaire Ch. Edgar Poe, sa vie, et ses ouvrages // Poe E. Œuvres en prose /Texte établi et annoté par Y. – G. Le Dantec. Paris, 1951.
Baudelaire Ch. Œuvres complètes. T. I / Ed. de Cl. Pichois. Paris, 1975.
Benjamin W. Charles Baudelaire. Un poète lyrique à l’apogée du capitalisme. Paris, 2002.
Bonaparte M. Edgar Poe. Sa vie – son œuvre. Étude analytique (T. 1 – 3). Paris, 1958.
Daniel J. M. [Obituary of Edgar A. Poe] // Richmond Semi-Weekly Examiner. Vol. II. № 98. October 12. 1849. P. 2. Cols. 2 – 3; www.eapoe.org/papers/misc1827/18491012.htm.
Delattre S. Les douzes heures noires. La nuit à Paris au XIX siècle. Paris, 2000.
Edgar Allan Poe: The Critical Heritage / Ed. J. Walker. London; New York, 1986.
Garrait-Bourrier A. Poe / Baudelaire: de la traduction au portrait liittéraire // Loxias. 2010. № 28; http://revel.unice.fr/loxias/index.html?id=6002.
Griswold R.W. Memoir of the Author // The Works of the Late Edgar Allan Poe. http://www.eapoe.org/papers/misc1827/18500004.htm.
Huet-Brichard M. – C. Sainte-Beuve a la lumiere de Baudelaire: «la pointe extreme du Kamtchatka romantique» // Revue d’histoire litteraire de la France 2001/2002 (Vol. 101). Р. 263 – 280.
Justin H. Avec Poe jusqu’au bout de la prose. Paris, 2009.
Kalifa D. Les bas-fonds. Histoire d’un imaginaire. Paris, 2013.
La civilisation du journal. Une histoire de la presse française au XIXe siècle / Sous la direction de D. Kalifa, Ph. Régnier, M. – È. Thérenty et A. Vaillant. Paris, 2011.
Lawrence D.H. Studies in Classic American Literature. New York, 1990.
Lombardo P. Edgar Poe et modernité: Breton, Barthes, Derrida, Blanchot. Birmingham, 1985.
McGann J. The Poet Edgar Allan Poe: Alien Angel. Cambridge, Mass., 2014.
Peeples S. The Afterlife of Edgar Allan Poe. New York, 2007.
Poe and the Remapping of Antebellum Print Culture / Eds. J.G. Kennedy, J. McGann. Louisiana, 2012.
Poe E.A. Complete Poems / Ed. T.O. Mabbott. Chicago, 1969.
Poe E.A. The Collected Works of Edgar Allan Poe. Vol. III / Ed. T.O. Mabbott. Cambridge, Mass., 1978.
Poe E.A. Marginalia. http://www.eapoe.org/works/misc/mar0148.htm.
Poe E.A. Memorandum [Autobiographical Note] // http://www.eapoe.org/works/harrison/jah01b18.htm.
Quinn A.H. Edgar Allan Poe: A Critical Biography. Baltimore, 1941.
Richard C. Le Démon de la perversité // Edgar Allan Poe écrivain / Textes réunis par A. Justin. Monpelier, 1990. Р. 239 – 255.
Richard C. Edgar A. Poe, journaliste et critique. Monpelier, 1978.
Romancing the Shadow: Poe and Race / Eds. J.G. Kennedy, L. Weissberg. New York, 2001.
The American Face of Edgar Allan Poe / Eds. S. Rosenheim, S. Rachman. Baltimore, 1999.
Urakova A. «The demon of space». Poe in St. Petersburg // Poe and Place / Ed. Ph.E. Phillips. New York (forthcoming).
Walter G. Enquête sur Edgar Allan Poe, poète américain. Paris, 1998.
Часть I
Голоса, пространства и фигуры современности
Демоны перверсии: По, Бодлер, Достоевский и новый субъект модернитета
Жан-Кристоф Вальта
В данной работе мы ставим перед собой задачу изучить треугольник, вершины которого образуют три текста: «Демон перверсии» Эдгара По («The Imp of the Perverse», «Бес противоречия» в каноническом русском переводе), «Дурной стекольщик» Шарля Бодлера и первая часть «Записок из подполья» Достоевского.
В каждом из трех этих текстов, как и в некоторых других произведениях наших авторов, встречается одна рекуррентная фигура, с различными вариациями у каждого. У По речь идет о преступнике, который сам себя изобличает; у Бодлера это персонаж скучающего парижского поэта, который развлекается, издеваясь над невинным стекольщиком; у Достоевского это подпольный парадоксалист, развивающий собственную теорию свободы, которая идет вразрез со всякого рода детерминизмом. В общем и целом следует полагать, что три писателя ценой глубоких личных переживаний и страданий разрабатывают в творческом опыте некую фигуру нового литературного субъекта, отличающегося уже не идентичностью себе и не внутренней связностью, а непредсказуемостью и противоречивостью. Эта фигура порождена рапсодическим, остроконтрастным сознанием, пронизанным «таинственными влечениями» той стихии, за которой в то время еще не закрепилось название «бессознательное».
Интертекст
Не приходится сомневаться, что эти схождения объясняются наличием определенных интертекстуальных связей: общеизвестно, что рассказ «The Imp of the Perverse» был переведен Бодлером, который к тому же представил его истолкование в своих «Новых заметках об Эдгаре По»; как считается, перевод стал прототекстом «Дурного стекольщика». И хотя «Демон перверсии» не входит в триаду рассказов По, опубликованных Достоевским в журнале «Время», где он, кроме того, попытался определить характер фантастического в поэтике американского писателя, будущий автор романа «Бесы», название которого иногда переводится на французский как «Демоны», отлично знал тексты «Сердце-обличитель» и «Черный кот», содержащие рассуждение о духе перверсии, каковое – можно предположить – и легло в основу некоторых умозаключений человека из подполья:
И вот тогда явился, будто мне на бесповоротную и конечную погибель, дух ПЕРВЕРСИИ. Дух этот философия совершенно не принимает во внимание. Однако, подобно тому как я уверен в существовании собственной души, я могу полагать, что перверсия является одним из первичных импульсов человеческого сердца; одной из изначальных и неделимых способностей или чувствований, задающих направленность характеру человека. Кто не ловил себя сотни раз на поступке глупом или пустом, совершаемом по той только причине, что сам понимал, что не должен этого делать? Разве нет в нас, несмотря на главенство способности суждения, постоянного влечения к тому, чтобы нарушить закон, просто потому, что мы понимаем, что это – закон?[55]55
Здесь перевод выполнен с учетом французского перевода Бодлера; собственно, речь идет о переводе перевода для научных целей. Ср. канонический русский перевод В.В. Рогова: «А там уж взыграл на полную и безвозвратную мою погибель бес противоречия. Философия совершенно игнорирует это явление. Я же скорее усомнюсь, есть ли у меня душа, чем в том, что потребность перечить заложена в нашем сердце от природы – одна из тех первозданных и самых неотъемлемых наших особенностей, в которых начало начал всего поведения человеческого. Кто же не ловил себя сотни раз на подлости или глупости, на которые нас подбило только сознание, что так поступать не положено. Разве не тянет нас то и дело, рассудку вопреки, глумиться над законом, единственно потому, что мы сознаем его непреложность?» (По Э.А. Черный кот. С. 453 – 454). См. также оригинал: «And then came, as if to my final and irrevocable overthrow, the spirit of PERVERSENESS. Of this spirit philosophy takes no account. Yet I am not more sure that my soul lives, than I am that perverseness is one of the primitive impulses of the human heart – one of the indivisible primary faculties, or sentiments, which give direction to the character of Man. Who has not, a hundred times, found himself committing a vile or a silly action, for no other reason than because he knows he should not? Have we not a perpetual inclination, in the teeth of our best judgment, to violate that which is Law, merely because we understand it to be such?» (Poe E.A. The Black Cat. P. 852). – Прим. перев.
[Закрыть]
От этой общей исходной точки Бодлер и Достоевский идут каждый своим путем, предлагая собственные вариации на темы духа перверсии, соответствующие как внутренним убеждениям, так и творческим задачам писателей. Вместе с тем можно попытаться обнаружить связку текстов на основе предшествующих литературных традиций: противоречивый, непредсказуемый характер человеческого существа является весьма давним литературным топосом, общим местом, восходящим к античной литературе (Гораций и Сенека, Лукреций и Овидий) («Video meliora proboque deteriora sequor»[56]56
«Благое вижу, хвалю, но к дурному влекусь» (Овидий. Метаморфозы / Пер. С.В. Шервинского. VII. 20 – 21).
[Закрыть]) и подхваченным французскими классическими моралистами. В этом плане можно отметить, что одна мысль Паскаля непосредственно предвосхищает известную метафору фортепьянных клавиш у Достоевского: «Нам кажется, что, касаясь человека, мы касаемся самых обычных фортепьянных клавиш. Эти клавиши касаются истины; но они причудливы, изменчивы, непостоянны…»[57]57
Pascal B. Pensées. P. 83 (fr. 111). Ср.: «Мало того: тогда, говорите вы, сама наука научит человека (хоть это уж и роскошь, по-моему), что ни воли, ни каприза на самом-то деле у него и нет, да и никогда не бывало, а что он сам не более, как нечто вроде фортепьянной клавиши или органного штифтика…» (Достоевский Ф.М. Записки из подполья. Т. 4. С. 486).
[Закрыть].
Очевидно, что определение человека через его прихоти сближает нас с темой фантастического. Различие между Причудливым и Чудесным, представленное в известном «ночном этюде» Э.Т.А. Гофмана «Пустой дом», судя по всему внимательно прочитанном нашими писателями, может рассматриваться как один из источников, откуда они черпают некоторые идеи. «Этюд» начинается с рассуждения о присущей отдельным людям способности иметь чудесные видения, существование которых никто не подвергает сомнению. Один из персонажей, Теодор, определяет различие, маленький нюанс между Wunderlich (чудно́е) и Wunderbar (чудесное), представляя своеобразные категории, которые позволяют мыслить феномены, выходящие за рамки обыденного, или обыкновенного:
Неоспоримо, однако же, что чудно́е, по-видимому, из чудесного проистекает, только иногда от нас сокрыто то древо чудесного, от которого простираются видимые нами ветви чудно́го, со всеми своими отпрысками и листьями. В приключении, о котором я вам поведаю, переплелось чудно́е и чудесное, и, сдается мне, в необыкновенно ужасающем виде[58]58
Гофман Э.Т.А. Пустой дом / Пер. В. Лангера С. 163. Ср. оригинал: «Aber gewiß ist es, daß das anscheinend Wunderliche aus dem Wunderbaren sproßt, und daß wir nur oft den wunderbaren Stamm nicht sehen, aus dem die wunderlichen Zweige mit Blättern und Blüten hervorsprossen. In dem Abenteuer, das ich euch mitteilen will, mischt sich beides, das Wunderliche und Wunderbare, auf, wie mich dünkt, recht schauerliche Weise».
[Закрыть].
Очевидно, что «чудесное» так или иначе соотносится со сверхъестественным и через эту категорию соотносится с фантастическим. Для нас здесь, однако, несколько интереснее именно «чудно́е», или причудливое (Wunderlich): это понятие, которое на французский язык часто переводится словом «странное», может восприниматься как некое ощущение или даже ментальная расположенность. Так или иначе, речь идет о побуждениях сознания или желания, «которым рассудок не находит объяснения», что равнозначно признанию существования в человеке бессознательных порывов, влечений, навязчивых идей, толкающих нас на поступки против нашей воли. Так, для Теодора, которого можно счесть прототипом «Человека толпы» По или поэта-фланера в «Малых поэмах в прозе» и «Парижских картинах», «причудливое» выражается в присущей ему «страсти бродить в одиночестве по улицам, останавливаться перед каждой выставленной в витрине картиной, перед каждой афишей или разглядывать прохожих, мысленно угадывая их будущее»[59]59
Гофман Э.Т.А. Пустой дом. С. 164.
[Закрыть]. Таким образом, наметив стороны и некоторые литературные основания нашего треугольника, мы можем утверждать, что три писателя являются продолжателями определенных интуиций литературного романтизма, относящихся как к поэтике фантастического, так и к этике нового субъекта современности, или, если воспользоваться понятием, систематически разработанным Бодлером, модернитета – нового состояния сознания, определяющегося в отношении целого ряда аспектов человеческого, которые мы рассмотрим в последующем изложении.
Отношение к наукам
Важно, что новое сознание сразу определяется принципиальной непрозрачностью, темнотой: для По речь идет о неодолимой склонности человека поступать себе во вред или во зло[60]60
По Э.А. Бес противоречия / Пер. В.В. Рогова. С. 617.
[Закрыть]; по словам Бодлера, персонаж «Дурного стекольщика» движим «загадочным и неведомым побуждением», в силу которого он совершает «самые нелепые и, возможно, самые опасные поступки»[61]61
Baudelaire Ch. Le mauvais vitrier. P. 285.
[Закрыть]. Не менее парадоксальную формулу предлагает Достоевский, утверждая устами подпольного человека: «хотеть же можно и против собственной выгоды, а иногда и положительно должно (это уж моя идея)»[62]62
Достоевский Ф.М. Записки из подполья. Т. 4. С. 469.
[Закрыть].
Мало того, что неведомый феномен выходит за рамки рациональных законов, которые обнаруживают тем самым свою недостаточность; он как будто призван эти законы опровергнуть, более того – должен воплотить ту точку, где раскрывается тщетность усилий разума, который выставляется в виде своеобразной «ложной логики», и где ставятся под вопрос границы определения следующего такой логике человека. Человек из подполья приравнивает ее силу к «какой-нибудь одной двадцатой доли всей моей способности жить». Словом, Достоевский как критик романтизма предлагает такую концепцию человека, которая во многом остается романтической. То же самое можно сказать о По и Бодлере.
Однако в каждом из трех текстов изображение перверсивного импульса сопровождается своеобразным эпистемологическим рассуждением, призванным не только определить сущность феномена, но и представить условия его познания и понимания. Вот почему следует полагать, что наука здесь не просто отвергается, но опровергается путем указания на то, что у нее нет соответствующего метода для объяснения необъяснимого – нет того, что Бодлер, заметно усиливая в своем переводе буквальный смысл английского словосочетания «the imp of the perverse», называет «Демоном перверсии» («Le Démon de la perversivité»). Сам По настаивает: перверсия представляет собой новый феномен в том плане, что он пока не исследован, неизвестен современной науке, в частности одной из самых популярных наук эпохи позитивизма – френологии. Действительно, несмотря на то что френология основана на наблюдении, она оперирует исключительно априорными категориями, всецело подчиняясь принципам детерминизма, сами основания которого остаются исключительно гипотетическими. Можно сказать, что По делает новый шаг в психологии, включив в наблюдение за человеком метод самонаблюдения: рассказчик По оказывается в этой перспективе предшественником психологической революции второй половины XIX века. Тем не менее даже выбор слова «perverse» («перверсия»), о котором говорится, что ему отдано предпочтение «за неимением более характерного понятия», обнаруживает, что американский писатель не столько предлагает альтернативную эпистему психологии, сколько сосредотачивается на области морали, в принципе отвергающей идею отклонения или неприятия нормы, и области фантастического или даже волшебного и демонического («imp», особенно в значениях little demon or devil, malignant spirit, imp of Satan).
Характерно, что Бодлер также время от времени обращается к научному дискурсу, но почти всегда ставит его под вопрос. Если ему случается говорить о пагубном «побуждении» или «импульсе», он отказывается видеть в них медицинский симптом «истерии» – прежде всего из-за того, что признает, подобно Флоберу, истеричность своей собственной творческой личности, предвосхищая, таким образом, открытие психиатрами мужской формы истерии, считавшейся в то время исключительно женской болезнью. Более того, поэт полагает, что истерия характерна для «гиперчувствительности художника»[63]63
Подробнее об этом: Brogniez L., Eidenbenz E. Les mots de l’hysterie // Pulsions: Art et deraison. Waterloo, 2012.
[Закрыть]. Вот почему поэзии более свойственно это настроение – «истерическое, согласно медикам, сатаническое, согласно тем, кто мыслит лучше медиков»[64]64
Baudelaire Ch. Le mauvais vitrier. P. 286.
[Закрыть]. Вместе с тем вполне очевидно, что поэт «Цветов Зла» был движим желанием перевести вопрос о «неведомом импульсе» на метафизический уровень, используя для его характеристики в «Дурном стекольщике» емкое понятие «Démons malicieux» («хитроумные Демоны»), которое соотносилось в его сознании и с демоном Сократа, и со «злокозненным духом» Декарта, и с литературным образом Сатаны. Тем не менее, несмотря на то что последний смысловой акцент прямо отсылал к барочной или романтической фигуре властителя темных сил, теологические и философские коннотации понятия, в сознании поэта соотносившиеся с важной для него идеей первородного греха, свидетельствуют о более притязательном мыслительном начинании Бодлера, который, кроме того, не мог остаться равнодушным к тому смыслу слова «imp», что связан с идеей детства и озорства, с манией разрушения. В этом отношении можно утверждать, что аллегорическое воплощение пагубного влечения в «Дурном стекольщике» несколько ближе к фигуре трикстера, мифологического озорного ловкача-малыша – не Беса, а бесенка, не Дьявола, а дьяволенка. Словом, вслед за По Бодлер умаляет возвеличенную романтической литературой фигуру Сатаны и вместе с тем переводит область темных сил в более приземленные сферы человеческого существования. В общем той же логике умаления дьявола следует и Достоевский, показывая черта из «Братьев Карамазовых» в вышедшем из моды[65]65
Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Т. 10. С. 140. Ср. работу Э.Ф. Осиповой в наст. изд. (с. 165 – 175).
[Закрыть] платье. Мистификация, устроенная персонажем Бодлера жалкому городскому стекольщику, бьет одновременно и по образу маленького человека, которому умиляется позднеромантическая литература (В. Гюго), и по самому́ праздному, изнывающему от лени мистификатору, воображающему себя орудием дьявольских сил: его поступок в конечном счете нелеп и постыден. Вместо того чтобы «совершить что-то великое, блистательный поступок», новоявленный «безработный Геракл» просто впадает в безумие. Разумеется, здесь нет и тени того прославления насилия и сатанического бунта, которым «грешил» черный романтизм и сам Бодлер в «Цветах Зла»: вся пьеса выливается в низкопробный фарс, не чуждый некоторым выходкам подпольного человека.
Тем не менее споры человека из подполья с точными науками и тезисами утилитаристской философии выводят персонажа Достоевского на несколько иную и гораздо более скользкую позицию, нежели те, что занимали По и Бодлер. Вместо дьявольских или демонических фигур, к которым прибегают авторы «Демона перверсии» и «Дурного стекольщика» и которые в определенном смысле обращают субъекта письма в объект «бесноватости», одержимости, с которой он не способен справиться, подпольный парадоксалист видит в пагубном импульсе собственно человеческое качество, более того, рассматривает его как сущностное свойство человечности в человеке – создании противоречивом, но свободном. Человек как таковой утверждается здесь через свою неустранимую индивидуальность: «Я верю в это, я отвечаю за это, потому что ведь все дело-то человеческое, кажется, и действительно в том только и состоит, чтоб человек поминутно доказывал себе, что он человек, а не штифтик!»[66]66
Достоевский Ф. М. Записки из подполья. Т. 4. С. 474.
[Закрыть] В этом заключено темное зерно самой человечности, которое прорастает как в «Бесе противоречия», так и в «Демоне перверсии», несмотря на то что рост этот сопряжен с опытом безумия как такового – «пагубным фантастическим элементом».
Отношение к психологии
Перекладывая этот принцип внутрь самого человека, Достоевский указывает в то же время на некую стратификацию внутри субъекта: «…натура человеческая действует вся целиком, всем, что в ней есть, сознательно и бессознательно»[67]67
Там же. С. 471.
[Закрыть]. Ключевое слово будущей науки произнесено: перверсивные влечения отсылают непосредственно к психоаналитическому понятию бессознательного, которое Бодлер в своей поэме скорее отвергает.
Бессознательное, о котором говорит Достоевский, часто соотносится с концепциями немецкого живописца и мыслителя Карла-Густава Каруса (1789 – 1869), а именно с его работой «Психея. К истории развития понятия души» (Psyche. Zur Entwicklungsgeschichte der Seele, 1846, 1851), которую Достоевский намеревался перевести на русский язык в 1850-х гг. Отметим при этом, что определение бессознательного, предложенное Карусом, существенно отличается от того, что мы подразумеваем под ним сегодня, и в общем соответствует предпосылкам и задачам немецкой романтической Naturphilosophie, в особенности концепции Шеллинга[68]68
Gibian G. C.G. Carus’ Psyche and Dostoevsky. Р. 371 – 382.
[Закрыть]. В этой концепции бессознательное приравнивается к природе в органическом развитии; если использовать эзотерический термин, это anima mundi, если терминологию Спинозы – natura naturans: во всяком случае, речь идет о начале, действующем в теле человеческом; оно, в сущности, позитивное, поскольку сознание не конфликтует с ним. Человек из подполья радикализирует эту теорию, которая сама по себе остается романтической: он превращает в болезнь само сознание, при этом пагубные, разрушительные влечения являются одновременно и симптомами болезни, и внутренним движением, в котором – одновременно и катастрофично, и витально – утверждается глубинная природа человека. Словом, утверждается природа зла, которую можно «излечить», как можно думать, несмотря на подвергшиеся цензуре части текста Достоевского, только в том случае – и именно здесь мы соприкасаемся с теологией, – когда человек будет способен по-христиански любить других.
Вместе с тем есть определенные аспекты бессознательного, к творческой работе с которыми По, Бодлер и Достоевский подходят аналогичным образом: речь идет о понятиях садизма и мазохизма. Здесь можно вспомнить, что Достоевский вставляет в рассуждения подпольного человека упоминание о Клеопатре, которая будто бы «любила втыкать золотые булавки в груди своих невольниц и находила наслаждение в их криках и корчах»[69]69
Достоевский Ф.М. Записки из подполья. Т. 4. С. 469.
[Закрыть]. Более того, философ из подполья доходит до мысли, будто вся цивилизация выливается в то, что привносит особую изощренность и утонченность в искусство причинения страданий другому человеку:
Вместе с тем, с точки зрения философа из подполья, в современном человеке преобладает скорее мазохизм, представление которого в тексте Достоевского принимает формы вопросов актуальной антропологии: «Ведь, может быть, человек любит не одно благоденствие? Может быть, он ровно настолько же любит страдание?»[71]71
Там же. С. 476.
[Закрыть]









































