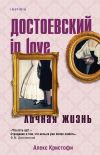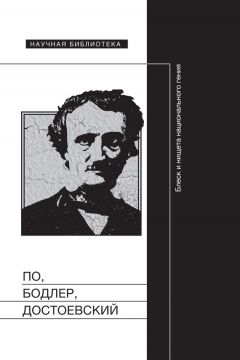
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Одним из следствий восприятия По сквозь призму выступлений Прайса стало то, что голоса персонажей По отождествляются с его собственным голосом; по замечанию Марка Неймейера, «Прайс, как никто другой, до сих пор очень тесно связан с образом По в кино и с его популярным образом»[236]236
Neimeyer M. Poe and Popular Culture. P. 217.
[Закрыть]. Мы, однако, должны иметь в виду избирательность такого переноса. Голос По для популярного зрителя фильмов Прайса – это отнюдь не голос рассказчиков «Падения дома Ашеров» и «Маски Красной смерти», но голос эксцентричных персонажей этих рассказов, Родерика и Просперо, который, без сомнения, отличается причудливыми, женственными тональностями (queer tonalities). Именно эти персонажи начинают говорить за По. Есть и другое следствие чтения По в свете исполнения Прайса – наше понимание сущности насилия в его рассказах меняется в той мере, в какой насилие и безумие превращаются в акт символического отмщения. Насилие утрачивает связь с безумием, становясь и правда, пожалуй, манерным выражением свойственного жанру пристрастия к ужасному и готическому, своего рода игрой, фиглярством. Беншофф, рассуждая о своем увлечении Прайсом, заключает:
Я так до сих пор и не поддался искушению убить обидчика-гомофоба, хотя мне не раз хотелось это сделать. Тем не менее квир-дивы Прайса (Price’s male queer-divas) продолжают меня вдохновлять. Как и большинство див, они указывают на лучший, более утонченный жизненный опыт – мир, где гомоэротическое (queer) искусство, остроумие и высокий стиль торжествуют над гетеронормативной банальностью[237]237
Benshoff H.M. Vincent Price and Me: Imagining the Queer Male Diva. P. 148.
[Закрыть].
Подобная интерпретация Прайса переводит насилие его персонажей в символический план. Их угрозы, как и угрозы Беншофа отомстить гомофобам, мы уже не воспринимаем всерьез. Скорее это способ сублимации социального гнева.
Если маниакальное поведение персонажей По интерпретировать как художественную фантазию о мести, в которой высокая гомосексуальная культура наказывает за банальность и гетеронормативность, каким образом в таком случае мы воспринимаем – или, точнее, каким образом мы принимаем – присущее его рассказам насилие? В самом ли деле безумие его персонажей – это манерная игра, форма самопародии (в чем нас хотят убедить Блум и Липор)? Сколько в голосе По от самого По и сколько от Прайса? Сколько в нем гениальности и сколько вранья?[238]238
Аллюзия к знаменитой эпиграмме Дж. Р. Лоуэлла, первые строки которой звучат так: «There comes Poe, with the raven, like Barnaby Rudge, / Three-fifths of him genius and two-fifths sheer fudge» («А вот и По с вороном, как Барнеби Радж, / на три пятых он состоит из гениальности, на две пятых из сущего вранья»). См.: Lowell J.R. Fables for Critics (1848). Цит. по: Walker I.M. Edgar Allan Poe. The Critical Heritage. New York, 1997. P. 17. – Прим. перев.
[Закрыть] И как мы должны, в контексте приведенных мнений, относиться к точке зрения Кинга? Кого же все-таки По изобразил в «Сердце-обличителе» – социопата или манерную диву? Как следует внимать социопатам По – с иронией или страхом? И, наконец, каким образом анализировать позы и позерство По в рамках этих или любых других критических позиций?
2. По, Достоевский и материальность
Возможный способ анализа обозначенного выше критического зазора – посмотреть на рассказы По из другого контекста, в частности обратившись к его рецепции в России XIX века. Каким образом социопатический голос По мог быть воспринят при переводе не просто на другой язык, но на язык другой культуры и другой литературной традиции? Пример Достоевского, которого, пожалуй, больше, чем кого-либо из писателей, за исключением Владимира Набокова, волновала фигура социопата, как нельзя здесь уместен. В одном английском некрологе Достоевскому (1881) было сказано:
У него не было равных в исследовании чувства, правда, неизменно чувства с оттенком патологии (with a morbid tinge)… мрачный колорит его историй и чары, которыми он завораживает читателя, весьма напоминают Эдгара По[239]239
Цитируется у Джоан Д. Гроссман в: Grossman J.D. Edgar Allan Poe in Russia: A Study in Legend and Literary Influence. P. 197. (Издание этой книги есть на рус. яз.: Гроссман Дж. Д. Эдгар По в России. Легенда и литературное влияние. СПб., 1998. – Прим. перев.) Обзор русских комментариев к заметке Достоевского о По показывает, что на нее часто ссылаются, но редко ее анализируют. Из русских исследований на эту тему см.: Николюкин А.Н. Взаимосвязи литератур России и США: Тургенев, Толстой, Достоевский и Америка. М., 1981.
[Закрыть].
Среди главных героев романов самого Достоевского немало социопатов: социопат с моментами просветления Раскольников; двусмысленный в моральном отношении, склонный к суициду Ставрогин; движимый патологической ревностью Рогожин; сошедший с ума Иван Карамазов; страдающий печенью безымянный Человек из Подполья, чья болезненная желчность – телесный и социальный недуг одновременно. Эти персонажи (и десятки других) демонстрируют психопатологии, имеющие ярко выраженный социальный характер.
Уместнее всего было бы говорить о влиянии По на Достоевского в более общем контексте становления литературной современности с ее психо– и социопатологическими голосами – становления, в котором принимало участие целое созвездие художников и которое нашло отражение в самых различных национальных и транснациональных дискурсах. В то же время можно говорить и о прямом влиянии По на Достоевского (в частности, об этом писали такие американские исследователи, как Джоан Д. Гроссман и Джозеф Франк). Достоевский, по всей вероятности, познакомился с творчеством По благодаря переводам Шарля Бодлера уже в конце 1840-х гг., однако свидетельство его интереса к По появляется только в 1861-м, когда по возвращении в Петербург он вместе с братом начал работу над журналом «Время». В этом же году (в январском номере) «Время» опубликовало переводы «Сердца-обличителя», «Черного кота» и «Черта на колокольне»[240]240
Три эти рассказа были переведены Дмитрием Михайловским (1828 – 1905), чиновником и поэтом, переводчиком таких английских авторов, как Байрон, Лонгфелло и Шекспир, и таких французских авторов, как Бодлер и Сюлли-Прюдом. Традиционно считается, что он переводил По с французского, однако Эльвира Осипова высказала иное мнение: «…опыт Михайловского в переводе англоязычных писателей… позволяет нам считать, что он работал с английскими источниками текстов По, а не с их французскими переложениями, в соответствии с обычной практикой того времени» (Osipova E. The History of Poe’s Translations in Russia. P. 66). См. также главу Осиповой в наст. изд. (с. 165 – 175). Cергей Фокин доказывает верность данной гипотезы, сопоставляя русский и французский переводы рассказа с оригиналом, – см. его главу в наст. изд. (с. 267 – 301).
[Закрыть], а позднее – первые тринадцать глав «Повести о приключениях Артура Гордона Пима». Единственным прямым откликом на творчество По стало короткое вступительное слово Достоевского в январском номере; по словам одного советского исследователя, это была «первая серьезная и проницательная оценка американского писателя в России»[241]241
Frank J. Dostoevsky: The Stir of Liberation 1860 – 1865. P. 74.
[Закрыть].
Англоязычные критики, анализируя эту связь, в основном обращали внимание на то, что Достоевский предпочел рассказам По романтические повести Э.Т.А. Гофмана: по мнению Достоевского, По уступает Гофману, правда не как писатель, но как поэт. Достоевский основывал свое суждение о По на идее присущей его творчеству «материальности», понимая под материальностью осязательность, яркость фантазий По или, по его собственному выражению, «силу подробностей». «В Поэ если и есть фантастичность, – объясняет Достоевский, – то какая-то материальная, если б только можно было так выразиться. Видно, что он вполне американец, даже в самых фантастических своих произведениях»[242]242
Достоевский Ф.М. [Предисловие к публикации] «Три рассказа Эдгара Поэ». Т. 11. С. 161.
[Закрыть]. Мы не знаем достоверно, был ли Достоевский знаком с «Эврикой» или с «Месмерическим откровением», но рассуждение По о духе как о «бесконечно разреженной материи» представляется созвучным взглядам русского писателя. Со времен романтизма литература традиционно противопоставлялась науке как конкретное – абстрактному. По словам Хазарда Адамса, романтические критики «считали, что литература была конкретной и индивидуализированной, а наука – обобщенной и абстрактной»[243]243
Adams H. Criticism, Politics, and History: The Matter of Yeats. P. 164.
[Закрыть]. И хотя это скорее тенденция, нежели прямая оппозиция (разумеется, достаточно много абстрактного можно найти в литературе, а конкретного – в научных текстах), сложное взаимодействие По с научной мыслью, философией науки и ее практикой имело непосредственное отношение к обыгрыванию этой оппозиции[244]244
О конкретных деталях, играющих основополагающую роль в поэзии и космологии По, а также в развитии его центральных эстетических категорий – гротеска и арабески, см.: Rachman S. From «Al Aaraaf» to the Universe of Stars: Poe, the Arabesque, and Cosmology // Edgar Allan Poe Review. 2014. № 15. P. 1 – 19.
[Закрыть]. Для Достоевского способность По заставить нас ясно видеть и осязать его фантазии и есть то, что приводит к единству эффекта или впечатления: читатель «до такой степени ярко [видит] все подробности представленного [ему] образа или события, что наконец как будто [убеждается] в его возможности, действительности, тогда как событие это или почти совсем невозможно, или еще никогда не случалось на свете»[245]245
Достоевский Ф.М. [Предисловие к публикации] «Три рассказа Эдгара Поэ». СС. Т. 11. С. 161.
[Закрыть].
Многие европейские критики, опираясь на авторитетные мнения, говорили об американской культуре как о материальной по преимуществу; Достоевский же не только увидел в материальности специфически национальную особенность По, но и выразил глубокую озабоченность по поводу ее художественной легитимности. Он полагал, что творчество По – форма литературного психоза; у него галлюцинаторная и, возможно, психоделическая природа в том смысле, что оно способно создать иллюзию совершенно правдоподобной альтернативной реальности. Достоевского тревожило, что фантазии По, независимо от того, имеют они отношение к реальности или нет, убеждают читателя в своей абсолютной реальности. Именно галлюцинаторные элементы произведений По в наибольшей степени конкретны, и голос, призванный эту конкретность передать, неизбежно дрожит и осекается (is inevitably unstable) перед лицом этой материальности.
В заключение предположим, что Достоевский, возможно, учел в своем творчестве урок По. Известно, что черновик «Преступления и наказания» представляет собой повествование от первого лица, нечто подобное тому, что мы встречаем в «Сердце-обличителе»[246]246
Как заметил А.Н. Николюкин, стилистически он напоминает рассказы-признания По, то есть прежде всего опубликованные во «Времени» «Сердце-обличитель» и «Черный кот». См. об этом: Osipova E. The History of Poe’s Translations in Russia. P. 67.
[Закрыть], но Достоевский оставил эту нарративную стратегию ради повествования от третьего лица, что дало ему возможность в какой-то мере контролировать социопатический элемент романа. Однако отказавшись от этой модели в истории Раскольникова, он сохранил механизм, позволивший ему оформить собственный вымысел так же, как, по его представлению, было устроено воображение По. В «Преступлении и наказании» сон Раскольникова о страшном избиении и смерти старой клячи предваряется следующим образом:
В болезненном состоянии сны отличаются часто необыкновенною выпуклостию, яркостью и чрезвычайным сходством с действительностью. Слагается иногда картина чудовищная, но обстановка и весь процесс всего представления бывают при этом до того вероятны и с такими тонкими, неожиданными, но художественно соответствующими всей полноте картины подробностями, что их и не выдумать наяву этому же самому сновидцу, будь он такой же художник, как Пушкин или Тургенев. Такие сны, болезненные сны, всегда долго помнятся и производят сильное впечатление на расстроенный и уже возбужденный организм человека[247]247
Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. СС. Т. 5. С. 53 – 54.
[Закрыть].
Именно такое галлюцинаторное «сходство с действительностью» и силу «подробностей» Достоевский приписывал фантазиям Эдгара По. Представляется важным, что он отказывает двум великим русским писателям – Пушкину и Тургеневу – в способности «выдумать наяву» нечто подобное. Возможно, это скрытый способ признания того, что для описания социопатии Раскольникова потребовался новый, неизвестный русской литературе метод. Художественный успех «Преступления и наказания» был обязан, таким образом, не столько русской литературной традиции per se, сколько чужеродному элементу, лежащему вне этой модели, элементу, который Достоевский обнаружил в рассказах По.
Благодаря предложенному Достоевским концепту материальности или осязаемости можно увидеть, что странный (queer) голос По в других культурных и национальных контекстах может звучать как голос психоза, в котором реальность, сколь бы галлюцинаторной или невероятной она ни была, сохраняет всю силу наглядной убедительности. Ко времени написания «Братьев Карамазовых» этот навеянный творчеством По концепт стал эстетическим заветом для Достоевского. В июне 1880 года он пишет певице, композитору и будущей писательнице Юлии Абазе: «Фантастическое должно до того соприкасаться с реальным, что вы должны почти поверить ему». Джеймс Р. Скэнлон видит в данном высказывании Достоевского его приверженность реализму: реальность должна ограничить фантастическое, положить ему предел[248]248
Достоевский Ф.М. Письмо к Ю.Ф. Абазе от 15 июня 1880 г. ПСС. Т. 30. С. 192; Scanlon J.P. Dostoevsky the Thinker. P. 133.
[Закрыть]. Однако в акцентированном Достоевским слове «почти» слышится сомнение, как если бы он колебался между верой и недоверием. Верим ли мы в процессе чтения, а потом отвергаем правдоподобную иллюзию, освободившись от чар читаемой прозы? Или мы сразу решаем, что не будем верить, а потом сомневаемся в собственном недоверии? Фантастическое и реальное переплетены таким образом, что читатель каждый раз переживает смешанное чувство доверия и сомнения. Как мы увидели, это чувство свойственно не только Достоевскому как читателю По, но и современным критикам, чьи разногласия воспроизводят одни и те же реакции по отношению к его текстам. Слушая голос социопатов По, мы обнаруживаем нераздельно связанные скептицизм и доверчивость, лежащие в самой основе современной литературной практики.
Перевод с английского Александры Ураковой
Список литературы
Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: В 15 т. Л., 1989. Т. 5, 11.
Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1985. Т. 30.
Adams H. Criticism, Politics, and History: The Matter of Yeats // The Georgia Review. 1970. № 24. P. 158 – 182.
Benshoff H.M. Vincent Price and Me: Imagining the Queer Male Diva // Camera Obscura. 2008. № 67. P. 146 – 149.
Derrida J. Writing and Difference. London; New York, 2001.
Frank J. Dostoevsky: The Stir of Liberation 1860 – 1865. Princeton, 1986.
Greven D. «The Whole Numerous Race of the Melancholy Among Men»: Mourning, Hypocrisy, and Same-Sex Desire in Poe’s Narrative of Arthur Gordon Pym // Poe Studies. 2008. № 41. P. 31 – 63.
Grossman J.D. Edgar Allan Poe in Russia: A Study in Legend and Literary Influence. Wurzburg, 1983.
Ketterer D. The Rationale of Deception in Poe. Baton Rouge, 1979.
King S. The Genius of «The Tell-Tale Heart» // In the Shadow of the Master / Ed. M. Connelly. New York, 2009. P. 189 – 190.
Lepore J. Humbug: Edgar Allan Poe and the Economy of Horror // New Yorker. 2009. April 27. P. 82 – 88.
Leverenz D. Poe and Gentry Virginia // The American Face of Edgar Allan Poe / Ed. S. Rosenheim and S. Rachman. Baltimore, 1995.
McCallum E.L. The «queer limits» in the Modern Gothic // The Cambridge Companion to the Modern Gothic / Ed. J.E. Hogle. Cambridge, 2014. P. 71 – 86.
Modern Critical Views: Edgar Allan Poe / Ed. H. Bloom. New York, 1985.
Neimeyer M. Poe and Popular Culture // The Cambridge Companion to Edgar Allan Poe / Ed. K.J. Hayes. Cambridge, 2002.
Oates J.C. Wild Nights! New York, 2008.
Osipova E. The History of Poe Translations in Russia // Translated Poe / Eds. E. Esplin and M. Vale de Gato. Bethlehem, 2014. Р. 65 – 73.
Person L.S. Queer Poe: The Tell-Tale Heart of His Fiction // Poe Studies. 2008. № 41. P. 7 – 30.
Poe E.A. Essays and Reviews / Ed. G.R. Thompson. New York, 1984.
Poe E.A. Nathaniel Hawthorne’s Twice-Told Tales // Graham’s Magazine. 1842. № 20. P. 298 – 300.
Rachman S. From «Al Aaraaf» to the Universe of Stars: Poe, the Arabesque, and Cosmology // Edgar Allan Poe Review. 2014. № 15. P. 1 – 19.
Scanlon J.P. Dostoevsky the Thinker. Ithaca, 2002. P. 133.
The Purloined Poe: Lacan, Derrida and Psychoanalytic Reading / J.P. Muller, W.J. Richardson (eds.). Baltimore, 1988.
Thompson G.R. Poe’s Fiction: Romantic Irony in the Gothic Tales. Madison, 1973. P. 10.
Urakova A. «The Purloined Letter» in the Gift Book: Reading Poe in a Contemporary Context // Nineteenth-Century Literature. 2009. № 64. P. 323 – 346.
От «новых необычайных историй» к «запискам из подполья»: писать от первого лица
Виржини Телье
«Записки из подполья» являются переходным произведением как в отношении манеры письма Ф.М. Достоевского, так и в отношении истории письма от первого лица. Этот текст, по единодушному мнению критики, действительно участвует в изобретении новой литературной формы, что замечает, к примеру, Жак Катто, подчеркивая: «“Записки из подполья” (1864) – главное произведение этого периода. Открывая новую манеру письма, этот текст вводит псевдо-я, которое вступает в диалог с воображаемыми собеседниками, включая чужое слово в свое высказывание»[249]249
Catteau J. Fiodor Dostoïevski. P. 982.
[Закрыть]. Это изобретение, предвещающее великие полифонические романы зрелого периода творчества Достоевского, восходит к приему, от которого он почти откажется впоследствии, а именно к повествованию от первого лица. Рассказчик «Записок из подполья» сам указывает на особенность своего начинания, ссылаясь на каноническую модель автобиографического письма – «Исповедь» Жан-Жака Руссо[250]250
См.: Dostoïevski F. Carnets du sous-sol. P. 116. «Замечу кстати: Гейне утверждает, что верные автобиографии почти невозможны, и человек сам о себе наверно налжет. По его мнению, Руссо, например, непременно налгал на себя в своей исповеди, и даже умышленно налгал, из тщеславия. Я уверен, что Гейне прав…» (Достоевский Ф.М. Записки из подполья. С. 480).
[Закрыть], от которой он тем не менее намеревается отойти. Так или иначе, эта новая форма является не из небытия, она вступает в диалог с предшествующими произведениями. Критика указывала на очевидную связь с «Записками сумасшедшего» Гоголя: сам выбор названия – «Записки из подполья» – является эксплицитной отсылкой, почти цитатой «Записок сумасшедшего». Не останавливаясь на этом очевидном сходстве, мы хотели бы наметить параллель с «Новыми необычайными историями» Эдгара По в переводе Бодлера 1857 г., который мог читать Достоевский в момент написания «Записок…». «Демон перверсии», «Черный кот», «Уильям Уилсон», «Человек толпы», «Сердце-обличитель» и «Береника» были объединены Бодлером в начале этого сборника в силу их тесного родства, во многом предопределенного, как нам кажется, повествовательным выбором самого По[251]251
Для удобства изложения мы говорим о «рассказах По», но работать будем с французским переводом, то есть в некоторой степени с текстом Бодлера.
[Закрыть].
В этом исследовании мы сосредотачиваемся преимущественно на проблеме литературного высказывания. Эта проблема породила множество критических работ как о Достоевском (как не вспомнить здесь работы М. Бахтина, на которые мы в большой степени опираемся?), так и о По (в частности, упомянем докторскую диссертацию Валери Триттер[252]252
Tritter V. Le Statut du narrateur dans les littératures fantastiques française et anglo-saxonne d’E.A. Poe à R.B. Matheson.
[Закрыть]). Правда, пока работы в этом направлении слишком часто ведутся параллельно, мы же попытаемся наметить возможные точки пересечения.
I. Парадоксальная ситуация высказывания
Доррит Кон в своем эссе «Прозрачные сознания»[253]253
Cohn D. La Transparence intérieure. Modes de représentation de la vie psychique dans le roman. (Éd. originale: Transparent Minds: Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction. Princeton, 1978.)
[Закрыть] проводит очевидное сравнение между двумя нашими авторами. В своей работе, посвященной «Способам репрезентации психической жизни в романе», Кон настаивает на присутствии двусмысленных и даже точно не определимых параметрах ситуации высказывания, характерных для рассказов По и «Записок из подполья».
Первая двусмысленность относится к способу высказывания. Новеллы По и повесть Достоевского как будто колеблются между формой письменного рассказа и формой устной речи, которая в этом случае приближается к автономному монологу – форме, изобретенной, по словам Доррит Кон, именно в середине XIX века.
Некоторые рассказы По действительно имеют ярко выраженный характер письменного ретроспективного повествования. Рассказчик ссылается в этом случае на свою письменную деятельность. В рассказе «Черный кот» мы находим такие слова: «…относительно весьма странной и вместе с тем весьма обычной истории, которую я собираюсь изложить письменно»[254]254
Poe E. Le Chat noir. P. 58. Ср.: «Не жду и не требую доверия к чудовищной, но житейски обыденной повести, к изложению которой приступаю» (По Э. Черный кот. С. 452).
[Закрыть]. В «Уильяме Уилсоне» речь точно так же идет о «девственной странице, лежащей передо мной»[255]255
Ibid. Р. 71. Ср: «Позвольте мне называться Вильямом Вильсоном. Не стоит осквернять чистую страницу, лежащую передо мною, моим подлинным наименованием» (Там же. С. 200).
[Закрыть].
В других рассказах нет эксплицитных ссылок на контекст производства речи рассказчиком. Эти рассказы могут, следовательно, считаться чисто устными, обходящими объяснения, каким образом они доходят до читателя. Так, «Демон перверсии» – это устное рассуждение без всякого эксплицитного указания на письменную форму, что подчеркнуто характерным частотным употреблением глагола «говорить» вместо «писать». «Сердце-обличитель» также указывает на многочисленные проявления устной речи. Рассказчик подчеркивает тот факт, что он «рассказывает», «говорит», и постоянно прибегает к употреблению междометий, прерывает свою речь, поправляет себя, что создает иллюзию устного рассуждения. В этом случае он сближается с формой, которая напоминает театральный монолог, как, например, в следующем отрывке:
Я продвигался вперед медленно… бесшумно, чтоб не спугнуть сон старика. Чтобы просунуть голову в дверь настолько, что станет видно старика на постели, уходил час. Ха! хватило бы ума у сумасшедшего на такие штуки? А затем, когда голова уже проникнет к нему в комнату, я осторожно приоткрывал фонарь… да, да, осторожно, осторожно (потому что железные петли чуть поскрипывали); и ровно настолько, чтобы пропустить один-единственный луч, который и направлял на это его грифово око[256]256
По Э. Сердце-обличитель. С. 421.
[Закрыть].
Доррит Кон справедливо замечает, что по отношению к рассказам По «Записки из подполья» представляют гибридную форму, то есть занимают место между письменным текстом и устным рассуждением:
Даже текст, который прямо утверждает свой статус письменного текста, может относиться к внутреннему монологу, если его фиктивный автор опровергает свою письменную деятельность. Самый показательный случай – это «Записки из подполья» Достоевского. Несмотря на заглавие, подстрочное примечание автора и ссылки самого подпольного человека на то, что он «пишущий», его манера однозначно является ораторской: он постоянно указывает на себя как на того, кто «говорит», кто «рассказывает»; он доходит даже до того, что ссылается на свое дыхание в одном особенно высокопарном отрывке: «Всему свету в глаза скажу! Я имею право так говорить, потому что сам до шестидесяти лет доживу. До семидесяти лет проживу! До восьмидесяти лет проживу!.. Постойте… Дайте дух перевести…»[257]257
Cohn D. La Transparence intérieure. Р. 201.
[Закрыть].
Какую бы форму ни принимали исследуемые нами рассказы – письменного текста или устного рассуждения, – они относятся к неопределимой ситуации высказывания. Таким образом, особую важность здесь приобретает связь со временем. Рассказчики настаивают на решительном разрыве между нарочито театрализованным временем высказывания и временем самого рассказа, который ведется в привычной хронологической форме жанра исповеди. Однако особенность этих текстов объясняется тем, что сам рассказ зачастую короче предваряющего его комментария, так как он служит простым примером, иллюстрирующим высказывание. Это, в частности, случай «Демона перверсии»: шесть страниц вводного рассуждения, за которым следуют три страницы рассказа. В «Записках из подполья» ретроспективное повествование «По поводу мокрого снега» также как будто выполняет чисто иллюстративную функцию.
Таким образом, в рассматриваемых текстах отношение «рассуждение/рассказ» можно сопоставить с равновесием, присущим театральному тексту: театральный монолог вбирает в себя ретроспективные рассказы, чья главная функция – объяснить настоящее, к которому они остаются направлены. Этот прием усиливается многочисленными ссылками на место высказывания, что приводит рассказчиков к явно театрализованному употреблению дейксисов. Именно такими словами рассказчик в «Демоне перверсии» завершает длинное рассуждение, предваряющее повествовательную часть: «Я сказал все это, дабы в какой-то мере ответить на ваш вопрос – дабы объяснить вам, почему я здесь, – дабы оставить хотя бы слабую видимость причины, в силу которой я закован в эти цепи и обитаю в этой камере смертников»[258]258
Poe E. Démon de la perversité. P. 54. Ср.: «Я сказал все это, дабы в какой-то мере ответить на ваш вопрос – дабы объяснить вам, почему я здесь – дабы оставить вам нечто, имеющее хоть слабую видимость причины тому, что я закован в эти цепи и обитаю в камере смертников» (По Э. Бес противоречия. Перевод В.В. Рогова. С. 619).
[Закрыть].
Употребление выделенного курсивом дейксиса «здесь» усилено указательными местоимениями, определяющими существительные: «эти цепи», «эта камера». Теперь мы видим, до какой степени рассуждение зависит от места его произнесения, а именно тюрьмы, замкнутого пространства, заточения, но также и места одиночества. То же самое можно сказать о подполье Достоевского, символическом топосе, которое буквально преследует рассказчика, чьи речи, похоже, полностью продиктованы желанием оправдать свой выбор добровольного заточения.
II. О рассуждениях, обращенных к слушателю
Подобное утверждение приводит нас к новому парадоксу: одиночество говорящего противопоставляется множеству обращений к некоему адресату, который также трудно поддается определению. Само собой разумеется, что здесь мы исходим из концепции М. Бахтина, представленной в «Проблемах поэтики Достоевского»[259]259
Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского.
[Закрыть].
В главе, посвященной монологической речи, Бахтин последовательно рассматривает «Бедных людей», «Двойника» и, наконец, «Записки из подполья». Три эти текста отличаются использованием повествовательных приемов, соответствующих трем литературным формам: эпистолярной, письму от третьего лица и письму от первого лица. Бахтин виртуозно показывает, что данные формы позволяют Достоевскому постоянно скользить между монологом и диалогом. Обмен письмами в «Бедных людях» обеспечивает отсроченный, или отложенный, диалог между единичными и одинокими излияниями души. Употребление третьего лица в «Двойнике» приобретает очевидный экспериментальный характер: рассказчик словно перенимает речевые затруднения своего персонажа, что превращает повествование в точное отражение его рассуждения, и при этом сохраняется дистанция между «он» и «я» повествователя, которое мучительно пытается выразить себя и в конце концов замыкается в тревожном молчании, где читателю его не достать[260]260
См. об этом: Troubetskoy W. L’ Ombre et la différence.
[Закрыть].
Что же говорит Бахтин о «Записках из подполья»? Они, по-видимому, ближе всего к монологу, поскольку речь идет о человеке, который, закрывшись в своем подполье, пишет исповедь, не предназначенную, по его собственному признанию, для чтения и читателя. Тем не менее Бахтин показывает, что у подпольного человека нет ни единого слова, которое не было бы диалогичным:
Но неужели, неужели вы и в самом деле до того легковесны, что воображаете, будто я это все напечатаю да еще вам дам читать? И вот еще для меня задача: для чего, в самом деле, называю я вас «господами», для чего обращаюсь к вам, как будто вправду к читателям? Таких признаний, какие я намерен начать излагать, не печатают и другим читать не дают. По крайней мере, я настолько твердости в себе не имею да и нужным не считаю иметь[261]261
Достоевский Ф.М. Записки из подполья. С. 480; Dostoïevski F. Carnets du sous-sol. Р. 114.
[Закрыть].
Наиболее явные проявления диалогичности в тексте – различные обращения к воображаемым «господам»; к ним беспрестанно взывает рассказчик, как это парадоксально сделано в приведенном отрывке. Апострофы и вопросительные знаки подчеркивают, что речь персонажа – это рассуждение, обращенное к незримому слушателю. Более того, приемы передачи косвенной речи позволяют буквально расслышать голоса этих «господ», вводя в повествование настоящий диалог:
– Ха-ха-ха! да ведь хотенья-то, в сущности, если хотите, и нет! – прерываете вы с хохотом. – Наука даже о сю пору до того успела разанатомировать человека, что уж теперь и нам известно, что хотенье и так называемая свободная воля есть не что иное, как…
– Постойте, господа, я и сам так начать хотел[262]262
Там же. С. 470; Ibid. Р. 76.
[Закрыть].
К кому обращается подпольный человек? Несомненно, к самому себе, согласно известному приему, который оправдывает театральный монолог. Но также и к другим: его исповедь позволяет сказать себе подобным то, что он никогда не мог им сказать, передать в записи диалоги, которые он не мог вести. Наконец – ко всему миру, подсказывает Бахтин, подчеркивая глубоко идеологическое значение этой повести по отношению к двум предыдущим. Лирическое, ироническое, полемическое рассуждение подпольного человека без конца разыгрывается в диалоге с чужими словами. У Достоевского нет объекта, все является субъектом, – пишет Бахтин. Говорить о ком-то или о чем-то – значит всегда обращаться к кому-то или чему-то, поскольку сам язык не может избежать такого обращения.
Рассказы По также обращены к неким адресатам, чье присутствие беспрестанно проявляется в тексте настойчивым употреблением второго лица множественного числа «вы». Этих адресатов точно так же трудно идентифицировать, поскольку персонаж чаще всего говорит вне какой бы то ни было правдоподобной ситуации коммуникации. В этом случае производимый эффект становится эффектом прямого обращения к читателю, который оказывается призван в качестве нового судьи, на него возлагается обязанность изучить и заново оценить случай героя. Преступные персонажи рассказов «Сердце-обличитель» и «Демон перверсии» взывают к читателям, чтобы те судили их преступления. Стратегия, направленная на снятие обвинения, отчетливо прослеживается как горизонт текста в следующем отрывке:
Не будь я столь пространным, вы или могли бы понять меня совсем уж превратно, или, заодно с чернью, сочли бы меня помешанным. А так вы с легкостью увидите, что я – одна из многих неисчислимых жертв Демона перверсии[263]263
«А так вы с легкостью увидите, что я – одна из многих неисчислимых жертв Беса Противоречия» (По Э. Бес противоречия. С. 619; Poe E. Démon de la perversité. Р. 54).
[Закрыть].
Персонаж здесь не столько виновный, сколько «жертва», достойная сострадания. Аналогичным образом: если в рассуждениях человека из подполья и присутствует «исповедь», то дело идет в основном о защитительной речи, которую произносит человек сомнительных моральных устоев, утверждающий при этом, что сам себя ненавидит. Более того, как замечал Бахтин по поводу «Записок из подполья», рассказчики наших рассказов предстают как философы, системно мыслящие люди. Таким образом, рассказчик говорит не столько для того, чтобы снять с себя вину или добиться оправдания (он уже осужден, более того, сам себя осуждает), сколько для того, чтобы доказать: он следует определенной логике, его действия имеют показательную ценность, ценность философскую. Отсюда то смешение между рассказчиком и автором, которое допускали некоторые читатели: можно было подумать, что персонажи являются выразителями точки зрения авторов. Вместе с тем можно сказать, что такое прочтение подготовлено и обеспечено самими авторами, которые заведомо обыгрывают последующие интерпретации. Перед нами разворачивается настоящий спектакль авторства, продуманная игра на тему моральной устойчивости самой авторской фигуры. Действительно, первые строки рассказа «Сердце-обличитель» и «Записок из подполья» представляют собой настоящий вызов читателям.
Вот первые строки По:
Ну, да! Я нервен, нервен ужасно – дальше уж некуда; всегда был и остаюсь таким, но откуда вы взяли, что я – сумасшедший? Болезнь лишь обострила мою восприимчивость, а не нарушила, не притушила ее. Особенно обострился мой слух. Я слышал все сущее в небесах и в недрах. Я слышал многое в преисподней. Какой же я сумасшедший? Вот послушайте только! да заметьте, как здраво и гладко поведу я свой рассказ[264]264
По Э. Сердце-обличитель. С. 421; Poe E. Le Cœur révélateur. Р. 111.
[Закрыть].
И Достоевского:
Я человек больной… Я злой человек. Непривлекательный я человек. Я думаю, что у меня болит печень. Впрочем, я ни шиша не смыслю в моей болезни и не знаю наверно, что у меня болит. Я не лечусь и никогда не лечился, хотя медицину и докторов уважаю. К тому же я еще и суеверен до крайности; ну, хоть настолько, чтоб уважать медицину. (Я достаточно образован, чтоб не быть суеверным, но я суеверен.) Нет-с, я не хочу лечиться со злости. Вот этого, наверно, не изволите понимать. Ну-с, а я понимаю[265]265
Достоевский Ф.М. Записки из подполья. С. 452; Dostoïevski F. Carnets du sous-sol. Р. 6.
[Закрыть].
Нетрудно заметить определенную созвучность двух этих зачинов. И хотя начальные строки «Записок из подполья» стали по-настоящему знаменитыми, не следует забывать, что этим они могли быть обязаны той литературной формуле, которую изобрел По: разумеется, русский писатель поработал с ней, убрав, например, все следы фантастического, равно как мотив сверхобостренных чувств, превосходящих возможности восприятия нормального человека.
Таким образом, читатель оказывается призванным к ответу с первых же строк рассказа. От него требуют, притом довольно резко, вынести окончательное решение на основании фактов, которые ему изложены. Главное в аргументации рассказчиков как у По, так и у Достоевского – доказать адресатам, что они не сумасшедшие. Этот аспект особенно ясно выражен у По. Вот первые строки из «Черного кота»:
Не жду и не требую доверия к чудовищной, но житейски обыденной повести, к изложению которой приступаю. Поистине безумна была бы такая надежда, если уж мой разум и то отрекается от своих же собственных показаний. Однако я не сошел с ума и, ручаюсь, не брежу. Но завтра мне умирать, и сегодня хочется облегчить душу. Чтобы перейти прямо к делу, постараюсь ясно и покороче, без комментариев представить людям добрым череду мелких домашних неурядиц[266]266
По Э. Черный кот. С. 452; Poe E. Le Chat noir. Р. 58.
[Закрыть].
Здесь наречие «однако» имеет выраженное противительное значение. Мы сразу же оказываемся помещены в контекст диалога, как его описывает Освальд Дюкро в своих лингвистических анализах, посвященных повествовательному диалогизму[267]267
См., например: Ducrot O. Logique, structure, énonciation.
[Закрыть]. Сослагательному наклонению в значении нереальности настоящего «как будто я сумасшедший» отвечает настоящее время индикатива «я не сумасшедший». Последующее повествование призвано доказать состоятельность этого заявления и завоевать согласие адресата. Рассказчик в «Сердце-обличителе» применяет в точности такую же стратегию убеждения:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?