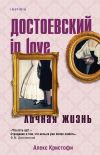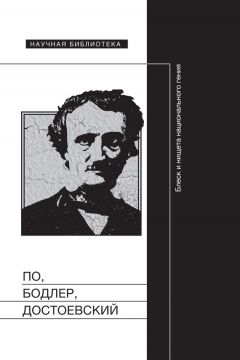
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
А теперь – главное, вы вообразили, будто я сошел с ума. Но сумасшедшие же ничего не смыслят. А посмотрели бы вы на меня! Посмотрели бы вы только, с какой мудростью я действовал! – с какой осторожностью, – с какой предусмотрительностью, – с какой скрытностью я принялся за дело![268]268
По Э. Сердце-обличитель. С. 421.
[Закрыть]
Здесь безумие отвергается непосредственной отсылкой к антонимическому понятию – «мудрости». Далее прием повторяется: «Если вы и теперь еще считаете меня сумасшедшим, то расстанетесь с этой мыслью, когда я опишу вам те разумные предосторожности, каковые я принял, чтобы спрятать труп»[269]269
По Э. Сердце-обличитель. С. 423; Poe E. Le Cœur révélateur. Р. 115.
[Закрыть]. В «Записках из подполья» этот прием не так очевиден, но все же он присутствует. «Больная печень», которой страдает подпольный человек, хотя и может показаться более тривиальной, чем фантастическое безумие героев По, в не меньшей степени указывает на долгую традицию меланхолии – болезни, вызываемой избытком черной желчи, которую вырабатывает печень. Незнание своей болезни, в котором признается герой, может быть истолковано как элемент иронии со стороны автора: герой просто не понял, что страдает меланхолией – болезнью, которая делает его достойным своих романтических предшественников. Времена изменились, романтизм, как ему нравится самому подчеркивать, более невозможен, но для читателей, порвавших с этими персонажами, безумец тем не менее по-прежнему легко узнаваем.
Действительно, оригинальность использованного здесь повествовательного приема заключается в гипотезе безумия рассказчика. То есть мы снова сталкиваемся с некоей конвенцией фантастического жанра, которая дополняется такими сопутствующими мотивами, как алкоголь и опиум. Цветан Тодоров показал на многочисленных примерах, что эти условности присущи фантастическому жанру постольку, поскольку они вызывают у читателя сомнение в возможности найти рациональное объяснение необычайности рассказанных событий[270]270
См.: Todorov T. Introduction à la littérature fantastique.
[Закрыть].
Однако в нашем случае рассказчики не только потенциально сумасшедшие. Рассказчики По и Достоевского глубоко имморальны – или аморальны. Это – пресловутая «злость», право на которую отстаивает рассказчик Достоевского и которая некоторым образом продолжает «перверсию» рассказчиков По. Будучи перверсивными, извращенными – прежде всего в снисходительности к собственным злодеяниям, – рассказчики вызывают ужас или отвращение. Это очень важная характеристика, ибо она определяет значительное расхождение с каноническим фантастическим рассказом, как его определяет Тодоров. Для него употребление первого лица способствует тому, чтобы читатель мог легко отождествить себя с персонажем; это порождает атмосферу сомнительности, которая является для теоретика определяющим признаком фантастического. С этой точки зрения выясняется, что интересующие нас рассказы значительным образом отдаляются от этой модели фантастического. По правде говоря, среди упомянутых нами рассказов только «Черный кот» и «Уильям Уилсон» могут быть по-настоящему привязаны к фантастическому. Другие же тяготеют скорее к жанру хоррора.
Вместе с тем безумного рассказчика можно отнести к «ненадежным» нарраторам Уэйна К. Бута. Он утверждает, что рассказчик считается «ненадежным», когда он говорит или действует противоречиво по отношению к нормам произведения, нормам «имплицитного автора». Мало того, что свидетельство рассказчика вызывает недоверие в силу заявленных расстройств психического и чувственного характера, – под вопросом оказывается сама его искренность. Словом, именно устройство произведения наводит читателя на мысль, что рассказчик, возможно, не только бредит, но и лжет. Здесь опять очень четко прослеживается ниточка от По к Достоевскому. Рассказчик «Демона перверсии» предается сознательной обработке своих фиктивных собеседников. Персонаж Достоевского заходит еще дальше по этому пути, открытому его старшим современником. В этом плане он оказывается ближе к такому тексту, как «Падение», где Камю, большой поклонник Достоевского, использует форму монолога, обращенного к незримому слушателю, чтобы выстроить литературный дискурс, направленный на дестабилизацию читателя: он именно играет на двусмысленностях письма от первого лица. С одной стороны, повинуясь старой условности, читатель должен следовать за рассказчиком-персонажем в его исповеди и в какой-то степени доверять ему, с другой – многочисленные пассажи этой самой исповеди вынуждают его сомневаться в правдоподобии рассуждения, которое он читает.
III. Письмо и молчание
Таким образом, мы обнаруживаем, что наша проблематика относится к чисто языковой области. Здесь возникает вопрос о языке, о той власти, которой он наделяет того, кто говорит, над тем, кто слушает, или того, кто пишет, над тем, кто читает. «Перверсия» По – это прежде всего перверсивное, извращенное использование власти языка:
Нет человека, например, которого бы в какой-то момент не охватило страстное желание истерзать слушателя своими разглагольствованиями. Говорящий сознает, что раздражает; он хочет понравиться; обычно он бывает краток, точен и понятен; самые лаконичные и ясные фразы вертятся у него на языке; лишь с трудом он удерживается от их произнесения; он боится вызвать недовольство того, к кому он обращается. И все же его поражает мысль, что, злоупотребляя вводными словами и отступлениями, он может вызвать этот гнев. Одной подобной мысли достаточно. Неясный порыв вырастает в желание, желание – в стремление, стремление – в неудержимую жажду, и жажда эта удовлетворяется, – к глубокому сожалению и крайнему огорчению говорящего, несмотря на возможные последствия[271]271
По Э. Бес противоречия. С. 617 – 618; Poe E. Le Démon de la perversion. Р. 52.
[Закрыть].
Следовательно, говорить – значит воздействовать на другого, вызывать его отвращение, неловкость, гнев. Но если говорить некстати, тогда, наоборот, может возникнуть ситуация, в которой говорящий подчиняется власти слушателя. История, рассказанная в «Демоне перверсии», – это история переворачивания. Фиктивный рассказчик мстит в настоящем за то, чего стоили ему его слова в прошлом. В самом деле, если он оказывается взаперти в момент высказывания, то происходит это исключительно в силу предыдущего его рассуждения, подчинившего его власти другого. Слово, живя своей собственной жизнью, обрекло его на самоосуждение:
Однажды, фланируя по улицам, я вдруг заметил, что бормочу почти что вслух эти привычные слова. Сгоряча я переиначил их следующим образом: «Я спасен, – я спасен; да – лишь бы я только сам не сознался в глупости!..
И теперь эта нечаянная мысль, которую я сам себе внушил, – будто я могу оказаться таким глупцом, что сознаюсь в совершенном мною убийстве, – всплыла передо мной вместе с самим призраком того, кого я убил, – и манила меня к смерти….
Утверждают, что я говорил, что я изъяснялся очень отчетливо, но весьма решительно и крайне поспешно, будто опасаясь, что меня перебьют прежде, чем я закончу эти краткие, но полные значения фразы, которые предавали меня палачу и преисподней.
Изложив в подробностях все необходимое для полного убеждения суда, я упал без чувств как подкошенный.
Но к чему еще об этом говорить? Сегодня я ношу эти цепи, и – я здесь! Завтра я буду свободен! – но где?[272]272
Там же. С. 619 – 620; Ibid. Р. 56 – 57.
[Закрыть]
Тот, чьи слова вдруг вырываются наружу, потому что он не в силах их сдержать, подчиняется власти другого. Слово как будто заставляет признать за собой свою трансцендентную природу. Сумасшедший, наделенный силой, с которой он не может совладать, становится сродни священному пророку, оракулу или пифии. Он делает очевидной необычность, а то и чужестранность языка даже для того, кто им пользуется. Говорить – значит уже быть сумасшедшим, как это в шутку подчеркивает рассказчик из «Черного кота»: «Поведать вам мои мысли – то было бы безумием»[273]273
Там же. С. 458; Ibid. Р. 70.
[Закрыть]. Но молчать – это ведь тоже безумие: так обстоит дело с подпольным человеком, который весь вечер молча ходит взад-вперед, тогда как коллеги его совершенно игнорируют. Он ходит так три часа, и никто с ним не заговаривает. При этом он «мысленно» говорит с теми, кто его исключил, он молча обращается к ним с речами, которые в тот вечер остаются безмолвными и облекаются в слова только в ретроспективном повествовании спустя многие годы: «“О, если б вы только знали, на какие чувства и мысли способен я и как я развит!” – думал я минутами; мысленно обращаясь к дивану, где сидели враги мои. Но враги мои вели себя так, как будто меня и не было в комнате»[274]274
Достоевский Ф.М. Записки из подполья. С. 510; Dostoïevski F. Carnets du sous-sol. Р. 231.
[Закрыть].
Таким образом, длинный рассказ «По поводу мокрого снега» в «Записках из подполья» находит свое оправдание: речь о том, чтобы искупить молчание, тщательно заполнить его освобожденным в конце концов словом, способным облегчить сознание того, кому все-таки удается породить рассуждение, доныне остававшееся вне языка. Говорить – значит придать форму воспоминаниям. Как и в случае «Демона перверсии», речь идет об экстериоризации молчания – того, в чем не признаться, поскольку признаться в этом постыдно:
Но вот что еще: для чего, зачем собственно я хочу писать? Если не для публики, так ведь можно бы и так, мысленно все припомнить, не переводя на бумагу.
Так-с; но на бумаге оно выйдет как-то торжественнее. В этом есть что-то внушающее, суда больше над собой будет, слогу прибавится. Кроме того: может быть, я от записывания действительно получу облегчение. Вот нынче, например, меня особенно давит одно давнишнее воспоминание. Припомнилось оно мне ясно еще на днях и с тех пор осталось со мною, как досадный музыкальный мотив, который не хочет отвязаться. А между тем надобно от него отвязаться. Таких воспоминаний у меня сотни; но по временам из сотни выдается одно какое-нибудь и давит. Я почему-то верю, что если я его запишу, то оно и отвяжется. Отчего ж не испробовать?[275]275
Там же. С. 481; Ibid. Р. 119.
[Закрыть]
Таким образом, интересующие нас рассказы обнажают настоящую одержимость молчанием. Говорить – значит попытаться заполнить молчание, дать форму бесформенности невысказанного, воспоминания, преступления. Рассказчик «Береники», кажется, как никто другой борется с невысказанным. И лишь через метафору ему удается in extremis выразить весь ужас преступления: «…Из нее со стуком рассыпались зубоврачебные инструменты вперемешку с тридцатью двумя маленькими, словно выточенными из слоновьего бивня, костяшками, раскатившимися по полу врассыпную»[276]276
По Э. Береника. С. 72; Poe E. Berenice. P. 131.
[Закрыть]. Эффект, произведенный этим падением, объясняется главным образом этим ужасающим молчанием о преступлении: рассказчик все еще не в силах сказать, что вырвал зубы Береники. Тогда мы вправе задаться вопросом: не являются ли слова, предложенные для прочтения в этих рассказах, еще одной формой молчания, письменного молчания?
Коммуникативная ситуация, отличающая «Записки из подполья», заключает в себе главную проблему: если признание подпольного человека возможно лишь при условии, что никто его не услышит, то идет ли речь именно о признании? Если унизившие его сослуживцы никогда не услышат его рассуждение, является ли оно более реальным, нежели то мысленное рассуждение, которое он адресовал им тем ужасным вечером, что ознаменовал его окончательное унижение и заточение в подполье? Может ли вообще существовать слово «из подполья»? Изобретенная Достоевским литературная форма словно бы представляет собой переход от молчания к слову. Русский писатель как бы изобретает слово «для себя», глубоко интимное, в каком-то смысле до-языковое формулирование того, что не может стать словом «для другого». Может быть, таким образом «Записки из подполья» реализуют программу, которую автор наметил, но не в полной мере выполнил в «Двойнике». Этот же прием был намечен в заключительном монологе гоголевского сумасшедшего, который кричит под пыткой, при том что его рассуждение, со всей очевидностью, не может быть ни записано, как того требует форма дневника, ни высказано в лицо палачам, которые предписывают ему молчание. Литературное рассуждение становится здесь рассуждением неизреченным, ментальным дискурсом.
В этом же смысле может быть понят мотив нестерпимой зубной боли, который мы находим в «Записках из подполья», и мотив вырванных зубов в «Беренике». Зубы составляют один из основных физических органов, необходимых для звукообразования. Более того, для защитников теории мотивированности лингвистического знака именно дентальные звуки обнаруживают экстериорность дискурса, его диалогический и адресный характер. К примеру, в большинстве языков зубные звуки ассоциируются со вторым лицом, то есть с адресатом дискурса. Страдать зубами, бояться их до такой степени, чтобы вырвать изо рта своей невесты, – значит физически обнаружить свою неспособность обратиться к другому с истинными словами.
Таким образом, мы видим, что интересующие нас рассказы движимы рефлексией о другости, чужестранности языка. Гиперчувствительность героев По в отношении шумов, населяющих тишину, как в рассказе «Сердце-обличитель», где убийца слышит, как под половицами бьется сердце убитого, которого он туда спрятал, перекликается с тем, что делает Георг Бюхнер в романе «Ленц», где он заставляет выкрикивать своего сумасшедшего персонажа:
«Hören Sie denn nicht, hören Sie denn nicht die entsetzliche Stimme, die um den ganzen Horizont schreit, und die man gewöhnlich die Stille heisst…»[277]277
Büchner G. Lenz. Р. 33.
[Закрыть] – «Разве вы ничего не слышите, не слышите этот ужасный голос, что кричит во все концы и что обычно зовется безмолвием…»[278]278
Büchner G. La Mort de Danton, Léonce et Léna, Woyzeck, Lenz. Р. 220.
[Закрыть]
В заключение следует подчеркнуть, насколько важное место в системе текста уделено читателю[279]279
См. об этом: Lysoe E. Les Voies du silence. E.A. Poe et la perspective du lecteur.
[Закрыть]; и это также объединяет рассказы, которые мы рассмотрели. Конфидент и судья, свидетель и адвокат поневоле, читатель занимает неудобное место вуайериста, вынужденного наблюдать за гнусным, отвратительным зрелищем. Он одновременно и жертва извращенного, перверсивного рассуждения, и палач, который лишь усугубляет пытку рассказчика ответным молчанием. Наконец, читатель предстает парадоксальным слушателем рассуждения, в котором отрицается, как в «Записках из подполья», что оно кому-либо адресовано, то есть тому же читателю. И если в тексте Достоевского и есть нарратор, то в нем отсутствует наррататор в строгом смысле этого понятия: многочисленные обращения к воображаемым «господам» исподволь обозначают отсутствие реального адресата дискурса, который предоставлен для чтения. Как стать читателем в отсутствие адресата дискурса, определенного самим текстом? Этот парадоксальный статус связан с употреблением первого лица, которое следует рассматривать за рамками жанровой принадлежности. Особенности письма от первого лица не ограничиваются здесь его употреблением в фантастическом жанре. Фантастическое, лирическое, автобиографическое, аргументативное письмо литературной эссеистики – все типы письма задействованы в «Записках из подполья», которые ведут свое литературное происхождение от таких разных текстов, как новеллы Гофмана, Гоголя и По, от публицистики Чернышевского или «Исповеди» Руссо. Эффект, производимый употреблением первого лица, проявляется в стирании границ между жанрами. Только работая с трансжанровыми элементами, мы сможем, вероятно, прояснить, что же говорит нам о молчании литературное слово.
Перевод с французского Ольги Волчек
Список литературы
Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963.
Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: В 15 т. Л.; СПб., 1988 – 1996. Т. 4.
По Э.А. Полное собрание рассказов / Изд. подгот. А.А. Елистратова и А.Н. Николюкин. М., 1970.
Büchner G. Lenz. Frankfurt am Main, 1998.
Büchner G. La Mort de Danton, Léonce et Léna, Woyzeck, Lenz / Рrésentation et traduction par Michel Cadot. Paris, 1997.
Catteau J. Fiodor Dostoïevski // Histoire de la littérature russe. Le XIXe siècle. Le temps du roman / Sous la direction d’Efim Etkind, Georges Nivat, Ilya Serman et Vittorio Strada. Paris, 2005.
Cohn D. La Transparence intérieure. Modes de représentation de la vie psychique dans le roman / Traduit de l’anglais par Alain Bony. Paris, 1981.
Dostoïevski F. Carnets du sous-sol / Traduit du russe par Boris de Schloezer; édition et préface de Michelle-Irène Brudny. Paris, 1995.
Lysoe E. Les Voies du silence. E.A. Poe et la perspective du lecteur. Lyon, 2000.
Poe E. Nouvelles Histoires extraordinaires / Traduction de Charles Baudelaire; préface de Tzvetan Todorov. Paris, 2006.
Tritter V. Le Statut du narrateur dans les littératures fantastiques française et anglo-saxonne d’E.A. Poe à R.B. Matheson. http://www.theses.fr/2010PA040236.
Todorov Т. Introduction à la littérature fantastique. Paris, 1970.
Troubetskoy W. L’Ombre et la différence. Le Double en Europe. Paris, 1996.
«Гений христианства» в свете По, Бодлера и Достоевского
Мари-Кристин Аликс Гарно де Лиль-Адан
Три эти писателя принадлежали к разным религиям: пылкий последователь русского православия Достоевский, пароксизмальный, если не ожесточенный представитель римского католицизма Бодлер и, наконец, не очень убежденный протестант По, принадлежавший к секте пресвитерианцев[280]280
Приемная мать По была англиканкой, а его приемный отец, его настоящие родители и их английские предки, а также жена писателя – пресвитерианцами. Как известно, По ценил просвещенных иезуитов и эрудитов за то, что они пили, курили и никогда не говорили о религии.
[Закрыть], о которой Шатобриан в своем «Опыте о революциях» говорил, что она способна привести к «падению» религии в Англии[281]281
Chateaubriand F. – R. de. Essai sur les révolutions / / Œuvres Complètes I–II. Р. 1144. В примечании к изданию «Опытов» 1797 г. Шатобриан, говоря о распущенности нравов британского духовенства, утверждает: это ведет к «усилению пресвитерианской секты» и может привести к «обрушению всего». Поэтому понятно, что По не мог быть слишком убежденным пресвитерианцем.
[Закрыть]. Итак, три религии и соответственно три способа понимания религиозной иконографии в середине века, когда появились такие визуальные технологии, как панорама, дагерротип и фотография, изменившие отношение к изображению. Именно через понимание изображения в религии каждого из наших авторов, выраженное в их произведениях, нам бы хотелось подойти к вопросу национального гения или к его оборотной стороне – отсутствию такового.
Начнем с По, царя лазури, парящего на «гигантских белоснежных крыльях»: по земле ему мешает «ступать»[282]282
Бодлер Ш. Альбатрос. С. 18.
[Закрыть] именно американская нация, которой, по мнению Бодлера, гений явно не присущ. Действительно, протестантская Америка, эгалитарная и материалистичная, была лишена знаменитых бодлеровских «Маяков», которые освещали католическую Европу со времен Контрреформации. Ультрапуританская Америка была в ужасе от католических изображений, где обнаженная «грациозная и совершенная» плоть Святой Девы или Евы не только без стеснения показывалась, но и сакрализовалась в той мере, в какой, «выражая Воплощение и Любовь», плоть «была вписана в историю спасения»[283]283
Nudité sacrée: Le nu dans l’art religieux de la Renaissance entre érotisme, dévotion, et censure. P. 10.
[Закрыть]. В отличие от средневековой католической Европы «прагматичная и антиэротичная» Америка не признавала ценности ни Венеры, ни собора Парижской Богоматери, ни наслаждения, ни «ликования тем более великого, что оно бескорыстно перед прекрасной эротической природой отдыхающей Венеры или обнаженной Девы Марии»[284]284
Fumaroli M. Paris – New York et retour. Voyage dans les arts et les images. P. 204.
[Закрыть]. В начале XIX века Америка являет собой нацию, не имеющую ни настоящей академии живописи, ни признанной в Европе художественной литературы. Это нация, которая, пуритански отвергая в начале века религиозную живопись и ню, зарекомендует себя изобретением Kodak, а в использовании дагерротипа уверенно превзойдет Европу, разработав технику дагерротипного портрета[285]285
Ср: «Если Франция, благодаря закону о фотографии, принятому по инициативе Франсуа Араго в июле 1838-го, дала миру фотографию, то именно в США появился на свет дагерротипный портрет, техника которого была разработана одновременно несколькими американскими фотографами осенью 1839 или зимой 1840 г.» (Brunet F., Becker W.B. L’héritage de Daguerre en Amérique. Portraits photographiques (1840 – 1900) de la collection W.B. Becker. Р. 11. Ср.: Font-Réaulx D., de. Notes de lecture. См. также очень характерную главу «Дагерротип в Соединенных Штатах: фотография и демократия» в монографии Ф. Брюне, посвященной рождению «идеи фотографии»: Brunet F. La Naissance de l’idée de photographie. P. 157 – 209.
[Закрыть]. Как утверждает М. Фюмароли, причина в том, что данная визуальная техника не имела никакой генеалогии, сравнимой с генеалогией католической живописи, а также, очевидно, в том, что она, в отличие от живописи, отвечала потребностям в дешевизне и равноправии, превратившись в своего рода визуальное самолюбование демократии или даже нарциссическое чревоугодие граждан Соединенных Штатов[286]286
Fumaroli M. Paris – New York et retour. Р. 234. Ср.: Brunet F. L’Amérique des images. Histoire et culture visuelles des États-Unis.
[Закрыть].
Будучи, согласно Бодлеру, про́клятым эстетом, По стремился к трансцендентности, которую он не мог найти ни в золотоносной Америке, где он бился как рыба об лед, ни в своей пуританской религии, лишенной культа живописных изображений, представляющих священное и божественное потусторонье, видимое лишь внутренним зрением. Одаренный поэт, убежденный в возможности искупления посредством искусства, По все время пытался, как он сам написал в «Человеке толпы», воссоздать духовное видение таким образом, чтобы оно явилось в тот момент, когда «с умственного взора спадает пелена»[287]287
По Э. Человек толпы. С. 278.
[Закрыть].
Три примера подтверждают обостренное восприятие По в отношении образа и воображения, которого так не хватало Америке его времени.
Первый пример: рассказ «Береника» строится на основе своего рода оптической иллюзии, поскольку Береника оказывается не той, что несет победу (phero nike), ибо она умирает, но Вероникой – истинным образом (vera icona), который остался недоступен персонажу, поскольку вместо того, чтобы созерцать его в качестве поэта, способного выявить и выразить божественное, он патологически фиксирует самое материальное в нем. Что касается его нареченной, красота которой была идеальной до того момента, когда вступила в свои права болезнь, то он видел не ее лучистую улыбку, а лишь тридцать два зуба, которые в конце концов вырвал у погребенной девушки и которые, обагренные кровью, обратились чем-то вроде мирской реликвии, пародирующей реликвии религиозные.
Насколько нам известно, никто не сопоставлял оптическую иллюзию в этом рассказе с аналогичной диспозицией в одной картине, которую художник из Филадельфии – города, где По жил с семьей в 1838 – 1844 гг., – нарисовал чуть раньше, в 1822 г. Художника звали Рафаэль Пил (1774 – 1825), он был сыном знаменитого американского портретиста[288]288
Рафаэль Пил был сыном Чарльза Уилсона Пила – художника, известного благодаря тому, что он рисовал портреты американских президентов. Он назвал своих детей в честь таких художников, как Рембрандт и Тициан. Рафаэль Пил считается первым профессиональным художником натюрмортов в Америке.
[Закрыть],создателя первого художественного музея в Америке, который он расположил, добиваясь легитимизации, рядом с залом естественной истории и научного инструментария! В этой картине, которая, как и рассказ По, предвосхищала визуальные practical jokes Марселя Дюшана[289]289
Эта картина, отмеченная Марком Фюмароли в его размышлениях об американском искусстве, называется «Венера, выходящая из моря».
[Закрыть], Пил обыгрывал одну из многочисленных «Вероник» испанского художника Франсиско де Сурбарана (1598 – 1664) и изобразил обнаженную женщину, скрывающуюся за натянутым белым холстом без отпечатка лика Христа – хотя он необходим на любой vera icona, – при этом из-за ткани акцентированно выступают, наподобие зубов в «Беренике» По, обнаженные рука и нога[290]290
Здесь и далее мы следуем анализу Фюмароли: Fumaroli M. Paris – New York et retour. P. 241.
[Закрыть]. Можно сказать, что эти пастиши – литературный у По, живописный у Пила – были вполне предсказуемы в протестантской и иконофобской Америке, равнодушной к культу Девы Марии. Таким образом, и картина, и рассказ представляют собой критику свирепствовавшего в Америке прямого и радикального отрицания женской красоты и женской наготы, христианской «vita contemplativa», «обожания» и античного «otium».
Второй пример: в «Овальном портрете» По в самой первой фразе текста отсылает читателя к Анне Радклиф (1764 – 1825), основоположнице жанра готического романа, которым американский писатель вдохновлялся в собственном творчестве. Отнюдь не случайно местом действия романа «Удольфские тайны» Радклиф выбирает Апеннины: увлеченная полотнами французского художника Клода Лоррена (1600 – 1682), она явно преуспела в пейзажных зарисовках Италии. В «Овальном портрете» По вполне определенно касается проблемы «современной живописи»[291]291
«На обтянутых гобеленами стенах висело многочисленное и разнообразное оружие вкупе с необычно большим числом вдохновенных произведений живописи наших дней в золотых рамах, покрытых арабесками» (По Э. Овальный портрет. С. 352).
[Закрыть], также располагая свою историю в Апеннинах: это идеальная обстановка для рассказа об изобразительном искусстве – осенняя Италия, до и после Контрреформации; речь идет об одном из очагов католической живописи в Европе. Рассказчик, благоговейно рассматривая портрет девы «редчайшей красоты» («это было всего лишь погрудное изображение»), старается найти некую «глубину», при этом его взгляд фиксирует прежде всего «руки, грудь» («bosom»), «золотистые волосы». Тем не менее рассказчик обманывается, поскольку живописец хоть и нашел в этой женщине идеальную модель, но в действительности создал лишь абсолютно жизнеподобный, реалистичный портрет, неотличимый от обыкновенного дагерротипа: «И вправду, некоторые видевшие портрет шепотом говорили о сходстве как о великом чуде, свидетельстве и дара живописца и его глубокой любви к той, кого он изобразил с таким непревзойденным искусством»[292]292
Там же. С. 353.
[Закрыть] – так, не без черного юмора, говорится об этой особенности портрета в томике, содержащем описания картин и их истории.
Чтобы представить в этом рассказе идею ограниченности портрета и, главное, ограниченность американских портретистов «наших дней», которые рабски копировали фотографию, По заставляет рассказчика, будто «завороженного» этим «абсолютным жизнеподобием выражения», сравнить стиль портрета, выполненного «в так называемой виньеточной манере», со стилем «головок Салли»[293]293
Когда Бодлер в стихотворении «Идеал» клеймит «красавиц с виньеток», не заимствует ли он этот образ у По?
[Закрыть]. Кто же такой этот Томас Салли (1783 – 1872)? Он действительно был профессиональным художником, не имевшим, правда, какой-то особенной подготовки; тем не менее в Америке он стал очень модным живописцем, который, можно сказать, писал портреты американцев самым настоящим конвейерным методом, впрочем, так же как и Рафаэль Пил, о котором говорилось выше. И действительно, в период с 1801 по 1872 г. он написал одну тысячу девятьсот портретов. Логично, что ограниченному (подобно большинству протестантских художников, мирских в портретах и пейзажах) художнику из рассказа – в этом похожему на Томаса Салли – не удалось извлечь то, что в этой женской груди – достойной, однако, груди бессмертной богини – определялось идеей религиозной красоты, что делало портрет по-настоящему искупительным. Оставаясь в рамках религии, запрещающей культ святых и Девы Марии, художник из рассказа также был обречен на то, чтобы изобразить всего лишь смертную девушку, которая в конечном итоге принимает смерть точно так же, как в предыдущем рассказе; правда, здесь причина смерти – в эстетике правдоподобия американского портрета. В этом и живописец в рассказе, и его реальный двойник Томас Салли не имели ничего общего, если можно так выразиться, с тем, чего рассказчик ждал от вдохновенного художника. Во всяком случае, с нашей точки зрения, мастерство протестантского художника Томаса Салли несоизмеримо с гением Клода Лоррена – художника, вдохновлявшегося Римом эпохи Контрреформации, с которым Анна Радклиф пробовала соперничать в своих пейзажных зарисовках.
Могли ли эти художники быть «маяками» в том смысле, который вкладывал в это слово Бодлер в одноименном стихотворении? Лоррен, например, – без сомнения, о чем, среди прочего, свидетельствует внимание к его живописи со стороны Достоевского[294]294
См.: Акелькина Е.А.Своеобразие художественного вкуса Ф.М. Достоевского. Рецепция живописи Клода Лоррена в его творчестве. С. 286 – 288.
[Закрыть]. Вымышленный художник «Овального портрета» и Томас Салли – вряд ли. В противном случае им удалось бы воссоздать «странную историю», которую заключает в себе «грудь» человека, о чем говорится в другом рассказе По – «Человек толпы», где писатель сам пытается соперничать с искусством живописца-портретиста. Этот текст будет третьим в нашем кратком обзоре отношения «американского гения» к образу и изображению. Действительно, в рассказе «Человек толпы», который Бодлер не только перевел, но и перевоссоздал в поэме в прозе «Толпы», рассказчик, предстающий в виде одинокого поэта, движим первобытной страстью к образам (страстью, которая, как известно, изводила также Бодлера[295]295
Ср.: «Восславить культ образов (моя великая, моя единственная, моя первобытная страсть)» (Baudelaire Ch. Mon coeur mis à nu. P. 867).
[Закрыть]) – он верит, что нашел эмблематический образ, достойный его поисков квинтэссенции сущего. Охваченный страстным желанием («a craving desire») при виде распахнувшегося на груди сюртука, приоткрывшего зловещие атрибуты городского бродяги – кинжал и бриллиант, рассказчик решает не «упускать старика из виду – побольше узнать о нем»[296]296
По Э. Человек толпы. С. 281.
[Закрыть]. Он хочет разгадать, точнее, воссоздать ту повесть, что таится в груди этого дряхлого скитальца, ковыляющего с кровожадным видом по улицам вечернего Лондона, при том что, как ехидно добавляет рассказчик, на Бродвее, в самом многолюдном из американских городов ни днем, ни вечером не встретишь столько прохожих, столько фланеров, сколько встречают их на своем пути странный старик и преследующий его поэт современной жизни: в Америке, похоже, фланирование не в чести, поскольку не сулит выгоды. Тем не менее даже в Лондоне, городе, который далее в тексте именуется «могучим» («mighty London»), тайна, которая сокрыта в груди странного старика, наверняка отягченной самыми отчаянными преступлениями, и которая до того изводит рассказчика, что он гоняется за своим призраком целые сутки, также оказывается своего рода оптической иллюзией – наподобие овального портрета или Береники, то есть Вероники. Иллюзорность эта определяется не тем, что страшные преступления городского странника остаются нераскрытыми, как то полагает Кевин Хэйс[297]297
Hayes K. Visual Culture and the Word in Edgar Allan Poe’s «The Man of the Crowd». Р. 445 – 465.
[Закрыть], следуя в своем анализе версии Вальтера Беньямина, обратившего внимание на фразу на немецком языке, которая в рассказе повторяется два раза: «Es lässt sich nicht lesen» – «оно [сердце человека или книга] не позволяет себя читать»[298]298
По Э. Человек толпы. С. 278.
[Закрыть]. Мне думается, что название рассказа («Человек толпы»), эпиграф к нему («Эта великая беда – не иметь возможности побыть в одиночестве»), равно как и концовка, явно указывают на то, что цель этого безудержного уличного ходока (По сознательно использует глагол to walk – идти – или to run – бежать, а не to stroll – прогуливаться) обманчива именно потому, что он представляет собой человека стадной демократии, который не может обойтись без толпы, который отчаянно боится оказаться лицом к лицу с ничтожностью собственного бытия. Итак, в этом рассказе По-писателю, оборачивающемуся здесь воистину вдохновенным портретистом, неизмеримо превосходящим Томаса Салли или Рафаэля Пила, удается извлечь на свет истинную проблему, добившись того, что проблему можно и прочитать, и увидеть: речь идет о сердце, что судорожно бьется в груди человека современной демократии. Более того, на заднем плане писателю удалось обозначить фигуру своего двойника и идеального оппонента демократии – одинокого денди-фланера, взыскующего на улицах современного города не града грядущего, но резких, обрывистых образов, способных воздействовать на его «плодородную память»[299]299
Формула Бодлера из стихотворения «Лебедь».
[Закрыть]. Вот почему если бы страшная тайна была разгадана, то рассказ По остался бы готической новеллой, а не тем, чем он предстает в наших глазах: рентгеновским снимком мира, который всемерно американизируется – заметим, что Бодлер был одним из первых, кто стал использовать этот глагол в пейоративном смысле.
В отношении этого захватывающего рассказа заметим также, что в посвященной ему критической литературе зачастую не обращается должного внимания на то обстоятельство, что бо́льшая часть цитат в тексте По дается на французском языке; при этом упускается из виду и та деталь, что По не стал переводить эпиграф из Лабрюйера, зато сразу дал перевод немецкоязычной формулы «Es lässt sich nicht lesen», которая обрамляет рассказ. Возможно, именно изобилие французских цитат[300]300
Подробнее об этом: Ward R. The Last Haunting of Edgar Allan Poe: An Identification of «Poe Preferences».
[Закрыть] и отсутствие их перевода подтверждают, что, с одной стороны, По хотел вписать свой текст в традицию портрета не только живописного, но также литературного, восходящую в этом плане именно к Лабрюйеру, одному из основоположников жанра литературного портрета. С другой стороны, важно, что эпиграф, оставшийся непереведенным, словно бы предназначает весь рассказ не только американскому, но и французскому читателю. Можно полагать также, что По думал, что его читатель должен принадлежать к избранному кругу образованных словесников; в этом случае следует признать, что задумка По, если она действительно имела место, была гениальной, ибо своего идеального читателя он нашел именно во французе и католике: ведь это Бодлер сделал из По первого признанного в Европе писателя Америки, а последняя, в свою очередь, оказалась неспособной его признать.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?