Читать книгу "По, Бодлер, Достоевский Блеск и нищета национального гения"
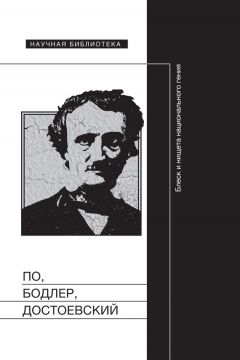
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Торранс Ф. «Евгения Гранде» Бальзака в переводе Достоевского: Взгляд западных исследователей / Пер. с франц. и дополнение примеч. С.А. Кибальника // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 20. СПб., 2013.
Цейтлин А.Г. Становление реализма в русской литературе. М., 1965.
Эпиграмма и сатира. Из истории литературной борьбы XIX века / Сост. А. Островский. М.; Л., 1932. Т. II.
Якимович Т. Французский реалистический очерк 1830 – 1848 гг. М., 1963.
Barbey d’Aurevilly, Baudelaire Ch. Sur Edgar Poe / Éd. M. – C. Natta. Bruxelles, 1990.
Baudelaire Ch. Correspondance I / Éd. C. Pichois. Paris, 1973.
Baudelaire Ch. Œuvres complètes II / Éd. C. Pichois. Paris, 1976.
Baudelaire et Asselineau / Textes recueillis et commentés par J. Crepet et Cl. Pichois. Paris, 1953.
Bazin A. L’Époque sans nom, esquisses de Paris. 1830 – 1833. Paris, 1833. Vol. 2.
Benjamin W. Paris, capitale du XIX siècle. Le livre des Passages / Trad. J. Lacost. Paris, 2006.
Biron V. Balzac et Dostoïevsky // Balzac dans l’Empire russe / A. Klimoff (éd.). Paris, 1993.
Brix M. Baudelaire, «disciple» d’Edgar Poe?// Romantisme. 2003. № 122.
Compagnon А. Les Antimodernes. De Joseph de Maistre à Roland Barthes. Paris, 2005.
Delattre S. Les Douze heures noires. La nuit à Paris au XIXe siècle. Paris, 2000.
Ferrant A. Baudelaire juge de Baudelaire // Revue d’histoire littéraire de la France. T. 36 (1929).
Forgue E. – D. Études sur le roman anglais et américain. Les contes d’Edgar Poe // Revue des Deux Mondes. 15 octobre 1846.
Glinder A. Alphonse Karr (1808 – 1890) // La civilisation du journal. Une histoire de la presse française au XIX e siècle / Sous la dir. de D. Kalifa, Ph. Régnier, M. – È. Thérenty et A.Vaillant. Paris, 2011.
Huart L. Physiologie du flâneur. Paris, 1841.
Lecercle J. – J. Leçon du canon // Revue française d’études américaines. № 110. 2006.
Lemer J. Paris au gaz. Paris, 1861.
Lemonnier L. Edgar Poe et la critique française de 1845 à 1875. Paris, 1928.
Lemonnier L. Les traducteurs d’Edgar Poe en France de 1845 à 1875: Charles Baudelaire. Paris, 1928.
Les Français peints par eux-mêmes. Encyclopédie morale de dix-neuvième siècle. Paris, 1840 – 1842.
Les Français peints par eux-mêmes. Encyclopédie morale de dix-neuvième siècle publié par Léon Curmer / Ed. présenté et annoté par P. Brunel. Paris, 2003.
Loubier P. Le poète au labyrinthe. Ville, errance, écriture. Paris, 1998.
Lowler J. Edgar Poe et les poètes français. Paris, 1989.
Loxias. 2010. № 28. Poe et la traduction / Sous la dir. de N. Biagioli et O. Gannier. http://revel.unice.fr/loxias/index.html?id=5992.
Maistre J. de. Considérations sur la France. Londres, 1797.
Paris ou le Livre des Cent-et-un. 15 vol. Paris, 1831 – 1834. Vol. 6.
Poe E.A. Contes, essais, poèmes / Ed. C. Richard. Paris, 1989.
Poe E.A. The Collected Works of Edgar Allan Poe / Ed. T.O. Mabbott. Cambridge, 1978. Vol. II.
Preiss N. Les Physiologies en France au XIX siècle. Etude historique, littéraire et stylistique. Mont-de-Marsan, 1999.
Prévost J. Baudelaire. Essai sur l’inspiration poétique. Paris, 1953.
Rieger D. «Ce qu’on voit dans les rues de Paris»: marginalités sociales et regards bourgeois // Romantisme. 1988. № 59.
Robb G. Baudelaire lecteur de Balzac. Paris, 1988.
Saintе-Beuve Ch. Causeries du lundi. T. 2. Paris, 1850.
Sainte-Beuve Ch. De la littérature industrielle // La Revue des Deux Mondes. 15 septembre 1839. T. 19.
Scènes de la vie privée et publique des animaux. Etudes des mœurs contemporaines / Sous la dir. de P. – J. Stahl. Paris, 1840.
Stiénon V. La littérature des Physiologies. Sociopoétique d’un genre panoramique (1830 – 1845). Paris, 2012.
Stiénon V. Le canon littéraire au crible des physiologies // Revue d’histoire littéraire de la France. 2014. № 1 (vol. 114).
Причудливое По, причудливое Бодлера и фантастическое Достоевского: современная жизнь и недостоверности разума
Анн Пино
Эдгар По, Шарль Бодлер, Федор Михайлович Достоевский – три человека, три личности, три «нации», даже три «континента». И – несмотря на очевидные различия, несмотря на столь разные и столь сложные творческие маршруты – три автора, объединенные некоей «филиацией», где Бодлер (поэт и переводчик) служит связующим звеном. Разумеется, направленность «этой родственной связи» прежде всего эстетическая: под пером Бодлера встречаются формулы, за которыми можно расслышать отзвуки размышлений По[178]178
Отзвуки «Поэтического принципа» раздаются в «Соответствиях», где выражение «Царица способностей», обозначающее способность воображения, явно восходит к По; известно также, что именно у По Бодлер позаимствовал формулу «Мое обнаженное сердце». См. об этом: Walter G. Edgar Alan Poe.
[Закрыть]; Достоевский, со своей стороны, любуется тем, что называет внешней фантастичностью[179]179
Достоевский Ф.М. [Предисловие к публикации] Три рассказа Эдгара Поэ. Т. 19. С. 88.
[Закрыть] американского писателя[180]180
Несмотря на проникновенное восхищение, которое позволяет ему сразу определить, что отличает фантастическое По от фантастического Гофмана, русский писатель полагает, что Гофман неизмеримо выше По как поэт. «У Гофмана есть идеал, правда иногда не точно поставленный; но в этом идеале есть чистота, есть красота действительная, истинная, присущая человеку… В Поэ если и есть фантастичность, то какая-то материальная, если б только можно было так выразиться. Видно, что он вполне американец, даже в самых фантастических своих произведениях» (Там же. С. 89).
[Закрыть]; но то, что их сближает, как нам кажется (особенно в случае Достоевского), происходит именно от «братства»[181]181
Влияние По на Бодлера не подлежит сомнению. См., например: Lemonnier L. Edgar Poe et les poètes français. Р. 40 – 41. И хотя французский поэт не устоял перед искушением «создать» По по своему образу и подобию, это обстоятельство не мешает тому, что мы называем «братством» поэтов, которое проявляется, в частности, во взглядах на мир, демократию, связь человека с бесконечностью (даже если они понимают это по-разному). Зато именно благодаря посредничеству (пусть и невольному) Бодлера проявляется «филиация» между По и Достоевским, «братство» между которыми подтверждается также целым рядом компаративистских работ.
[Закрыть], иначе говоря, скорее от «слияния», нежели от «влияния», которое мы хотели бы здесь «сличить и озвучить»[182]182
См.: Pageaux D. – H. Perspectives liminaires. Р. 200.
[Закрыть].
Да, национальные гении, но еще и гениальные поэты всечеловечества, «писатели», а не «литераторы», являясь в этом отношении людьми XIX века, По, Бодлер и Достоевский действительно принадлежали времени, когда произошла радикальная трансформация мира и был учрежден новый способ жизни в обществе. Три писателя жили в век «прогресса», обитали в больших городах, где жизнь представляет собой визитную карточку человека, идущего в ногу с новой действительностью.
Проницательность и оригинальность взгляда на современность, равно как поэтическая интуиция, позволили им открыть в своем веке некие парадоксальные грани, исследовать парадоксы модернитета, экспериментировать с ними. Экстравагантность и эксцентричность, безобразие и новая поэтичность, глупость и гениальность, глубокие страдания и ничтожные радости – все эти аспекты жизни сходятся и пересекаются в больших городах. Чарующий и чудовищный, громадный город – это также средоточие жизни в толпе, и если поэт способен различать в составляющих эту толпу человеческих лицах особые черты, характеризующие того или иного прохожего, то и толпа может стать убежищем тому, кто не умеет или не может более выносить свое одиночество.
Вбирая в себя эти парадоксальные воззрения, сосредотачиваясь на них в создаваемых произведениях, По, Бодлер, Достоевский ставили в своем творчестве – разумеется, с определенными вариантами в подходе – проблему чужестранности. В «причудливой игре света»[183]183
Перевод М. Беккер. Ср. также «бредовые эффекты освещения» (И.М. Берштейн): По Э.А. Человек толпы. С. 281.
[Закрыть] рассказчик «Человека толпы» По всматривается в дьявольскую сущность странного и чуждого старика; «Ангел причудливого» – переводит Бодлер заглавие рассказа По, названного в оригинале «The Angel of the Odd» («Ангел необъяснимого» в русском переводе И.М. Бернштейн), делая упор на позитивность понятия «odd»; Достоевский полагает, что речь идет о «фантастическом». Бесспорно, что три эти слова означают не одно и то же для наших трех авторов (и в дальнейшем мы попытаемся определить, что́ означает для них каждое из этих слов). Однако ряд текстов писателей, в особенности тех, повествование которых разворачивается в городских декорациях, предполагают решение одного общего вопроса – одновременно и психологического, и метафизического (не обязательно религиозного).
Действительно, причудливое и фантастическое представляют в рассудочной и обыденной жизни современного человека следы того, что уклоняется в какой-то части человеческого существа от неумолимых стечений обстоятельств обыденного мира и категорий сознающего разума. Как в отношении самого человека, так и в отношении к другому, толпе, одиночеству или же способу вопрошать реальность, знание и науку причудливое и фантастичное являются манифестацией человеческой индивидуальности, его свободы, его сознания: слова эти свидетельствуют о явлении бесконечности; соотносясь с безумием или гениальностью, данные категории обеспечивают нам доступ в глубины человеческой души. Именно с этой точки зрения – на причудливое и фантастическое, а также на соотношение этих категорий с реальным – нам бы хотелось рассмотреть здесь ряд текстов По, Бодлера и Достоевского.
Сколь бы различными ни были творческие маршруты и отдельные детали биографии По, Бодлера и Достоевского, сколь бы разными ни были Америка, Франция и Россия середины XIX века, необходимо понимать, что, хотя не было еще принято говорить об «униформизации» и тем более о «глобализации», три писателя жили в эру современности, модернитета, модерности. Они наследовали литературе романтизма, которую пытались превзойти, испытали на себе стремительное развитие техники и идеологии прогресса – прогресса материального и социального, но также прогресса человеческого. Вместе с тем три писателя пытались протестовать в своих идеях, эстетике, собственно в творчестве против той идеологии, где упор делался на всемогущество человека, который способен постоянно превосходить самого себя и в конечном счете может возомнить себя царем мироздания, новым божеством.
Возможно, Бодлер не особенно интересовался современными науками, равно как и Достоевский, несмотря на инженерное образование, никогда не обнаруживал большого любопытства к современным научным открытиям, которые зачастую становились символами прогресса (или идеи прогресса); правда, с По дело обстояло иначе, но тем не менее интерес к современным наукам не привел американского писателя к вере в прогресс.
«Эврика» – вслед за другими текстами, среди которых выделяется линия, идущая от «Аль Аараафа» к рассказам зрелой поры[184]184
См., в частности: «Разговор Эйроса и Хармионы», «Беседа Моноса и Уны», «Месмерическое откровение» и др.
[Закрыть], – свидетельствует о внимании, знании и глубоком понимании автором новейших достижений науки, астрономии и философии. В них он черпал элементы своего метода, против них выдвигал возражения, высказывал о них догадки, сооружая интеллектуальное здание, где ему предстояло собрать воедино все свои идеи, предложив в конечном итоге концепцию абсолютного единства Вселенной. Это было такое видение мира, до которого человек доходит только после смерти, хотя поэт, используя исключительную способность своего воображения[185]185
Хорошо известно различие, проводимое По между «воображением» (imagination), которое он ценил превыше всего, и «fancy», в котором он видел скорее что-то вроде «грезы», «наваждения», «фантазма».
[Закрыть], способен приблизиться к нему через откровение или интуицию.
При всем своем интересе к науке По никогда не считал ее абсолютом, божеством; наоборот, он постоянно указывал, что «счастье не в знании, а в его приобретении!» «Познать навсегда значит узнать вечное блаженство, но всезнание стало бы демоническим проклятием»[186]186
Здесь и далее в переводе текстов По учитывается «французский текст» Бодлера: Poe E.A. Contes – Essais – Poèmes. P. 862. Ср. русский перевод: «Вечно познавая, мы вечно блаженны, но знать все – проклятие нечистого» (По Э.А. Сила слов. С. 613. Перевод В.В. Рогова).
[Закрыть]. По мнению По, в стремлении к абсолютному знанию проявляется гордость духа и человеческое безумие (hubris), и, соответственно, необходимо расслышать «в мистической притче древа познания и его запретном плоде, приводящем к смерти, ясное предупреждение, что знание не есть благо для человека при несовершеннолетии его души»[187]187
Poe E.A. Contes. Р. 565; По Э.А. Беседа Моноса и Уны. С. 328.
[Закрыть]. Таким образом, проблематика По заключается не в науках как таковых, а в том, что́ они могут значить для интеллектуальной позиции современного человека, который, подчиняясь «грубому математическому разуму схоластики»[188]188
Ibid. P. 566; Там же. С. 329.
[Закрыть], отделяет себя одновременно и от «чувствования» в паскалевском смысле, и от «вкуса»: возомнив себя Прометеем, преисполненным гордыни и высокомерия, он начинает «красоваться и ощущать себя Богом»[189]189
Ibid. P. 565; Там же. С. 328.
[Закрыть]. Убедившись в «верности слова Прогресс» – то есть, в сущности, в перформативном значении этого слова, – современный человек хочет «контролировать естественные законы природы», вместо того чтобы «позволять себе им следовать, – именно так он готовит себе ад».
Ход рассуждений Бодлера почти такой же, однако основания его несколько отличны; они в целом менее продуманны и слабее аргументированы в сравнении с выкладками По. И если любознательность Бодлера в области литературы, философии, эстетики поистине безгранична и со временем лишь усиливается, то интерес поэта к научному знанию или к техническим нововведениям эпохи практически ничтожен и чаще всего выражается только в едкой критике. Под влиянием Жозефа де Местра и По (которых он открывает для себя почти одновременно[190]190
Pichois C., Ziegler J. Charles Baudelaire. Р. 296 – 297.
[Закрыть]) Бодлер часто выступает с желчными диатрибами против прогресса, например в статье «Всемирная выставка (1855)»:
Спросите у любого добропорядочного француза, который каждый день читает газету в кафе, что он думает о прогрессе, и он ответит, что это пар, электричество и газовое освещение – чудеса неизвестные римлянам, и что эти открытия в полной мере свидетельствуют о нашем превосходстве над древними; какие сумерки царят в несчастном мозге, сколько вещей плана материального и плана духовного в нем столь причудливо перемешались. Несчастный человек настолько американизирован философами-зоократами и промышленниками, что утратил всякое понимание различий, которые характеризуют явления мира физического и морального, естественного и сверхъестественного… Я оставляю в стороне вопрос о том, не рискует ли неограниченный прогресс, непрерывно угождая человечеству и изнеживая его, обернуться в результате самой изощренной и жестокой его пыткой. Постоянно отрицая свои собственные достижения, не обратится ли прогресс в некое непрерывно возобновляемое самоубийство? Замкнутая в огненном кольце божественной логики, способная порождать лишь вечное отчаяние, не уподобится ли эта вечная и ненасытная жажда скорпиону, жалящему самого себя смертоносным хвостом?[191]191
Бодлер Ш. Об искусстве. С. 285. Перевод немного изменен.
[Закрыть]
В отличие от По Бодлер не прибегает к библейскому образу древа познания, но в современном развитии наук, в использовании их достижений в повседневной жизни он видит прежде всего как ослабление человеческой природы, головокружение от успехов прогресса, заставляющего верить в собственную безграничность, так и в особенности то же безумие (hubris), которое По обнаруживал в жажде познания, в этой гордыне, что заключает человека в смертоносную грезу быть Богом на месте Бога и царствовать над творением и природой. Бодлер видит здесь ту же силу разочарования и разрушения, которую По выявлял в падении своих прометеевских персонажей.
Достоевский, который, как мы уже говорили, имел лишь отдаленное отношение к науке, воспринимает прогресс скорее в строго социальном плане. Что не мешает, как мы полагаем, сравнивать его в этом отношении с По и Бодлером, ибо, каким бы ни был тот аспект прогресса, на котором тогда, в XIX веке, ставился акцент, речь все равно идет о той же самой идее и она все равно выражает то же самое горделивое стремление к освобождению человека.
Бывший фурьерист и член кружка Петрашевского, Достоевский в молодости был увлечен идеями западного социализма и либерализма, он вовсе не отвергал ни прогресс, ни идею прогресса. Приговоренный к каторге за участие в революционном кружке Петрашевского и за публичное чтение в нем знаменитого письма Белинского к Гоголю[192]192
Белинский В.Г. Письмо Н.В. Гоголю. С. 243 – 252.
[Закрыть], Достоевский открывает в своих испытаниях то лицо человеческой природы, которого он не замечал в социалистической молодости. В силу известного «перерождения убеждений» и возвращения к христианской вере он изменяет взгляды на человека и его предназначение. С тех пор образ Христа становится той основой, с которой неразрывно связана мысль Достоевского, а лицо антихриста видится ему в социализме и во всех учениях, защищающих идею прогресса.
Все творчество Достоевского от «Записок из подполья» и «Преступления и наказания» до «Братьев Карамазовых» свидетельствует об этих идеях; прослеживаются они также и в его письмах. Так, в одном из писем 1876 г. он приводит диалог Дьявола с Христом (который получит развитие в «Великом Инквизиторе»), здесь же его и комментируя:
«Повели же и впредь, чтоб земля рождала без труда, научи людей такой науке или научи их такому порядку, чтоб жизнь их была впредь обеспечена. Неужто не веришь, что главнейший порок и беды человека произошли от голоду, холоду, нищеты и из всевозможной борьбы за существование». Вот первая идея, которую задал злой дух Христу. Согласитесь, что с ней трудно справиться. Нынешний социализм в Европе, да и у нас, везде устраняет Христа и хлопочет прежде всего о хлебе, призывает науку и утверждает, что причиною всех бедствий человеческих одно – нищета, борьба за существование, «среда заела». На это Христос отвечал: «Не одним хлебом бывает жив человек», – то есть сказал аксиому и о духовном происхождении человека. Дьяволова идея могла подходить только человеку-скоту, Христос же знал, что хлебом одним не оживишь человека. Если притом не будет жизни духовной, идеала Красоты, то затоскует человек, с ума сойдет, себя убьет или пустится в языческие фантазии[193]193
Достоевский Ф.М. Письмо к В.А. Алексееву от 7 июня 1876 г. Т. 29 (2). С. 85.
[Закрыть].
Не приходится отрицать, что между концепцией божественного По и Бодлера и религией Достоевского существует огромное расхождение; тем не менее мы полагаем, что само упоминание в процитированном фрагменте «науки» как лекарства от всех болезней человечества позволяет ввести идею Достоевского в перспективу идей По и Бодлера, в то же время позволяя более наглядно продемонстрировать духовный (или даже религиозный) аспект критики прогресса, которую мы рассмотрели у По и Бодлера. Принимая во внимание контекст творчества Достоевского и тех нескольких строчек, что мы процитировали выше, можно утверждать, что «человек-скот» сменил человека-Прометея; однако ему суждены те же разочарования и тот же упадок. К тому же, несмотря на то что писатели рассматривают эти вещи почти противоположными способами, Достоевский, как и По, ставит здесь вопрос Красоты. Для американского поэта красота является атрибутом Бога и его совершенства: поэт мог ее видеть благодаря силе чистого воображения, и благодаря искусству ему доводилось в какой-то мере этот аспект воссоздавать; у Достоевского Красота, безусловно, также является атрибутом Бога, однако она воплощена в Христе, и видение ее – не привилегия поэта; напротив, Красота даруется каждому человеку, верующему в Христа; зато она требует смирения – как для простого человека, так и для поэта.
Итак, По, Бодлер и Достоевский, используя, несомненно, различные подходы и способы, утверждают: желание достичь (с помощью человеческого разума, науки и технического прогресса или же определенной социальной системы) абсолютного познания вселенной или абсолютной власти над случайностями человеческой жизни свидетельствует о сумасшествии похитителя огня, человека-Прометея, который сбивает людей с пути и грозит им уничтожением (интеллектуальным, психологическим, моральным или духовным).
В век индустриализации и прогресса, которым был век XIX, города неизбежно развивались по-новому; из истории нам известно об этом быстром развитии, о блеске и нищете, о дорогих кварталах и тяжких трудах. Ввиду того, что современные города являют самую очевидную материальную форму экономического и социального развития нового времени, равно как и форму изменения отношения человека к природе и пространству, а также потому, что они представляют собой исключительное в своем роде место сосредоточения людей и, как ни парадоксально, место абсолютного одиночества, они, эти большие современные города, образуют в творчестве По, Бодлера и Достоевского (впрочем, как и у многих других писателей, зачастую по иным причинам) особое поэтическое пространство, которое каждый из них выстраивает и оценивает в свойственной ему манере.
Отвлекаясь от хронологической последовательности, мы начнем на этот раз с Бодлера, так как именно он создал «поэтически» положительный образ большого современного города. Не приходится сомневаться, что мир Бодлера – это почти исключительно и в высшей степени мир Парижа, воплощение современного урбанизма. Если природа в нем изредка и появляется, то это природа полностью воображаемая или аллегорическая: Храм в «Соответствиях», широкие портики, «расцвеченные морским солнцем», в «Предсуществовании» или же «солнце, утонувшее в собственной крови» в «Гармонии вечера» – в «Цветах Зла» нет места деревенской или провинциальной жизни. Инстинктивное и спонтанное тяготение Бодлера к Парижу сохранялось на протяжении всего его творческого пути, более того, оно только усиливалось по мере того, как поэт воспринимал и все лучше осознавал поэтический потенциал большого города[194]194
Судебный процесс и обвинение автора «Цветов Зла» заставили Бодлера включить во второе издание книги раздел «Парижские картины». Место, отведенное этому поэтическому циклу в новой композиции сборника (сразу вслед за «Сплином и идеалом»), наглядно свидетельствует о важности городской темы для Бодлера.
[Закрыть]:
Или еще:
В этих стихах ощутимо влияние Бальзака; Бодлер, как и его старший собрат по перу, понял, что истинная парижская поэзия – поэзия контрастов. Воображение Бодлера – это «самая научная из способностей, так как лишь оно одно понимает универсальную аналогию или, как это называет мистическая религия, соответствия»[197]197
Письмо Альфонсу Туссенелю от 21 января 1856 г. См.: Baudelaire Ch. Correspondance. Vol. 1. Р. 336 (курсив Бодлера). В высшей степени удивительно констатировать, что Бодлер называет воображение «научной способностью». Ясно, что под этим определением подписался бы и По, так как парижский поэт использует слово «научный» в самом широком смысле: оно обозначает знание истинное, знание квазивизионерское, которое встречается с бесконечностью в соответствиях и которое не может быть резервуаром отдельных научных знаний.
[Закрыть]; воображение чудесным образом разворачивается в пространстве контраста и посему как нельзя лучше обнаруживает современность, или модернитет, большого города.
«Парижская жизнь плодотворна для поэтических и чудесных сюжетов. Здесь чудесное нас окутывает и подпитывает, это как атмосфера; но мы его не видим»[198]198
Бодлер Ш. Салон 1846 года // Бодлер Ш. Об искусстве. С. 52. Перевод изменен.
[Закрыть], – пишет Бодлер задолго до того, как пробил час «Парижских картин» и «Сплина Парижа». Париж Бодлера – это город контрастов, где соприкасаются необычайное и банальное; это город «прохожей», но также город нищих, проституток, развратников: «каких только странностей не встретишь в большом городе, если умеешь бродить по нему и наблюдать? Жизнь кишит невинными чудовищами»[199]199
Baudelaire Ch. Mademoiselle Bistouri // Baudelaire Ch. Œuvres Complètes I. P. 355.
[Закрыть], – пишет Бодлер в поэме в прозе «Мадемуазель Бистури».
«Невинные чудовища» большого современного города – это городские сумасшедшие, безумцы и безумицы, сжалиться над которыми поэт просит Владыку; вместе с тем эти персонажи являют собой – в ужасающем, но и страшно поэтическом виде – ту самую переходность, через которую поэт определяет современность[200]200
Напомним краткую формулу современности, используя слова Бодлера: «переходное, мимолетное, случайное является половиной искусства, тогда как другая его половина является вечным и неизменным» (Бодлер Ш. Об искусстве. С. 123).
[Закрыть] и которая служит основанием всей парижской поэзии Бодлера.
Иными словами, Бодлер не был слеп к истинным драмам столицы, где ему самому довелось столько страдать. Он видел и нищету богатых кварталов, и более глубокие страдания города: одного названия книги «Сплин Парижа» достаточно, чтобы в этом убедиться[201]201
Сами колебания поэта вокруг основных вариантов названия – «Малые поэмы в прозе» или «Сплин Парижа» – свидетельствуют о двойной перспективе текстов, составляющих книгу. «В первом варианте… делается упор на эстетике фрагмента, в которой формально отражается прерывистость городской жизни… Во втором весь замысел помещается под знак душевной боли, которая то ли поразила души горожан, то ли захватила само тело города, аллегорически представленного “столицей страдания”… и которая означает своего рода тяжесть “парижской души”, затронутой ностальгией по “иногде”» (Labarthe P. Baudelaire. Petis poèmes en prose. P. 17 – 18).
[Закрыть]. Тем не менее, несмотря на понимание истинных драм, которые разыгрываются в Париже, несмотря на неприятие многих явлений современного мира, поэт любит город, потому что в нем заключена мощная поэтическая сила.
По также это осознает, хотя в мире его рассказов большой город встречается намного реже; это, впрочем, позволяет нам предположить, что если американский писатель выбирает для повествования городские декорации, то эта деталь может иметь особое значение.
Среди нескольких примеров, которые здесь можно было бы вспомнить, нам хочется остановиться на «Человеке толпы»: мощно выстроенный рассказ поражает воображение читателя, доводя его до состояния ужаса; при этом ничто в повествовании не снимает постоянно растущего напряжения. Очевидно, что все здесь имеет значение: декорации большого современного города; местоположение рассказчика (он сидит в кофейне, погруженный в «созерцание улицы», и затем поддается соблазну последовать за странным незнакомцем); извивы улиц и изломы площадей; уличные фонари, яркость которых зависит от времени дня и погоды; количество прохожих, меняющееся в зависимости от места и часа, и особенно их «классифицируемый» характер, о котором автор много говорит и который сразу и резко выделяет «человека толпы» в его несообразном костюме (грязное, но хорошего качества белье; рваное, купленное по случаю пальто, скрывающее при этом кинжал и алмаз). Однако этот человек – который не переносит одиночества, степень тревоги которого обратно пропорциональна плотности толпы, который находится посреди бурлящей толпы – представляет собой существо уединенное и уединяющееся; он, похоже, без всякого принуждения следует строго по своему пути в погоне за толпой, в которую можно погрузиться, не имея возможности в ней раствориться. Из этого следует, что такая фигура может существовать только в большом городе.
По видит в нем «…прообраз и воплощение тягчайших преступлений». И продолжает: «Он не может остаться наедине с самим собой. Это человек толпы»[202]202
Poe E.A. L’Homme des foules // Poe E.A. Contes – Essais – Poèmes. P. 512.
[Закрыть]. Синтаксическая фрагментация, в которой работает паратаксис, исключающий эксплицитную подчиненность, обязывает нас – и одновременно разрешает нам – более внимательно отнестись к тексту и попытаться раскрыть в нем загадочные эллипсы. Так как каждая деталь у По значима, особенно в этом рассказе, построенном наподобие поглощающего нас взгляда циклопа, некоторые из них дают нам основание взглянуть на «человека толпы» как на преступника. В то же время очевидно, что фраза из Лабрюйера, которую По выбрал в качестве эпиграфа («Ужасное несчастье – не иметь возможности остаться наедине с самим собой»[203]203
Ibid. P. 505.
[Закрыть]), приобретает здесь более глубокий смысл: в ней подчеркивается, что контекст современного города недостаточен для того, чтобы объяснить, почему человек не может вынести одиночества. Человек, который не может оставаться в одиночестве и в то же время одинок в самой тесной толпе, – это человек, вырвавший себя из метафизической и духовной почвы, где он некогда существовал. Разумеется, в этом комментарии затрагиваются не только смыслы собственно христианского учения (активное переосмысление которого имеет место в текстах Бодлера и Достоевского), но не приходится отрицать, что в творчестве По присутствует сущностно метафизическое измерение, где человек, будучи созданием божественной воли, принадлежит Творению, его превосходящему, с которым, однако, он может существовать в относительном единстве (достигаемом только после смерти)[204]204
Метафизическое понятие «единство» – ключевое в «Эврике» и в определенной мере соотносящееся с такими эстетическими понятиями, как «гармония», «истина», «композиция», – имплицитно присутствует в «Поэтическом принципе», на что последовательно обращали внимание Бодлер, Малларме и Валери, чье внимание к американскому писателю предопределялось прежде всего идеей «единства», «порядка», «гармонии» частей и целого. См. об этом, например: Vaillant А. Conversations sous influence. Balzac, Baudelaire, Flaubert, Mallarmé.
[Закрыть]. Человек толпы, который не может быть один и который, однако, всегда отделен в толпе от других людей, предстает, таким образом, человеком, который вследствие преступления или из-за высокомерия оторвал себя от корней.
На последних страницах своего короткого рассказа По дважды использует существительное «wanderer» (бродяга), которое может перекликаться с фигурой Wandering Jew (Вечного жида). Очевидно, что эта легенда, ставшая подлинным литературным мифом, на литературу США глубокого влияния не оказала, тогда как европейская литература оказалась к ней исключительно внимательной. Тем не менее Новому Свету легенда была известна[205]205
Одним из американских переложений этой легенды можно счесть текст Уильяма Остина (1788 – 1841) «Питер Ругг, пропавший человек» (1824), с которым могли быть знакомы Готорн и Мелвилл.
[Закрыть], и можно думать, что был с ней знаком и По[206]206
Ср: Fink S. Who is Poe’s «The Man of the Crowd»?
[Закрыть]. Так или иначе, но образ вечного бродяги, проступающий в чертах человека толпы, несколько усиливает образ «обескоренного человека» – еще один поэтический топос, где сходятся По, Бодлер, Достоевский.
Наконец, если следовать общепринятой интерпретации, согласно которой в человеке толпы можно увидеть двойника рассказчика, хотя последний этого никак не признаёт[207]207
См. подробнее комментарии к полному изданию текстов По на франц. языке: Poe E.A. Contes – Essais – Poèmes. Р. 1363.
[Закрыть], напрашивается предположение, что По хочет сказать, будто современный город, являясь символом развития науки, техники и идеологии прогресса, оказывается также местом, где люди могут «отказаться от условий человеческого существования и не признавать экзистенциальную реальность падения человека»[208]208
Ibid.
[Закрыть]: здесь человеку может показаться, что он ускользнул от самого себя, убежал от суждений собственной души, равно как от различения добра и зла. Однако если подобные люди могут существовать во все времена, то новые времена способствуют распространению такого человеческого типа в гораздо большей степени, ибо современная жизнь, жизнь больших современных городов заставляет его жить в ускоренных темпах; а кроме того, каждодневные научные изобретения и технические инновации «упрощают» жизнь, отвлекая человека, как и повседневная суета, от самого себя: они занимают ум, сознание и душу пустяками, сбивающими его с собственного пути.
В отличие от художественного мира По, в литературном мире Достоевского город присутствует постоянно и Санкт-Петербург является его истинным «царством»; но тем не менее отношение русского романиста к этому городу и другим городам перекликается, на наш взгляд, с той урбанистической установкой, которую мы обнаружили у По. Действительно, еще в эпоху «Бедных людей» Достоевский писал:
Тогда в характерах, жадных деятельности, жадных непосредственной жизни, жадных действительности, но слабых, женственных, нежных, мало-помалу зарождается то, что называют мечтательностию, и человек делается наконец не человеком, а каким-то странным существом среднего рода – мечтателем. А знаете ли, что такое мечтатель, господа? Это кошмар петербургский, это олицетворенный грех, это трагедия, безмолвная, таинственная, угрюмая, дикая, со всеми неистовыми ужасами, со всеми катастрофами, перипетиями, завязками и развязками…[209]209
Достоевский Ф.М. Петербургская летопись. Т. 18. С. 32 – 33.
[Закрыть].
Таким образом, Достоевский очень рано осознал разрушительную власть современного города и той жизни, которую человек может себе в нем устроить. Писатель, разумеется, говорит о Петербурге, но вместе с тем он объясняет, что не только болота и вездесущая вода (равно как и ремонтные работы) делают атмосферу смертоносной: «гнилость» города определяется душевным состоянием людей этого места и этого времени – тех, кого Достоевский называет «мечтателями» и чья «мечта», как нам представляется, не очень далека от тех иллюзий и галлюцинаций – «fancy», – которые По неустанно отличает от истинного творческого воображения. Действительно, «fancy» не имеет ничего общего с созидательным воображением поэта: речь идет скорее о том, что является одновременно развращенным воображением и «дурным сном»; о «скудоумии существования, которое препятствует полноценному развитию человека»[210]210
Balthasar H. Urs von. Le Chrétien Bernanos. P. 97.
[Закрыть], – как было сказано о персонажах другого великого романиста-христианина.
У Достоевского все время прослеживается неустранимая связь между жизнью современного города и духовной «размягченностью» современного человека, который всегда готов поддаться соблазну мечтательности, всегда оторванной от действительности. В одном позднем тексте – скорее несколько «догматическом», что, к сожалению, характерно для многих текстов из «Дневника писателя», – Достоевский объясняет: поскольку человечество родилось в «Саду», именно в саду оно сможет возродиться; и затем уточняет:
Если хотите всю мою мысль, то, по-моему, дети, настоящие то есть дети, то есть дети людей, должны родиться на земле, а не на мостовой….В земле, в почве есть нечто сакраментальное. Если хотите переродить человечество к лучшему, почти что из зверей поделать людей, то наделите их землею – и достигнете цели[211]211
Достоевский Ф.М. Земля и дети. Т. 23. С. 96.
[Закрыть].
Лишенный почвы (само слово «почва» на русском языке предполагает идею укорененности), оторванный от корней или, если воспользоваться известной мифологемой американской культуры, «унесенный ветром» и потерянный на мостовых больших городов, современный человек утрачивает чувство реальности, его воображение самоуничтожается вместо того, чтобы укореняться в реальности и развиваться до бесконечности.
Хорошо известно, что в «Человеке толпы» задействована тема двойника, которая, естественно, возвращает нас к Достоевскому. И можно думать, что городской рассказ По действительно заключает в себе некие мотивы, связывающие его с «Преступлением и наказанием» – первым из «великих романов», в котором русский писатель стал целенаправленно развивать тему взаимного влияния современного города (места скученности и одиночества) и современного человека, оторвавшегося от живых корней и живущего в соответствии со своим «резонирующим умом».









































