Читать книгу "По, Бодлер, Достоевский Блеск и нищета национального гения"
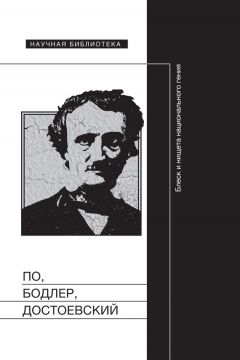
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Проблематизация садизма не менее очевидна в тексте Бодлера: прежде всего в мотиве «бесконечности наслаждения», которое испытывает рассказчик, обрушивая на голову городского пролетария горшок с цветами (очевидно также, что пострадавший стекольщик в меньшей степени дурен, чем сам повествователь, воображающий себя злодеем; не менее характерно и то, что на голову злосчастного стекольщика обрушивается горшок с цветами, следует думать, зла). В этом отношении заметим, что темы мазохизма в «Малых поэмах в прозе» всесторонне рассмотрены во многих критических работах; упомянем здесь исследования Ж. Тэло и Д. Oэлера, где убедительно показано[72]72
Thélot J. Baudelaire: Violence et Poésie. Paris, 1993; Oehler D. Le Spleen contre l’oubli. Juin 1848. Baudelaire, Flaubert, Heine, Herzen. Paris, 1996.
[Закрыть], что не рассказчик – праздный поэт-фланер, – а именно стекольщик соотносится с фигурой автора, представая своего рода двойником поэта, аллегорическим автопортретом непризнанного художника, вынужденного продавать свой хрупкий товар. В связи с этим «Дурной стекольщик» воспринимается одновременно и как переосмысление темы из стихотворения «Héautontimorouménos» («Я буду бить тебя без гнева / И без презрения, как мясник»), и как знак отчаяния поэта, который (это показано в поэме «Бей бедных!») может заинтересоваться лишь себе подобными изгнанниками, а не истоками и причинами своего отчуждения.
Мазохистский симптом присутствует в поведении персонажа «Демона перверсии»: он «испытывает пьянящее желание» причинить себе страдание, которое заставляет его сдаться в руки правосудия. Преобладание мазохизма, точнее говоря того, что позднее будут так называть, находит выражение также в суицидальном характере порывов персонажа:
И потому именно, что наша способность суждения отбрасывает нас от края, – именно по этой причине – мы приближаемся к нему со все более неодолимой силой. Во всей природе нет страсти более дьявольски нетерпеливой, нежели та, что владеет человеком, который, стоя на краю пропасти, мечтает в нее броситься[73]73
По Э.А. Бес противоречия. С. 618 – 619. Перевод текста Бодлера. См. ниже оригинал По и перевод В.В. Рогова. Ср.:
And because our reason violently deters us from the brink, therefore, do we the most impetuously approach it. There is no passion in nature so demoniacally impatient, as that of him, who shuddering upon the edge of a precipice, thus meditates a plunge.
И так как наш рассудок яростно уводит нас от края пропасти – потому-то мы с такой настойчивостью к нему приближаемся. Нет в природе страсти, исполненной столь демонического нетерпения, нежели страсть того, кто, стоя на краю пропасти, представляет себе прыжок.
[Закрыть].
Отношение к социальному
Однако идет ли речь о садизме, мазохизме или суицидальных наклонностях личности, влечение всегда ассоциируется с некими формами насилия или господства: эта связь обнаруживает, что непредсказуемое бессознательное, отнюдь не замыкаясь в сфере субъективности, имеет прямой выход к социальным контекстам и выражает их воздействие. Сколь неразумными ни казались бы те или иные действия, которые предпринимают персонажи По, Бодлера и Достоевского, все они имеют одну общую точку пересечения или схождения, а именно выражение протеста, агрессии по отношению к другому и трансгрессии по отношению к установленному порядку.
Рассказчики «Демона перверсии», «Черного кота» и «Сердца-обличителя» – преступники, совершившие убийство. Они рассказывают о себе – то есть исповедуются, – находясь, как можно полагать, в камерах смертников; при этом создается впечатление, что сама исповедь, само признание как речевой акт выражают те неодолимые влечения, которые они описывают. Но здесь преступление – не столько бунт против общества в целом или социального порядка, сколько гораздо более глубинное возмущение против закона как такового, собственно говоря, трансгрессия. «Разве нет в нас, несмотря на главенство способности суждения, постоянного влечения к тому, чтобы нарушить закон, просто потому, что мы понимаем, что это – закон?»[74]74
По Э.А. Черный кот. С. 454. Перевод изменен.
[Закрыть]
В таком случае порыв может рассматриваться как почти органический акт противостояния «первозданного тела», «слепого к какой-либо справедливости», к самой идее «закона», если вспомнить здесь формулу Ж. – Ф. Лиотара[75]75
Lyotard J. – F. La préscription: Lectures d’enfance. P. 48.
[Закрыть]. Речь идет о фундаментальной, первичной характеристике человека, о своего рода рефлексе «бунтующего человека»: этот чистый дух противоречия ассоциируется в мысли Бодлера с идеей первородного греха, тогда как у Достоевского вызов брошен именно закону или логике разума, который опровергается исходя из мысли о том, что «человек от настоящего страдания, то есть от разрушения и хаоса, никогда не откажется»[76]76
Достоевский Ф.М. Записки из подполья. Т. 4. С. 477.
[Закрыть].
Но поскольку эта фундаментальная характеристика находит свое выражение в социальном мире, она не может его не касаться. Приведенный Бодлером пример человека, развлекающегося тем, что он «из каприза, из праздности» зажигает сигару, находясь рядом с бочкой с порохом, просто чтобы «посмотреть, узнать, попытать судьбу»[77]77
Baudelaire Ch. Le mauvais vitrier. P. 286.
[Закрыть], может быть прочитан как запоздалый и замысловатый отклик на участие самого поэта-денди в революции 1848 г. По крайней мере таков смысл интерпретации Д. Оэлера, который сосредотачивается в своем анализе бодлеровской поэзии на вытесненных, подавленных или даже цензурированных следах революционного опыта Бодлера[78]78
Oehler D. Le Spleen contre l’oubli. Р. 319.
[Закрыть], равно как на «демонических отголосках» знаков глубинного сопротивления, высвобождающих «ресурсы протеста» человека как такового: в этом отношении рассказчики «Дурного стекольщика» или поэмы «Бей бедных!» могут приобретать статус некоего возмутителя общественного спокойствия или даже вождя, призванного спасти революцию от ее вытеснения в существующем режиме империи Наполеона III. В такой ситуации невольный, непредсказуемый импульс приобретает черты орудия, направленного против социального порядка. Эта интерпретация интересна, хотя в ней и недооценивается значение постреволюционной палинодии Бодлера и его соображений о революции 1848 г., высказанных в «Моем обнаженном сердце», где революционное насилие соотносилось с «тягой к разрушению» и с «естественной любовью к преступлению»[79]79
Baudelaire Ch. Mon cœur mis à nu. P. 679.
[Закрыть]. Тем не менее, даже если учесть эту поправку, нельзя не отметить определенную убедительность этой социокритической трактовки, в которой психологическое побуждение ассоциируется с политическим контекстом и с бодлеровским видением революции.
Примечательно также, что тема революции объединяет Бодлера и Достоевского – и не только потому, что и первый, и второй зарекомендовали себя двусмысленным отношением к политическому восстанию и к революционным кругам, от которых они в определенный момент отошли. Если интерпретация Оэлера верна, тогда дикое и разрушительное влечение соотносится с вытеснением или даже с извращением, или перверсией, нереализованного протеста. Наиболее яркое сходство обнаруживается здесь в теме «хрустального дворца», которая звучит, разумеется с разными нюансами, в текстах двух писателей. В «Дурном стекольщике» горшок с цветами, который разбивает стекла городского пролетария, «издает оглушительный звук хрустального дворца, разнесенного вдребезги ударом молнии»[80]80
Idem. Le mauvais vitrier. P. 287.
[Закрыть]. Конечно, здесь сразу вспоминается «хрустальный дворец», составляющий один из излюбленных предметов философствований человека из подполья. Очевидно, что источник двух образов один и тот же: речь идет о знаменитом Хрустальном дворце, выстроенном в Лондоне к Первой всемирной выставке 1851 г.; и у Бодлера, и у Достоевского он предстает как символ социализма или, в более широком плане, как образ надвигающейся индустриальной, рациональной и меркантильной современности, принимающей вид социальной утопии. В случае Бодлера, если следовать трактовке Д. Оэлера, имеется в виду не столько Лондон, сколько сама столица XIX столетия – Париж Османа; под ним подразумевается буржуазное, капиталистическое общество в целом, которое Бодлер не принимает, относя себя скорее к изгоям идеологии и психологии прогресса. В случае Достоевского, как известно, подразумевается скорее социалистическая утопия Чернышевского и его греза о детерминистической прозрачности общества будущего[81]81
Ср. примечания Е.И. Кийко к тексту «Записок из подполья»: Достоевский Ф.М. Записки из подполья. Т. 4. С. 770.
[Закрыть]. Любопытный образ, который, хотя и направлен на разных противников (в одном случае – на буржуазию, в другом – на социалистов-утопистов), в принципе говорит о том же самом, что и дает нам возможность выйти за рамки прямых контекстных совпадений. Действительно, нам важно понять, что хрустальный дворец – это не только символ механической социальной организации, но и образ прозрачности как таковой, включающей в себя отношение текста к читателю и автора к самому себе.
Отношение к читателю
Рассматриваемые нами тексты сходятся, среди прочего, в том, что рассуждение (дискурс) доминирует в них над рассказом (историей); в итоге создается впечатление, что имеется некая необходимая связь между понятием перверсии и формой повествования. У Достоевского рассуждение и рассказ неразрывно соединены в одно целое, однако структура текста отмечена тем, что в первой части доминирует рассуждение, тогда как вторая часть отличается повествовательным характером, она словно служит иллюстрацией первой. «Демону перверсии» и «Дурному стекольщику» также свойственна подобная структура. И здесь также более или менее пространный дискурсивный фрагмент уступает место рассказу о внезапном порыве, как если бы сама тема требовала заблаговременной подготовки – чтобы читатель мог вообще и понять, и принять ее, чтобы она действительно могла стать прозрачной. Автору важно заранее обосновать, оправдать свою тему; ему важно попытаться превратить эту по определению непонятную историю, коль скоро она не подчиняется никакой логике, в том числе логике современного читателя, в модель некоего универсального повествовательного приема, который к тому же опирается на определенные примеры. У По демон перверсии выражает себя через такие внутренние побуждения, как желание наскучить собеседнику, замедление темпа рассказа или итоговое стремление броситься в пустоту. У Бодлера речь идет о пиромании, о безрассудной страсти к риску, о непредсказуемых влечениях к темным личностям, приписываемых двойникам поэта, которые являются промежуточными персонажами между фигурой автора и другим: для читателя именно они служат примером и ориентиром, в действительности его дезориентируя, поскольку никогда не выражают позицию автора.
Более того, следует отметить, что тексты очевидным образом адресованы читателю, они словно вовлекают его в повествование или даже пытаются показать ему, что он, читатель, сам способен на преступное деяние. Структура текста отличается двоякой прагматической направленностью: речь идет о чем-то, в чем рассказчик должен оправдаться (у По – исповедаться), и с этой точки зрения текст воспринимается как некая речь в свою защиту или как признание, направленное на то, чтобы найти понимание у читателя; с другой стороны, текст может восприниматься как обвинение в адрес самого читателя, который, будучи вовлеченным в эту преступную историю, выступает если и не потенциальным виновником произошедшего, то невольным сообщником преступника. Парадокс этой исповеди, которая оборачивается обвинением, хорошо известен: неотъемлемая своеобычность поступка составляет предмет проблематичной генерализации, предварительное объяснение гласит, что поступок остается необъяснимым.
Очевидно, что подобная структура не добавляет прозрачности и ясности в повествование, фигура автора теряется в объяснениях, которые ничего не объясняют, текст сохраняет темноту рассказа, повествующего о темных влечениях рассказчика. В завершение этого расследования нам бы хотелось остановиться на предположении, что исключительность ситуации, в которую автор ставит своих персонажей-рассказчиков, соответствует исключительности ситуации самого автора в пространстве литературы.
Отношение к литературе
Наши тексты изобилуют рефлексивными приемами, позволяя нам воспринимать рассказчиков как двоящихся двойников самих писателей. Во-первых, исходя из их маргинальной, паратопической позиции, которая характеризует их как таковых: мансарда поэта в «Сплине Парижа», тюремные камеры рассказчиков По, подполье Достоевского символизируют эту позицию исключительности и исключенности, в которой писатели модернитета предпочитают себя представлять.
Преобладание дискурсивной части повествования, выражающееся, в частности, в том, что последнее предполагает или изобретает нового читателя, фактически ставит рассказчиков в формальную позицию писателя, сочинителя, что, соответственно, по сути, определяет отличие позиции повествователя от позиции равноправных собеседников, – это, в частности, недвусмысленно отмечает человек из подполья, называя свое письмо непереходным:
Я же пишу для одного себя и раз навсегда объявляю, что если я и пишу как бы обращаясь к читателям, то единственно только для показу, потому что так мне легче писать. Тут форма, одна пустая форма, читателей же у меня никогда не будет[82]82
Достоевский Ф.М. Записки из подполья. Т. 4. С. 480 – 481.
[Закрыть].
В поэтике повествования По вопрос собеседования и собеседника (читателя) также является первостепенным и акцентирован на рефлексивном уровне, когда, например, в одном из приведенных примеров перверсия выливается в неудержимое желание наскучить слушателю, хотя при этом рассказчик знает, что умеет очаровать его своим исключительным ораторским талантом:
Говорящий сознает, что вызывает недовольство; он всемерно хочет угодить собеседнику; обычно он изъясняется кратко, точно и ясно; самые лаконичные и легкие фразы вертятся у него на языке, лишь с трудом он удерживается от их произнесения, он боится разгневать того, к кому обращается…[83]83
По Э.А. Бес противоречия. С. 617 – 618.
[Закрыть].
Кроме того, повествование подкрепляется литературными ссылками: демон сравнивается с джинном из кувшина, о котором рассказано в «Тысяче и одной ночи», хотя По (и Бодлер вслед за ним) предпочитает говорить о джинне в бутылке (у По эта подмена может иметь другое значение, перекликающееся с метафорой «ангела причудливого», которая соответствует в экзистенциальном плане алкоголизму автора). Но важно, что само преступление – предмет признания – восходит к французской литературе, точнее к неким французским «Мемуарам», где описано, как «мадам Пило» была убита при посредстве «отравленной свечи». Иначе говоря, сам порыв к убийству принимает форму литературной отсылки, дважды рефлексивной, поскольку, именно читая в своей кровати, жертва рассказчика погибает от удушья. В этот раз жертвой порыва становится не слушатель, а читатель, как будто писатель хочет навести читателя на мысль, что он также, в свою очередь, жертва некоего порыва, а именно порыва писателя По, который, хоть и может очаровать своего читателя, предпочитает наводить на него ужас. К этому можно было бы добавить следующее: если следовать такой гипотезе прочтения, то сам По, используя рассказчика, как будто признает вину в отношении содержания своих рассказов; как будто причудливость этих историй превращает автора в безумца, коим его герой отказывается быть. Все предстает так, словно рассказчик По излагает историю убийства, которая обрекает его на осуждение; тем не менее само обуславливающее историю обстоятельство, что он не способен удержаться от рассказа, может восприниматься как болезнетворный импульс, толкающий По рассказывать свои гротески и арабески с риском не понравиться читателю и пойти тем самым против собственных интересов.
У Бодлера рефлексивность обнаруживается скорее в аллегорическом плане. В исследованиях П. Лабарта и Ж. Тэло упор сделан на то, что текст «Дурного стекольщика» представляет собой аллегорию перехода от «Цветов Зла» к «Малым поэмам в прозе»: аллегория представлена в самом образе «маленького горшка (на франц. горшок – pot) с цветами», который одновременно является и переосмыслением «Цветов» (зла) в форме малой По– (Poé-pot)… – эмы в прозе, задуманной как ответ на потрясения современности. Стекло воплощает здесь лирическую поэзию, которая в «Цветах Зла» вполне прециозна, но теперь безвозвратно устарела, а стекольщик – образ падшего поэта, вынужденного задешево продавать свой товар[84]84
Thélot J. Baudelaire: Violence et Poésie; Labarthe P. Baudelaire. Petits poèmes en prose.
[Закрыть]. В более близкой к нам по времени интерпретации В. Суэйн закрепила аллегорическую трактовку, отмечая, что термины «орудие» и «демон», используемые Бодлером, являются «обычными для аллегории кодовыми словами» и относятся к «механическому или демоническому эффекту самих тропов»[85]85
Swain V.E. Grotesque Figures: Baudelaire, Rousseau, and the Aesthetics of Modernity.
[Закрыть]. Следуя этой точке зрения, следует полагать, что поэма описывает переход Бодлера от лирической поэзии к поэме в прозе в виде некоего насильственного и агрессивного порыва: поэт, уходя в прозу, идет на риск, который может навредить его собственным интересам. В этом отношении можно вспомнить, что и По, и ранний Достоевский также рисковали в своих жизненных и творческих начинаниях, ставя под вопрос собственную литературную карьеру и репутацию.
Небезынтересно будет заметить, что человек из подполья, в свою очередь, слишком хорошо осознает двусмысленность самого литературного дела. Можно даже сказать, что литература воспринимается им как воплощенное противоречие, более того – как некоторое извращение, словом, перверсия, что подчеркивается в концовке: персонаж заявляет, что не хочет «больше писать “из Подполья”», а писатель в роли «лжеиздателя» тут же опровергает своего персонажа: «Впрочем, здесь еще не кончаются “записки” этого парадоксалиста. Он не выдержал и продолжал далее»[86]86
Достоевский Ф.М. Записки из подполья. Т. 4. С. 550.
[Закрыть]. Литература как письмо, будучи противоречивым по своей природе занятием, является одновременно и терапевтической процедурой, и «исправительным наказанием». Письмо в этом отношении есть не что иное, как попытка избавиться от ненавистных фраз и фразеров, от романтических и фельетонных моделей, от литературных и политических «героев», которые, однако, воспроизводятся в этом новом жанре «записок», строящемся на отрицании прежних форм романа или повести. Иначе говоря, письмо может приблизиться к жизни только при условии, если будет преодолевать литературу; и вместе с тем – когда сознание повествователя (и автора) будет тронуто подозрением непреодолимой тщетности самого литературного усилия, что, однако, не становится препятствием для письма. Литературный опыт в этой перспективе сводится к упрямству и своеволию, о которых говорит парадоксалист в начале своих записок, к тому упрямству и к тому своеволию, которые дороже и «приятнее» всякой выгоды. Писать – значит вверять себя «бесу противоречия», или «демону перверсии»; речь идет о таком самоутверждении, в котором вдребезги разбивается не только «хрустальный дворец» будущего, но и цельность того «я», что силится писать.
Итак, наверное, можно думать, что наши авторы сходятся также и в этой точке: письмо представляет собой один из этих темных и опасных – как для пишущего, так и для окружающих – импульсов, о которых трактуют избранные тексты. Речь действительно идет о новой фигуре автора, которая соотносится уже не с цельным, когерентным субъектом, не с писателем-творцом, полновластно владеющим своими творческими приемами и орудиями, а скорее с острым сознанием отсутствия подобного субъекта и переживанием беззакония, царящего в его владениях. Вероятно, можно было бы проверить эту гипотезу более детальным биографическим исследованием, направленным на анализ форм искаженного или отсутствующего сознания, когда человек не полностью принадлежит себе и субъективность существует на грани распада, «на краю пропасти», идет ли речь о «вредных привычках» (алкоголизм По, опиомания Бодлера, игровая зависимость Достоевского) или о патологиях (бродяжничество По, сифилис Бодлера, эпилепсия Достоевского). Впрочем, подобная биографическая интерпретация может быть дополнена другим подходом, берущим начало в античной традиции восприятия литературного вдохновения и описанным Платоном в «Ионе» или Демокритом в знаменитом фрагменте, где утверждается, что «…например, поэты, творчество которых явно представляет собой продукт божественного духа, могут хорошо творить только в состоянии одержимости, умоисступления (№ 574)»[87]87
Лурье С.Я. Демокрит. С. 554.
[Закрыть].
В этой концепции поэзия представлена как манифестация темного импульса, который проживается как идущий извне и ощущается как абсолютно неодолимый; такой импульс, или влечение, принуждает человека в поэте к таким типам поведения, что близки к состоянию транса, в котором субъект, находящийся во власти вдохновения, становится в каком-то смысле чуждым самому себе, сталкивается с собственной неспособностью объяснить истоки своих идей, подвергается риску впасть в безумие, оказаться никем – как в собственных глазах, так и в глазах других людей.
В этом отношении «демоны перверсии» суть не что иное, как позднейшие перевоплощения древних муз и своего рода аватары романтических концепций поэтического вдохновения: речь идет, разумеется, о музах павших, чье падение соответствует упадку самой фигуры поэта, который все время выпадает из социума, не укладывается в понятие медицинской нормы, ведет себя агрессивно в отношении своего читателя и в конечном счете в отношении самого себя. Именно в таком виде поэты доводят до нашего времени и до нашего сознания ту простую мысль, что литература всегда идет извне.
Перевод с французского Сергея Фокина
Список литературы
Гофман Э.Т.А. Пустой дом / Пер. В. Лангера // Гофман Э.Т.А. Ночные истории. Киев, 1996.
Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: В 15 т. Л.; СПб., 1988 – 1996. Т. 4, 10.
Лурье С.Я. Демокрит. Тексты. Перевод. Исследования. Л., 1970.
По Э.А. Полное собрание рассказов / Изд. подгот. А.А. Елистратова и А.Н. Николюкин. М., 1970.
Baudelaire Ch. Œuvres complètes / Éd. de Cl. Pichois. Paris, 1975. T. I.
Brogniez L., Eidenbenz E. Les mots de l’hysterie// Pulsions: Art et deraison. Waterloo, 2012.
Gibian G. C.G. Carus’ Psyche and Dostoevsky // American Slavic and East European Review. Vol. 14. № 3. Oct. 1955. Р. 371 – 382.
Labarthe P. Baudelaire. Petits poèmes en prose. Paris, 2000.
Lyotard J. – F. La prescription: Lectures d’enfance. Paris, 1991.
Oehler D. Le Spleen contre l’oubli. Juin 1848. Baudelaire, Flaubert, Heine, Herzen. Paris, 1996.
Pascal B. Pensées. Paris, 1976.
Poe E.A. The Collected Works of Edgar Allan Poe / Ed. T.O. Mabbott. Cambridge, Mass., 1978. Vol. III.
Swain V.E. Grotesque Figures: Baudelaire, Rousseau, and the Aesthetics of Modernity. Baltimore, 2004. Р. 95 – 108.
Thélot J. Baudelaire: Violence et Poésie. Paris, 1993.









































