Читать книгу "По, Бодлер, Достоевский Блеск и нищета национального гения"
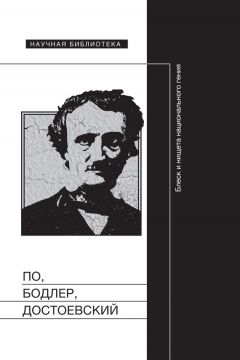
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Итак, подводя итог первому разделу нашего Введения, можно, наверное, сказать, что жизнь По, его страсть к литературным фантазиям и мистификациям и его посмертная литературная репутация как будто сами по себе направляли его в Петербург, где в конце мая 2013 г. на научной конференции «Эдгар По, Шарль Бодлер, Федор Достоевский и феномен национального гения: аналогии, генеалогии, филиации идей» встретились исследователи из Англии, России, США и Франции, чтобы попытаться осмыслить те литературные связи, что прочно соединили имя и творчество американского поэта с двумя другими художниками, снискавшими себе славу «национального гения». Тексты докладов, подготовленных к этой конференции, впоследствии доработанные авторами с учетом проходивших дискуссий и замечаний ответственных редакторов, представлены в виде глав нашей коллективной монографии.
* * *
Очевидно, что создание коллективного научного труда связано с целым рядом институциональных затруднений, тем более если участники коллектива представляют различные научные школы, культурно-национальные традиции и имеют право на собственную точку зрения, которая не всегда может разделяться соавторами или даже редакторами. Действительно, специалисты по отдельным национальным литературам или даже отдельным писателям смотрят на литературный процесс иначе, нежели ученые, работающие в перспективе сравнительного литературоведения: если первые являются скорее собирателями и хранителями национального литературного достояния, то вторые, наоборот, могут выглядеть разрушителями национальных мифов, поскольку по определению своего рода деятельности призваны ставить под вопрос уникальность того или иного литературного события, той или иной литературной фигуры. Проблема только усугубляется, если сталкиваются точки зрения ученых, работающих над историей национальной литературы, и специалистов, создающих инокультурную версию этой истории: тут могут не совпадать не только акценты, но и приоритеты, поскольку культурный трансфер, которому существенно содействуют процессы глобализации современного мира и новейшие информационные технологии, не сводится к беспроигрышному переносу культурных ценностей из одной страны в другую. В отличие от осуществляющихся почти моментально финансовых трансферов, в ходе которых, впрочем, денежные знаки и ценные бумаги также могут менять свою ценность и стоимость, культурный трансфер требует прежде всего исторического времени и индивидуального человеческого усилия: вряд ли кто усомнится в том, что если бы Бодлер, будучи уже сложившимся поэтом, не потратил семнадцать лет своей жизни на то, чтобы внедрить прозу По в благодатную почву французской прозы, то европейская литературная судьба автора «Ворона» и «Рассказов» сложилась бы иначе; иной была бы и поздняя поэзия и проза автора «Цветов Зла» и «Сплина Парижа». Таким образом, культурный трансфер – это не прямое перенесение культурных ценностей из одной страны в другую, а сложное взаимодействие, взаимопроверка, взаимообогащение и взаимообкрадывание, когда ценности одной культуры поверяются оценщиками другой культуры, проходя испытание на истинность, не исключающее, как мы это видели с Бодлером, тех или иных погрешностей.
Вместе с тем «испытание чужбиной» исполнено непредсказуемой возможностью того, что, оказавшись на чужой почве, литературный памятник раскроется теми смыслами, что в нем только дремали, едва проступали из незапамятной толщи языка, на котором он был создан, и вдруг вышли на свет именно под воздействием другого языка – в переводе, хотя бывает, что в нем же смыслы подлинника безнадежно уходят в темноту, обрекаются на забвение и безмолвие. Иными словами, если вернуться к общей характеристике тематики и задач нашей коллективной монографии, то нам следует признать и попытаться понять, что По в Америке, По во Франции, По в России не составляют единого, монолитного и монологического монумента. Именно присутствие культурной и научной полифонии, сохранения которой сознательно добивались составители этой книги, обязывает нас вернуться к вопросу о разночтениях в наших прочтениях и, главное, к проблеме переводов По на русский и французский язык, исходя из которых определяются некоторые понятийные и словарные несоответствия в наших работах.
II. «Бес противоречия» и/или «Демон перверсии»?
Рассуждения о методе перевода Бодлера и русской традиции текста По
Вопрос не праздный, учитывая то обстоятельство, что в зависимости от одного или второго варианта перевода названия знаменитого рассказа «The Imp of the Perverse» (1845) складываются две различные традиции восприятия творчества американского писателя, которые если и не соперничают, то не совсем согласуются в рамках коллективного труда: с одной стороны, французская, которая определяет научные позиции французских компаративистов или российских специалистов по литературе Франции; с другой стороны, американская, на которую ориентируются участвующие в книге американисты, полагающие, что перевод «the imp of the perverse» В. Рогова ближе к оригиналу, чем вариант, предложенный Бодлером. Разумеется, в нашей книге есть работы, которых не касаются указанные разночтения, но столь кричащее противоречие требует объяснения, что мы и попытаемся сделать в этом разделе.
Начнем со следующего замечания: два эти варианта представляют собой две крайности, поскольку и во французской, и в русской традиции переводов По существуют более компромиссные переводческие решения, используя которые в наших работах мы могли бы несколько сгладить разногласие: например, «Демон извращенности» в переводе К. Бальмонта. Но это привело бы нас к двум неприемлемым последствиям: во-первых, мы перечеркнули бы текст Бодлера, ставший основанием для французской литературной традиции; во-вторых, рассыпалась бы аргументация наших коллег, ориентированных на французский текст. Даже если текст Бодлера является камнем преткновения для американских, российских и французских американистов, убрать этот камень с нашего пути не представляется возможным. Это был бы сизифов труд: хитросплетения английского и французского, стянутые нитями латыни и греческого, которые Бодлер задействовал в своем тексте, не оставляют нам иного выбора, кроме как попытаться понять логику его переводческих решений.
Для начала следует признать, что оба варианта не лишены формальных недостатков. Действительно, если русский вариант – «бес противоречия» – лексически кажется очень близким к английскому «the imp of the perverse», то фонетически («без противоречия») такой вариант представляется несообразным, хотя мог бы, наверное, порадовать По, пристрастного к разного рода каламбурам. Более того, русский вариант представляется неподходящим и по другой причине: русицизм «бес» несколько скрывает некоторую проблематичность, если не загадочность слова «imp», на котором остановил свой выбор американский поэт. На первый взгляд все просто: «imp», согласно различным словарям, – «бесенок», «дьяволенок», «чертенок», с подчеркнутыми коннотациями с «малостью», «детскостью», «недоразвитостью», в общем, что-то вроде «недобеса» или слишком хорошо известного «мелкого беса». Однако для По слово «imp» было не простое, а заветное, дорогое: неслучайно мы встречаем его анаграмму в имени собственном «Pym» в «Приключениях Артура Гордона Пима», где фигура автора довольно близка фигуре главного персонажа. Можно думать, что «бесенок» этот сидел в душе самого По: по существу, речь идет об олицетворении некоей психологической силы, что заставляет человека поступать себе во зло, о чем, собственно, идет речь в рассказе. Русское слово «противоречие» в «Бесе противоречия» несколько затемняет или сглаживает смысл английского слова «the perverse». Строго говоря, в английский язык это слово попало из латыни или французского около XIV века (from pervers, from perversus turned away (from what is right), contrary, askew, of pervertere to corrupt: «Этимологический словарь английского языка»): во всех оттенках его значения так или иначе присутствует смысл «извращения», «несоответствия норме», «отклонения от правила», «неправильности», «упрямства» и «упорства». Разумеется, нельзя наверное сказать, что По ясно чувствовал чужестранное происхождение слова, которое он выбрал для обозначения силы, толкающей человека поступать себе во вред, но определенно следует заметить несколько необычное использование этого слова в субстантивированной форме, поскольку гораздо чаще оно используется как прилагательное. Более того, в самом рассказе, как, впрочем, и в некоторых других текстах, писатель несколько раз использует производные от «perverse» словоформы (the perverseness, the spirit of the perverse, this spirit of perverseness), в ключевом пассаже «Черного кота» выделив PERVERSENESS заглавными буквами, что также указывает на особенное, авторское значение понятия. Разумеется, мы не хотим сказать, что По в своем рассказе представил набросок теории сексуальных и социальных извращений, или перверсий, которые будут разрабатывать психоаналитики и социальные антропологи в XX веке, тем не менее приходится констатировать, что русское слово «противоречие» недопереводит те смыслы, которые мог иметь в виду американский писатель, пытаясь представить свое понимание психологии современного человека, чье перверсивное поведение является своего рода ответной реакцией на стремление социума все свести к норме, рационализировать. Как замечает рассказчик «Демона перверсии», он останавливается на слове «the Perverse» за неимением более характерного термина (characteristic term), то есть По вполне сознает, что в своем споре с френологами он касается неизведанной области человеческой психологии, немотивированной движущей силы человеческого поведения, которую рассказчик «Черного кота» определяет как «первобытный импульс человеческого сердца» («the primitive impulses of the human heart»[35]35
Poe E.A. The Black Cat // The Complete Works of Edgar Allan Poe. Vol. 3. P. 852.
[Закрыть]). Словом, представляется, что такие слабые русские парафразы, как «упрямство» или «противоречие», не передают новизны и оригинальности антропологического открытия По, более того, полностью его скрывают. Настаивая на возможности сохранения в переводе чужеродного и наукообразного понятия «перверсия», важно еще раз подчеркнуть, что По подобрал подобающее имя не столько узкой категории сексуальных извращений, в классификации которых столь преуспел мировой психоанализ, перехвативший у американского писателя или его французского переводчика задушевное слово, сколько целому социальному сообществу, которое, только отчасти или потенциально принадлежа к криминальной или медицинской группе риска, может определяться в более нейтральной терминологии Мишеля Фуко как «ненормальные»[36]36
Фуко М. Ненормальные.
[Закрыть].
Вариант Бодлера «Le Démon de la perversion» неоднократно подвергался критике со стороны французских американистов[37]37
См., например: Richard C. Le Démon de la perversité.
[Закрыть]. Основные упреки автору «Цветов Зла» сводятся к тому суждению, что он значительно усилил смысл американского словосочетания, вынесенного По в заглавие одного из программных текстов. С этим нельзя не согласиться, однако логика Бодлера-переводчика в чем-то сродни рационациям самого По: он пытается предельно, если не чрезмерно рационализировать то, что американский писатель, возможно, только предощущал. Если вернуться к слову the imp, которое французский поэт передает французским словом le démon, то следует обратить внимание на два, по меньшей мере, обстоятельства. Во-первых, Бодлер верно схватывает внутреннюю форму американского исходного слова: «imp – a small demon or devil; mischievous sprite, Etymology: Old English impa bud, graft, hence offspring, child, from impian to graft, ultimately from Greek emphutos implanted, from emphuein to implant, from phuein to plant». Для него важно, что emphutos, к которому восходит imp, буквально означает «сеять семена в землю», в фигуральном значении глагол соотносится с внедрением в сердце человека духовной сущности, собственно Духа. Но французский поэт на место слишком высокопарного Esprit (Sprite) ставит существенное для него слово Démon, которое в его сознании соотносится не с романтической или христианской демонологией, а с «демоном Сократа» и со средневековыми буффонами, ломающими комедию на улицах и площадях: можно думать, что типологически «злокозненный демон» Бодлера не так уж далек от проказника «недобеса» По. Второе соображение касается слова perverse: как мы видели, самому По случалось использовать его в курсивной форме the spirit of the Perverse и подчеркивать особое значение в заглавных буквах PERVERSENESS. При этом особое значение понятия «перверсии» могло определяться в сознании американского писателя не только сосредоточенностью на темной стороне человеческой личности, но и своеобразным «поэтическим принципом», точнее говоря, страстью к игре слов, каламбурам и парономазиям: в общем, в слове Perverse По вполне был способен увидеть поразительное превращение одного из самых важных для него слов Verse (стих)[38]38
Более обстоятельную аргументацию такого прочтения см.: Justin H. Avec Poe jusqu’au bout de la prose. Р. 291 – 324.
[Закрыть]. Аналогичным образом Бодлер-переводчик мог включиться в словесную игру, тем более что ему самому доводилось играть с понятием версификация в сопоставлении слова le vers (стих) с лексемой les vers (червяки): «Ô vers! Noirs compagnons sans oreille et sans yeux / Voyez venir à vous un mort libre et joyeux»[39]39
Baudelaire Ch. Œuvres complètes. T. I. Р. 70.
[Закрыть]. Так или иначе, но вновь нельзя исключить возможности того, что в своем переводе «The Imp of the Perverse» французский поэт оказался ближе не только к букве оригинала, но и к игровому духу и словесным прыг-скокам самого «американского гения», который не столько демонизировал перверсию, сколько указывал на то, что человек вынужден жить, мириться и играть со своими страстями, несмотря на то что они могут нести ему гибель. Завершая это лексикографическое отступление, можно было бы даже заметить, что не будет большого преувеличения, если сказать, отдавая дань игре словами, которую так любили два собрата по перу, что местами метод перевода Бодлера выливается в своего рода перверсификацию текста По, не лишенную элементов невольной литературной мистификации, в которую, в сущности, выливается всякий гениальный литературный перевод, где один язык говорит вместо другого или делает такой вид. В сущности, почти любой перевод – литературный, тем более художественный – является своего рода перверсивным «двойником» подлинника, который всегда готов оставить другого с «носом».
Разумеется, охарактеризовав логику переводческих решений Бодлера, мы не можем оставить без внимания вопрос о соотношении текста По с русскими переводами. Не притязая на то, чтобы дать исчерпывающую картину истории переводов По в России, мы бы хотели представить здесь соображения именно по вопросу, вынесенному в заглавие этого раздела. В этой связи можно заметить, что канонический перевод В. Рогова все же обладает рядом преимуществ по сравнению с «демоном перверсии». Во-первых, по смыслу русское слово «бес» действительно ближе к английскому «imp», среди синонимов которого в английском языке назовем: devil, hellion, scamp, mischief, monkey, rapscallion, rascal, rogue, urchin. Можно предположить, что Бодлер пожертвовал точностью перевода ради благозвучия: слово démon звучит намного красивее, чем gobelin (goblin или hobgoblin по-английски), diablotin (small devil) или lutin (gnome, imp). Бесспорно, слово «демон» тоже находится в вышеуказанном семантическом ряду. Как известно, «Бесы» Достоевского были переведены на английский как «Demons» потому, что в английском переводе Евангелия в стадо свиней вселяются изгнанные Христом «демоны» (demons) (хотя альтернативный перевод – «The Possessed» (одержимые) – представляется более удачным). Тем не менее, несмотря на то что По вполне мог бы использовать английское слово «demon», он предпочел ему «imp» – и не только по изложенным выше «психологическим» соображениям, но и исходя из его лексических особенностей. В английском романе леди Джорджианы Фуллертон «Эллен Миддлон» (1844), который считается одним из литературных предшественников рассказа, речь идет об «органе разрушительности» (the organ of destructiveness) и «духе беспокойного неповиновения» (spirit of reckless defiance), которые толкают героя на поступки, противоречащие здравому смыслу[40]40
См.: The Complete Works of Edgar Allan Poe. Vol. 2. P. 1217.
[Закрыть]. Характерно, что По начинает рассказ с рассуждения о френологии и, заимствуя у Фуллертон слова «орган» и «дух», говорит также об импульсе, повторяя это слово пять раз в первых двух абзацах, прежде чем вывести формулу «the Imp of the Perverse». Бес или, точнее, бесенок (imp), заставляющий человека совершать иррациональные, саморазрушительные действия, и есть пресловутый импульс: impulse, imp-ulse. В сжатом пространстве текста По использует и другие «однокоренные» слова: impetuously, impatient, imperceptible, impossible, impertinent – приставка im – указывает на отрицание, но в то же время каждое из этих слов содержит в себе слог «imp»; точно так же русское бес-покойство (которому могло бы быть эквивалентно imp-atience у По) – это и отсутствие покоя, и одержимое, бесовское состояние. Слово «бес», таким образом, является удачной переводческой находкой, соответствуя английскому «imp» не только по смыслу, но и по форме. Не говоря уже о том, что демон, в отличие от беса или бесенка (imp), во времена По содержал, помимо указанных выше философских коннотаций (демон Сократа), откровенно готические, фантастические и религиозные, что явно диссонировало бы с общим настроем рассказа, сфокусированным на трудноуловимом внутреннем свойстве или качестве.
Не меньшие сомнения может вызывать слово «перверсия» уже в русском переводе французского perversité или английского the perverse. Для русского читателя XXI века само это слово, прочитанное сквозь призму работ Батая, Клоссовски, заново открытого в XX веке маркиза де Сада, неизбежно несет в себе эротические коннотации, отсылки к вполне определенному дискурсу, о чем уже упоминалось. Разумеется, у нас нет намерения впадать в противоположную крайность и деэротизировать По: характерно, что миф о По как об исключительно целомудренном (chaste) писателе доминировал в Америке на рубеже XIX и XX веков и, что примечательно, был производным от образа бодлеровского гения; целомудренность, чистота помыслов вменялись По как неоспоримое достоинство, которое хоть как-то должно было компенсировать его изрядно подмоченную репутацию[41]41
Об этом на рус. языке см.: Уракова А. Классик или герой? 100-летний юбилей По и его последствия. С. 195 – 205.
[Закрыть]. Более того, в своих рассказах, включая «Бес противоречия», По описывает убийство как сладострастное, предельно эротизированное действо, на что обратил внимание еще Д.Г. Лоуренс[42]42
Lawrence D.H. Studies in Classic American Literature. P. 66 – 81.
[Закрыть]; как было показано современными исследователями, такие его рассказы с мотивом «the imp of the perverse», как «Сердце-обличитель» и «Черный кот», отличает откровенный гомоэротизм[43]43
См. прим. 8 на с. 119 в наст. изд.
[Закрыть]. Тем не менее, переводя «the perverse» как «перверсию», мы рискуем совершить то, что в англоязычной гуманитаристике принято называть retrolabeling, а именно приписывание концептам автора иной эпохи современных коннотаций, их неизбежное осовременивание. Слово «противоречие», безусловно, отчасти сглаживает и деэротизирует «the perverse», но это не мешает ему очень точно выражать вложенную в концепт По мысль: его герои в самом деле поступают вопреки себе, противореча базовому инстинкту самосохранения и здравомыслия.
Наконец, несмотря на то что классические тексты – в том числе По – остро нуждаются в новых, более точных и современных переводах, не стоит забывать о таком явлении, как устоявшаяся традиция чтения; прижившийся в русскоязычной традиции перевод Рогова, который сумел вытеснить ориентированный на Бодлера бальмонтовский «демон извращенности», живет как бы своей жизнью, опознается и узнается. «Демон перверсии», разумеется, остраняет привычный концепт, в этом его новизна и сила, но он также диссонирует с «русским» образом По, не совпадающим ни с французским, ни с американским. В русскоязычной традиции, например, мы говорим об Эдгаре По, а не об Эдгаре Аллане По, что совершенно неприемлемо и недопустимо для англоязычного читателя или исследователя. Однако попытки изменить этот факт означали бы вызов всей истории рецепции По в России и потому вряд ли бы прижились. Авторы и переводчики нашей книги, которые используют «бес противоречия», таким образом пытаются учесть в том числе историю перевода иноязычных текстов на тот язык, на котором мы о нем пишем.
Так или иначе, но, представив редакторские сопозиции по разночтениям, встречающимся в нашей книге, укажем в завершение этого раздела еще на странное и загадочное обстоятельство, в котором можно увидеть своего рода продолжение «русской саги» американского писателя, среди действующих лиц которой наряду с Бодлером оказывается не только Достоевский, но и еще один русский литератор, поспособствовавший тому, чтобы русские читатели познакомились с творчеством По, а также открывший России поэзию «Цветов Зла».
Загадка, настоящая исследовательская проблема или просто лакуна, которую пока никто не смог заполнить, заключается в том, что уже упоминавшаяся первая версия эссе Бодлера «Эдгар По, его жизнь и его творения» впервые увидела свет не во Франции, а в России: в феврале 1852 г. анонимный русский перевод большого фрагмента этого этюда был напечатан в петербургском журнале «Пантеон». Публикация давалась под таким названием: «Шарль Бодлэр. Эдгар Поэ северо-американский поэт». Нельзя сказать, что это была первая публикация о По в России, однако можно со всей уверенностью утверждать, что перевод работы Бодлера был самой яркой работой об авторе «Золотого жука». Во всяком случае, именно из нее мог исходить Достоевский, когда, едва успев обжиться в Петербурге после возвращения с сибирской каторги, решил опубликовать три рассказа Эдгара По в своем журнале «Время», словно бы отдавая какой-то запоздалый долг чести тому, кого он называл «вполне американцем»[44]44
См. комментарии М.А. Турьян к этой публикации, где представлены также сведения о первых переводах По в России: Достоевский Ф.М. Собрание сочинений. Т. 11. С. 479 – 480.
[Закрыть]. Таким образом, перед нами снова это странное петербургское сплетение теперь уже строго литературных событий: возвратившись из Сибири, которой некогда грозили По его горе-биографы, русский писатель публикует на страницах своего журнала «Время» три рассказа американского писателя, внимание к которому мог пробудить в нем именно очерк Бодлера.
Несмотря на то что автор перевода статьи Бодлера о По, появившейся в «Пантеоне», предпочел сохранить анонимность, у нас есть своя версия, кем мог быть этот безвестный доброхот: здесь мы отсылаем к недавней книге о Бодлере, которая завершается главой о Н.И. Сазонове (1815 – 1862), полузабытом русском друге великого французского поэта, которому довелось быть заклятым другом-недругом уже упоминавшегося Герцена и одновременно… русским знакомцем небезызвестного писателя-фантаста Карла Маркса: русский нищий аристократ и люмпен-интеллектуал, типичный старьевщик от литературы, набиравший кучи разных диковин для французских и русских журналов и обретавшийся в Париже в кругу богемы à la Мюрже, чуть было не стал первым переводчиком «Манифеста коммунистической партии» (1848) на французский язык[45]45
Фокин С.Л. Пассажи: Этюды о Бодлере. С. 59 – 78, 168 – 221.
[Закрыть]. Сазонов действительно был человеком, который все время кого-то и что-то опережал: в частности, еще до появления самой книги «Цветы Зла» в Париже в 1857 г. он умудрился опубликовать перевод поэмы «Утренние сумерки» в петербургском журнале «Отечественные записки» (в самом начале 1856 г.), включив свое переложение в прозе, а также французский оригинал поэмы «Флакон», еще даже не появившейся во Франции, в свою замечательную работу о новейшей французской поэзии, напечатанную под псевдонимом Карл Штахель[46]46
Штахель К. Новейшая поэзия во Франции, в Италии и в Англии. С. 1 – 21.
[Закрыть]. Сазонов, этот птенец аристократической русской культуры, уже в детстве щебетавший на нескольких иностранных языках, в пятнадцать лет выпорхнувший из рязанского «дворянского гнезда», блистательно окончивший Московский университет кандидатом наук и сгинувший в забвении где-то в Женеве, оказался, таким образом, первым европейским критиком, по достоинству оценившим гений Бодлера. В своем этюде он писал, что Бодлер «поэт истинный и поэт парижский… в нем одном… выражается непобедимое стремление к поэтической оригинальности и независимости»[47]47
Там же. С. 16.
[Закрыть]. Остается добавить, что в этом намеренно энциклопедическом и очень ироническом этюде о новейшей французской поэзии, вышедшем в свет в петербургских «Отечественных записках», в разделе, посвященном Бодлеру, встречается одна фраза, которая как будто нарочно возвращает нас к теме придуманных путешествий, точнее, к той легенде великого и неутомимого путешественника, которую создавал себе поэт «Цветов Зла» и которая явственно перекликается по своей несообразности с «петербургскими повестями» По. Действительно, рассказывая о кругосветном путешествии, которое якобы совершил молодой Бодлер, Сазонов вдруг выпалил такую фразу: «он вернулся не из Камчатки и не алеутом». Загадка этой фразы даже не в том, почему Сазонов, характеризуя парижского поэта, использует то ли образ Чацкого из «Горя от ума», то ли фигуру одного из реальных его прототипов Федора Толстого, прозванного, как известно, Американцем за невероятную тягу к разного рода сомнительным приключениям, женщинам, картам и вину. Истинная литературная загадка здесь в другом: отныне образ далекой Камчатки станет путеводной звездой Бодлера, в чем-то соответствующей «Петербургу» По. Правда, следует уточнить, что эта «романтическая Камчатка», через которую дядюшка Сент-Бёв определял место автора «Цветов Зла» в современной французской литературе[48]48
Ср: Huet-Brichard M. – C. Sainte-Beuve à la lumière de Baudelaire: «la pointe extrême du Kamtchatka romantique».
[Закрыть], соотносилась больше все-таки с Сибирью, которая оставалась для него, бездомного парижского поэта, чем-то вроде заветной формулы истинно родного дома, теплого или даже жаркого:
В чуть более верном букве подлинника переложении прозой, свободной от требований и экваритмики, и экварифмования, формула поэтического удела Бодлера может предстать чуть более вычурной, но более соответствующей мысли парижского поэта, сравнивающего боготворимую женщину с «черной Сибирью» своего бытия:
Таким образом, подводя итог этому разделу, можно сказать, что по иронии столь разнородных и столь сходственных литературных судеб Петербург, «самый фантастический город, с самой фантастической историей из всех городов земного шара», как будто сам по себе притягивал наших «национальных гениев», по очереди познававших в нем – кто в грезах, кто наяву – нищету писательского удела, все время низводящую поэта с романтических высот на грешную землю, превращающую его в червя, в люмпен-интеллектуала или старьевщика от литературы, вечно грозящую ему «черной Сибирью», и роскошный блеск литературного признания, как правило запоздалого, посмертного или незамеченного.
III. О национальных гениях, демонах и духах
В литературе европейского романтизма проблема гения приобретает особое звучание и значение не только в связи с необычайной валоризацией творческой индивидуальности: само понятие «гений», обладавшее до Французской революции почти исключительно метафизической направленностью, в течение нескольких десятилетий становится более приземленным, более человечным, едва ли не расхожим, воистину демократическим, во всяком случае, способным вселиться в первого встречного, в человека толпы[51]51
Подробнее см.: Фокин С.Л.Меланхолия национального гения, или О литературном национализме По, Бодлера, Достоевского. С. 376 – 379. Цитируемая работа была написана для конференции «По, Бодлер, Достоевский», но в силу институциональных и издательских требований была включена в другую книгу. Вот почему мы воспроизводим здесь некоторые ее положения.
[Закрыть].
Появление «Гения христианства» (1802) Шатобриана знаменует начало обмирщения этого понятия. «Словарь Французской Академии» издания 1835 г. наглядно фиксирует этот семантический сдвиг в словоупотреблении[52]52
Единственное, но многозначительное изменение, которое появляется в статье «Гений» в «Словаре Французской Академии» 1835 г. по сравнению с изданием 1798 г., заключается в добавлении следующей дефиниции: «Le génie d’une nation, d’un peuple. Le caractère, la manière de voir, de penser qui lui est propre» («Гений нации, народа. Свойственные ему характер, манера видеть и мыслить»).
[Закрыть], свидетельствующий о том, что во французской культуре начала XIX века слово «гений» начинает утрачивать привязки к сакральному миру, где художник все время уподоблялся высшему Творцу, равно как к миру эстетическому, где художественный гений формулировал законы искусства, которые были подобны законам сотворенной Богом природы: вырываясь из этого миметического круговорота, «гений» вторгается в область политики и изобретения самого себя исходя из ничто.
Приобретая исключительную силу самоповторения, «гений» в бесконечном представлении самого себя начинает воспроизводить грезы целого народа, мифы, фантомы или фикции целой нации, тогда как последняя все явственнее притязает на вакантное место трансцендентности.
Именно в этот момент в европейской, американской и русской культурах вырисовывается парадоксальная ситуация, в которой собственный гений рода или народа – как способ видеть, мыслить, выражать себя и мир – не только объявляется «национальным достоянием», но и оказывается тем единственным видом частной собственности, который невозможно подвергнуть отчуждению. Словом, национализация «гения» сопровождается радикальной приватизацией той манеры видеть и мыслить мир, к каковой великий В. фон Гумбольдт сводил сущность национального языка. Очевидно, что перспектива такого рода приватизации языка как единственного неотчуждаемого блага особенно захватывает тех индивидов, что в самой своей жизни так или иначе делают ставку на отчуждение себя от общества: политический заговор (Достоевский), парижские баррикады (Бодлер), социальный эксцентризм (По). Словом, если в условиях все время усиливающегося господства капитала действительно можно было полагать, как это делал Карл Маркс, что мировому пролетарию нечего терять, кроме своих цепей, то при тех же самых обстоятельствах иной национальный поэт волей-неволей сживался с той мыслью, что у него тоже за душой нет ничего, точнее говоря, нет ничего собственного, кроме манеры видеть, мыслить и изъяснять себя на родном языке, творить национальную литературу.
Таким образом, в наиболее существенных своих движущих силах литературный национализм никогда не являлся ни призванием, ни достоянием национальных героев; это скорее удел национальных изгоев, последнее прибежище последних людей, которые мало того что сами себя загоняли в незавидное положение опасных эксцентриков, чуждых своему времени, своему месту, всему своему как таковому, но и неизменно сталкивались с теми или иными формами социального исключения, в том числе со стороны тех, кого как будто имели право считать своими ближними или своим кругом. Словом, именно тем, кого с легкой руки Поля Верлена стали без особого разбора именовать «проклятыми поэтами», нередко случалось превращать себя в настоящих злых гениев или демонов нации: в действительности, упорствуя в своей эксцентричности, в своих психопатиях и социопатиях, эти поэты зачастую выступали глашатаями нечистой совести, криводушия (mauvaise foi) или просто бессознательного целой национальной культуры. Иначе говоря, национальный гений живет не столько в том, кого сама нация хотела бы видеть собственным полномочным представителем в литературе, сколько в том, кого она посредством своих литературных, социальных и политических установлений загоняет в угол, подполье, тупик, выгоняет на улицу и превращает в профессионального фланера, который, правда, бродит по бульварам и рыночным площадям больших городов вовсе не из праздности беззаботного денди, а в силу той «закоренелой Болезни отвращения к постоянному месту жительства», о которой писал Бодлер в «Моем обнаженном сердце», сменивший за свое почти невыездное парижское существование около тридцати адресов. Одним словом, национальный гений – это такой самобытный кочевник, или номад, который путешествует, оставаясь сиднем на месте: таков Бодлер в Бельгии, Достоевский в первом путешествии во Франции или По в своих фантазиях о путешествиях в Россию или во Францию.









































