Текст книги "Литературоведческий журнал №38 / 2015"
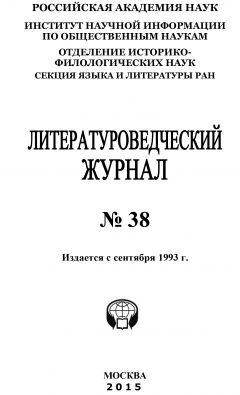
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)
Для Достоевского эпохи «Бедных людей», идеалиста и романтика, утопического социалиста, члена тайного революционного общества, эти исторические параллели были животрепещущими.
После возвращения из Сибири, где произошли «два события, определяющие всю его дальнейшую судьбу: встреча с Христом и знакомство с русским народом»215215
Мочульский К. Достоевский. Жизнь и творчество. YMCA-Press. – Paris. 1980. – C. 535.
[Закрыть], Достоевский, человек уже иных убеждений, переосмыслил и романтические образы, питавшие его воображение в юности. Следствием этого переосмысления, по всей видимости, и является феномен разрушения рыцарских миров, замеченный автором в произведениях писателя: в главном герое романа «Идиот» «Достоевский замыслил соединить высшую несословную совесть и высшее духовное рыцарство»216216
Сливкин Е. «Танец смерти» Ганса Гольбейна в романе «Идиот». – С. 81.
[Закрыть].
Джеймс Сканлан отмечает, что «Достоевский постоянно ограничивает (нравственную) красоту альтруизмом. Это видно из контекста, где он явно отказывает эгоизму в “красоте” или “прекрасном”, так что эгоизм оказывается столь же противоположен (нравственной) красоте, как и нравственной добродетели»217217
Scanlan J.P. Dostoevsky the Thinker. – Itaca and London, 2002.
[Закрыть]. Смешной человек Достоевского также считает, что эгоизм уничтожает красоту. Когда он впервые встречает людей утопической земли, он поражается их красоте, которая в этой притче становится символом внутренней сути этих людей. Нравственная красота этих «детей солнца» неразрывно связана с их безграничной взаимной преданностью, с их «влюбленностью друг в друга», «всецелой, всеобщей»218218
Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского: В 30 т. – Там же. – Т. 25. – С. 112–114.
[Закрыть], но затем, развращенные его присутствием, они опускаются до разнузданного эгоизма, отходят от альтруизма; «каждый возлюбил себя больше всех». И это конец их красоты и он горько оплакивает потерю этими людьми того состояния, когда они были невинны и столь прекрасны»219219
Там же. – Т. 25. – С. 116–117.
[Закрыть].
«Одновременность» добра и зла в князе Мышкине – это, по мнению американского слависта Аркадия Неболсина, «героическая тема»220220
Nebolsine A. Simultaneity of Good and Evil: The case of Lebedev // F.M. Dostoevsky, 1821–1881. – N.Y., 1971. – P. 93–104.
[Закрыть] в творчестве Достоевского. Дуализм человеческой души, соединение «страдания» и «наслаждения» – признак самосознания человека, залог понимания его нравственного долга перед самим собой и человечеством. Это противоречие в душе человека будет преодолено благодаря обращению к Христу, к красоте, которая спасет мир. Но в романе «Идиот» князь Мышкин, являющийся воплощением этого идеала, на самом деле терпит поражение в своих попытках преодолеть этот дуализм человека. По мнению Джозефа Фрэнка, трагический конец героя ни в коей мере «не подрывает трансцендентного идеала христианской любви», который князь старается принести в мир и полное осуществление которого свыше сил любого земного человека221221
Frank J. The Miraculous Years. – P. 340–341.
[Закрыть]. Н. Минихен подчеркивает, что подлинность и глубоко личный характер веры Мышкина сделали особенно впечатляющим финальные сцены романа. Достоевский многократно варьировал в черновиках трагический конец своего героя, но решение омрачить его рассудок, вероятно, пришло к писателю как озарение. Из письма Достоевского А.Н. Майкову от 11/23 декабря 1868 г. явствует, что писателя удовлетворяло трагическое завершение романа.
Американские литературоведы развивают концепцию К. Мочульского об «апокалиптическом видении мира»222222
Мочульский К. Достоевский: Жизнь и творчество // Мочульский К. Гоголь, Соловьёв, Достоевский. – М., 1995. – С. 400.
[Закрыть] в романе «Идиот». С точки зрения Ганны Боград223223
Боград Г. «Мифотворчество Достоевского (К теме Апокалипсиса в романе «Идиот»)» // Достоевский. Материалы и исследования. – СПб. – Т. 16. – С. 342–351.
[Закрыть], «обширный апокалиптический подтекст» напоминает о себе в романе Достоевского в виде описания отдельных знаков – предметов, зданий, линий, – связан как непосредственно с трагическими моментами из жизни самого Достоевского, так и с петербургской действительностью. В существующей планировке пространства Петербурга Достоевский видел высший смысл, знак, указующий на судьбу героев романа. Подобный знак мог сочетаться с другими предметами. При этом расширялось значение символа, и это придавало ему особый смысл и тайну. Петербургский миф находит свое продолжение в романе «Идиот» в виде образа Христа в гробу, «в воскресение которого трудно поверить». В монографии Дэвида Бетеа224224
Bethea D. The Shape of Apocalypse in Modern Rushian Fiction. Ch. One: The Idiot: Historism Arrives at the Station. – Prinston; New Jersey, 2005. – P. 62–104.
[Закрыть] прослеживается роль железной дороги как жестокой механической силы, влияющей на судьбы героев романа «Идиот» и символизирующей Апокалипсис.
В «Дневнике писателя» 1877 г. Достоевский проникновенно писал о значении романа Сервантеса: «Эту самую грустную из книг не забудет взять с собою человек на последний суд Божий. Он укажет на сообщенную в ней глубочайшую и роковую тайну человека и человечества»225225
Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского: В 30 т. – Т. 26. – С. 25.
[Закрыть].
К истории антропонима Дон Кихот / Дон Кишот
А.А. Илюшин
Аннотация
В статье рассматривается история бытования имени героя романа Сервантеса в русской культуре XVIII–XXI вв.
Ключевые слова: имя, антропонимика, Дон Кихот, донкишотство, русская литература.
Ilyushin A.A .On the history of anthroponimics: Don Quixote / Don Quishote
Summary. The article deals with the associative variations of the name of Don Quixote in the context of Russian literature of XVIII–XXI centuries.
В XVIII – первой трети XIX в. в России Дон Кихот чаще именовался Донкишотом, т.е. не на испанский, а на французский манер, равно как имя другого знаменитого испанца, будь то Хуан или Гуан, порой подменялось офранцуженным вариантом Жуан (занятно, что в гончаровском романе «Обрыв» героиня видит в своем знакомом черты то Дон Кихота, то Дон Жуана: весьма странное сближение одного с другим).
Итак: Гуан – Жуан; Кихот – Кишот. Чередующиеся согласные внутри той и другой пары – задненебный и шипящий. В первой паре корреспондируют «Г» и «Ж», во второй «Х» и «Ш». Словно бы память о наследстве, доставшемся нам от глубокой древности, когда продуктивно взаимодействовали указанные звуки. В самом деле: Богу – Божье, грех – грешник…
Нечто из области антропонимики: что нам подскажет и подскажет ли имя Дон Кишот?
Один из самых ранних русских переводов романа Сервантеса опубликован в 1769 г. Перевод, конечно, с французского (испанским тогда мало кто владел). Переводчик, предположительно, И.А. Тейльс. В названии значится имя главного героя – Дон Кишот. Лексикон русского языка XVIII в. изобилует словами, производными от этого имени, разными частями речи – существительными, глаголами и прилагательными: донкишотизм, донкишотство, Дон Кисхотисмо, Дон Кишотов, Донкишотский и даже затейливое словцо донкишотствовать.
Не менее интригующей представляется загадочная словоформа «Кисхотисмо». Попробуйте доказать (а ведь так оно и есть), что здесь конечное «о» признак среднего рода существительного. Нелегко, хотя и возможно. Или то, что буквосочетание «исм» не что иное, как вариант суффикса «изм» (и такое бывает). Или, наконец, согласиться с тем, что рассматриваемый антропоним не возбраняется произносить словно бы на французский лад, в результате чего «Кисхот» займет свое место где-то между Кишотом и Кихотом (впрочем, этот сюжет продолжения не получил).
Между тем завершался XVIII в., наступило новое столетие. Постепенно забывалось имя несравненного идальго – имя, оснащенное литерою «ш», – и звучало иначе: Дон Кихот. Не по-старинному, а современно. Впрочем, подчас давала о себе знать и архаика, и модернизация. Это, к примеру, когда в позднейших публикациях предпочтение отдается устаревающим правописательным нормам («Кишот» вытесняет «Кихота»), либо, напротив, предпочли что-нибудь поживее и посвежее («Кихот» вытесняет «Кишота» – каждому свое).
Неожиданным образом имя Дон Кишот появилось на страницах пушкинской «Капитанской дочки» в пропущенной главе этого произведения, где Швабрин угрожает своему милейшему недругу и его семье тем, что сожжет «анбар», в котором они укрылись от посягательств злодея. К тому же оскорбляет Петрушу, называя его «Дон Кишотом белогорским», да еще и «рыцарем». В его устах такие слова звучат издевкою. Мотивы рыцарства варьируются в разных сочинениях Пушкина, но прямого отношения к «Капитанской дочке» они не имеют. И мало чем похож ее умеренный центральный персонаж на рыцаря безумного Кишота.
Упоминания о Рыцаре печального образа, каковым именовался Дон Кишот, находим у самых крупных писателей: Державина, Радищева, Карамзина, Жуковского, Пушкина. Их отзывы, мягко говоря, не слишком положительные. Первый из названных похвалил Екатерину II за то, что государыня не «донкишотствует», т.е. не подражает Дон Кишоту. Карамзину надоело скитаться по свету, уподобляясь странствующему рыцарю, о котором в ироническом тоне писал и Радищев. Умолчим о безымянных борзописцах, лихо поддерживавших невыгодную репутацию сервантовского героя: фантазер, безумец, мечтатель, идеалист и пр. И грубее: сумасшедший, сумасброд. И противоречиво: хитроумный, наивный. И насмешливо: забавнейший, мудрейший. И понятно какой: храбрый, рыцарственный. И непонятно какой – неизъяснимый.
Всех нежнее – и осторожней – из перечисленных выше литераторов прикоснулся к нашему герою Жуковский, чего и следовало ожидать – поистине добрая душа. В самом начале нового столетия создал цикл стихотворений «Из Дон Кихота». Стихи как стихи, средней пробы, но завершаются необычным катреном – эпитафией рыцарю, чье имя начертано привычным для нас способом: не через Ш, а через Х. Так в общем названии всего цикла. Текст же эпитафии следующий:
Здесь тот покоится, кто целый век скитался,
Был добрый человек, и свято чтил закон,
Когда б забавнейшим безумцем не был он,
Тогда б из мудрецов мудрейшим почитался.
(Заметим попутно, что посредником между Жуковским и Сервантесом был французский писатель Флориан, перелагавший произведения испанского писателя на свой родной язык.)
Что же касается причины, согласно которой Пушкин не мог или не хотел в написании рыцарского антропонима использовать орфографию, принятую учителем (Жуковским), то объяснить подобную странность представляется делом несложным: пусть офицер той (пугачёвской) эпохи изъясняется сугубо по-тогдашнему (не «Кихот», а «Кишот»). Иначе получится какой-то в своем роде стилистический антиисторический анахронизм, «смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний».
Лишь достигая развязки романа «Дон Кихот», читатель наконец уясняет, каково же настоящее имя главного героя: Алонсо Кихано! Обращает на себя внимание некая сопоставимость созвучий. Два ассоциативных ряда, где подлинное имя героя сцеплено с псевдонимами: Кихано / Кихот / охота / недоброхот и Кихано / Кишот / кишмя кишат / кишка кишке кукиш кажет и пр. Который из этих рядов предпочтительней? Дело вкуса. Важнее почувствовать, что имя Кихано уже не рыцарское, а скорее домашнее, обыденное (в отличие от псевдонимов). Вернувший его себе герой вовсе уже и не психопат, а просто нормальный пожилой мужчина (готовый достойно встретить неизбежную смерть).
Явление Дон Кихота не осталось незамеченным русскими литераторами середины второй половины XIX в. О нем думали, говорили, спорили Белинский и Герцен (критика и публицистика), Островский (драматургия) и Достоевский (психологическая проза) и Ап. Григорьев («в этом донкихотстве диком» – из поэмы «Venezia la bella»).
Особенно интересной представляется статья-лекция Тургенева «Гамлет и Дон Кихот». И тот и другой мудрецы, хотя каждый не в своем уме. Кихоту пришлось пострадать наиболее тяжко: незадолго до кончины рыцаря его топчет ногами большое стадо свиней. Почему, зачем это понадобилось Сервантесу – вводить в роман такой эпизод? Ответить на этот вопрос было бы затруднительно, не прочитав в тургеневской статье абзац, начинающийся словами: «Многие восставали», и не вспомнить евангельское наставление (Матф. 7, 6).
К вящему исходу позапрошлого столетия увидела свет героическая комедия Ростана «Сирано де Бержерак», мастерски переведенная на русский язык Т.Л. Щепкиной-Куперник. Там один граф задает заглавному герою вопросы, а тот на них отвечает. Вот отрывок из их разговора:
– Скажите, Вы читали Дон Кихота?
– Читал.
– И что вы скажете о нем?
– Что шляпу снять меня берет охота
При имени его одном.
Послышав имя (одно только ИМЯ!) заочно чтимого им рыцаря, Сирано охотно снял бы шляпу – в знак уважения к нему. Такова уж притягательная сила поэтической антропонимии. Кихот щедро наделен ею (этой силою). Да и Сирано не из числа отстающих. Несмотря на свой пиетет к Кихоту, называет его по-французски с гасконским выговором – хурлюберлю (т.е. чудаком, сумасбродом). Им бы для компании раздобыть еще одного забияку-гасконца – желательно д’Артаньяна, который, кстати, однажды появляется на сцене. Славные ребята, «рождены под полуденным солнцем и с солнцем в крови», – восторгался Горький. Не то что мы, люди с прокисшей кровью.
Из истории нашей литературы в минувшем веке: что здесь все-таки нового? Допустим, дерутся двое. Нападающая сторона орудует чем-то тяжелым, т.е. наносит удары, противник обороняется, прикрываясь подушкой («древние только форсили сверкающими щитами: подушка!»). Вот мы пересказали своими словами эпизод драки из шукшинского рассказа «Микроскоп», но ведь точно этими же словами можно изложить эпизод поединка между Дон Кихотом и бискайцем. Случайность это или преднамеренная реминисценция – определить нелегко. Возможно, что невольное подражание.
В советское время Дон Кихот стал кумиром юных пионеров подросткового возраста. Впрочем, среди нас был мальчик-скептик, которому ничего не нравилось. Бывало, поем хором: Ваша подруга Рита / Очень на вас сердита, / Шлет вам подарок – / Букет фиалок… А он ворчит: глупо… зачем дарить цветы тому, на кого сердишься? И далее, из той же песни: Он был большой повеса, / С силою Геркулеса, / Храбрый, как Дон Кихот… А наш скептик опять за свое: да разве был он храбрым? Чепуха какая-то! Пожалуйста, вот из другой песни: на турнирах, на пирах и на охоте / Ходят слухи об отважном Дон Кихоте… и снова неприятие: якобы не был Кихот отважным, да и вообще его не было. Избави Бог от этаких судей.
Вчерашний день, часу в шестом. Вступаем в область современного анонимного стихотворства, где принято скрывать свое имя. Сочинен предназначенный для первопубликации акростих на тему о том, как рыцарь и его оруженосец решили отдохнуть и поиграть в шахматы. Имена персонажей (в отличие от авторских) говорят сами за себя: Санчо, Донкишот, чей монолог охватывает весь текст этого стихотворения. Антропонимические ухищрения – см. богатое созвучие к словам «тонкий ход» – неброски. Идея проста и гуманна: любите слуг своих, будьте с ними на равных. Манера говорить – непринужденная, доверительная: задушевность интонации.
Друг мой Санчо, отдыхаем?
Ой ли, в шахматки сыграем.
На вот, расставляй фигуры,
Кони – звери, пешки – дуры,
И король, и краля тут!
Шах и мат за пять минут!
Ох, какой недоброхот…
Тонкий ход, впрямь тонкий ход…
Такую версификационную форму можно назвать дериватом русского четырехстопного хорея ААББввгг в его «гишпанском» варианте, поскольку нечто испанское там все же имеется. Безымянные строки, имитирующие ритмику «Поэмы о Сиде», побуждают вспомнить о других, ранних опытах в этом деле: Жуковский, Катенин, Пушкин, Козьма Прутков (пародии). Они в таких случаях обходились вообще без рифм: белый стих. Автор акростиха решил воспользоваться рифмовкой, да еще изысканной.
…Кому-то примерещилось странное, он вопрошал и сам же отвечал на свой вопрос: кто этот однорукий чудак, который сидит на лавке под деревенским навесом и ждет, когда ему дадут пообедать? Это Сервантес.
Публикации
Тайна. Из записной книжки писателя 226226
Продолжение. Начало публикации см.: Литературоведческий журнал. – М., 2015. – № 37. В тексте соблюдены авторская орфография и пунктуация.
[Закрыть]
Главы XXVI–XXXVIII
XXVIВ.В. Розанов
В «Подростке», 1875 г., есть чуть-чуть мелькающая фигурка Тришатова, странного мальчика, т.е. собственно уже молодого человека, но который, однако, везде называется и почему-то производит действительно впечатление мальчика. В нем есть нега, и совершенное отсутствие твердых, мужественных частиц. Он – член общества шантажистов и мошенников, руководимого Ламбертом, наглым и глупым негодяем, который, характеризуя его, кратко говорит:
«– Это тебе Тришатов нашептал на меня: я видел – вы там шептались. Ты – дугхак после этого. Альфонсина так даже гнушается, что он к ней подходит близко… Он мерзкий» (с. 426).
И действительно, когда, вытянув шею, хорошенький мальчик попросил ее раз поправить ему галстух, эта француженка, которой Ламберт говорит как собаке: «тубо», дико от него отстранилась:
«– Ah le petit vilain, – ne m’approchez pas, ne me salissez pas…»227227
А, гадкий мальчишка, – не подходите ко мне, вы меня запачкаете… (фр.).
[Закрыть] (с. 415).
Мальчик «такой хорошенький и щегольски одетый» (с. 415) действительно в самом складе речей представляет какую-то немужскую гибкость, даже когда негодует и выходит из себя:
«– Позвольте, Ламберт; я прямо требую от вас сейчас же десять рублей, – рассердился он и вдруг стал от этого еще вдвое лучше: – и не смейте никогда говорить глупостей, как сейчас Долгорукому. Я требую десять рублей, чтобы сейчас отдать рубль Долгорукому, а на остальные куплю Андрееву тотчас шляпу – вот сами увидите» (с. 415).
Шепот с «подростком»-Долгоруковым действительно был: это – в татарском трактире, после грязной и грубой сцены, в которой наскандалил «долговязый» и вечно неумытый Андреев, которого Ламберт держал на недорогой роли «буяна», «драчуна», «скандалиста» в нужных местах, нужную минуту и для нужной цели: общество было сложное и шантаж составлял только одну и самую ценную сторону его доходов. Когда поднялся шум, Тришатов с чашкою кофе перешел с своего места ко мне и сел со мною рядом.
– Я его очень люблю, – начал он мне с таким откровенным видом, как будто всегда со мной об этом говорил.
– Вы не поверите, как Андреев несчастен. Он проел и пропил приданое своей сестры, да и все у них проел и пропил в тот год, как служил, и я вижу, что он теперь мучается. А что он не моется – это он с отчаяния. И у него ужасно страшные мысли: он вам вдруг говорит, что и подлец, и честный – это все одно и нет разницы: и что не надо ничего делать, ни доброго, ни дурного, или все равно – можно делать и доброе и дурное, а что лучше всего лежать, не снимая платье по месяцу, пить, да есть, да спать – и только. Но поверьте, что это он – только так. И знаете, я даже думаю, он это теперь потому накуролесил, что захотел совсем покончить с Ламбертом. Он еще вчера говорил. Верите ли, он иногда ночью или когда один долго сидит, то начинает плакать, и знаете, когда он плачет, то как-то особенно, как никто не плачет; он заревет, ужасно заревет, и это, знаете, еще жальче… И к тому же такой большой и сильный и вдруг – так совсем заревет. Какой бедный, не правда ли? Я его хочу спасти, а сам я – такой скверный, потерянный мальчишка, вы не поверите! Пустите вы меня к себе, Долгорукий, если я к вам когда приду?
– О, приходите, я вас даже люблю.
– За что же? Ну, спасибо. Послушайте, выпьемте еще бокал. Впрочем, что ж я? Вы лучше не пейте. Это он правду сказал, что вам нельзя больше пить, – а я все-таки выпью. Мне уже теперь ничего, а я, верите ли, ни в чем себя удержать не могу. Вот скажите мне, что мне уже больше не обедать по ресторанам, и я на все готов, чтобы только обедать. О, мы искренно хотим быть честными, уверяю вас, но только мы все откладываем,
А годы идут – и все лучшие годы
А он, я ужасно боюсь – повесится. Пойдет и никому не скажет. Он такой. Нынче все вешаются; почем знать – может много таких, как мы? Я, например, никак не могу жить без лишних денег. Мне лишние гораздо важнее, чем необходимые. Послушайте, любите вы музыку? Я ужасно люблю. Я вам сыграю что-нибудь, когда к вам приду. Я очень хорошо играю на фортепьяно и очень долго учился. Я серьезно учился. Если б я сочинял оперу, то знаете, я бы взял сюжет из Фауста. Я очень люблю эту тему. Я все создаю сцену в соборе, так, в голове только воображаю. Готический собор, внутренность, хоры, гимны, входит Гретхен, и знаете – хоры средневековые, чтобы так и слышался пятнадцатый век. Гретхен в тоске, сначала речитатив, тихий, но ужасный, мучительный, а хоры гремят мрачно, строго, безучастно
И вдруг – голос дьявола, песня дьявола. Он не видим, одна лишь песня, рядом с гимнами, вместе с гимнами, почти совпадает с ними, а между тем, совсем другое – как-нибудь так это сделать. Песня длинная, неустанная, это – теперь, непременно теперь. Начинает тихо, нежно: «Помнишь, Гретхен, как ты, еще невинная, еще ребенком, приходила с твоей мамой в этот собор и лепетала молитвы по старой книге?» Но песня все сильнее, все страстнее, стремительнее; ноты выше: в них слезы, тоска, безустанная, безвыходная, и, наконец, отчаяние: «Нет прощения, Гретхен, нет здесь тебе прощения!» Гретхен хочет молиться, но из груди ее рвутся лишь крики – знаете, когда судорога от слез в груди – а песня сатаны все не умолкает, все глубже вонзается в душу, как острие, все выше – и вдруг обрывается почти криком: «Конец всему, проклята!» Гретхен падает на колена, сжимает перед собой руки – и вот тут ее молитва, что-нибудь очень кроткое, полуречитатив, но наивное, без всякой отделки, что-нибудь в высшей степени средневековое, четыре стиха, все его только четыре стиха – у Страделлы есть несколько таких нот – и с последней нотой обморок! Смятение. Ее подымают, несут и тут вдруг громовой хор. Это – как бы удар голосов, хор вдохновенный, победоносный, подавляющий, что-нибудь вроде нашего Дори-носима чин-ми-так, чтоб все потряслось на основаниях, и все переходит в восторженный, ликующий, всеобщий возгласс: Hossanna! – Как бы крик всей вселенной, а ее несут-несут…
Идея – «осанны», как и «всемирной гармонии», с которою она не смешивается, среди которой она является как минута в веках, как лирика в эпосе, – есть одна из кардинальных идей Достоевского. «Осанна» небес, целого мiра… но ведь за что? за четыре строчки речитатива? Тут – не к ней «осанна», тут из какой-то груди «осанна», «сотрясение небес», и мы опять оглядываемся: где? в каких точках? из которой груди?
«– Ne m’approchez pas, ne me salissez pas…»
Кстати, в оставленной или почти забытой, за внезапною кончиной, «Записной книжке» Достоевский записал: «Моя осанна сквозь горнило испытаний прошла…».
«– И вот тут – занавес! Нет, знаете, если б я мог, я бы что-нибудь сделал! Только я ничего уже теперь не могу, а только все мечтаю. Я все мечтаю, все мечтаю; вся моя жизнь обратилась в одну мечту, я и ночью мечтаю…».
Как бы разрежение души, как бы колебание ее как полотна эфира – предварение тех слез и молитвы, которые мы читали у Кирилова и «хромоножки». Почему, однако, это все не после карт? Не у Андреева, также «проевшего приданое сестры, и вообще все у них», т.е. очень грешного, очень преступного? Почему Андреев «ревет» и этот – «все мечтает, все мечтает»…
«Мирра падала с рук моих, и с перстов моих капала мирра на ручки замка»… Как эта душа, начинающая странно литься, переливаться в мечту напоминает дивно-мистический стих Песни песней, или, точнее, этот стих, эта «льющаяся мирра» есть символ этой души, с которой вот-вот закапают благоуханнейшие молитвы. Собственно, мы уже читаем их завиток; эта «Hossanna» – уже собирающаяся, стекающая, наливающаяся до полноты молитва. Откуда бы?
«– Ах, Долгорукий, читали вы Диккенса “Лавку древностей”?
– Читал; что же?
– Помните вы… Постойте, я еще бокал выпью – помните вы там одно место в конце, когда они – сумасшедший этот старик и эта прелестная тринадцатилетняя девочка, внучка его, после фантастического их бегства и странствий, приютились, наконец, где-то на краю Англии, близ какого-то готического средневекового собора, и эта девочка какую-то тут должность получила, собор посетителям показывала… И вот раз закатывается солнце…».
Мы снова вспоминаем Свидригайлова, с его мистическим страхом-молитвою перед закатом.
«…И этот ребенок на паперти собора, вся облитая последними лучами, стоит и смотрит на закат с тихим задумчивым созерцанием в детской душе, удивленной душе, как будто перед какой-то загадкой, потому что и то, и другое, ведь как загадка – солнце, как мысль Божия, а собор – как мысль человеческая… не правда ли? Ох, я не умею это выразить, но только Бог такие первые мысли от детей любит… А тут, подле нее, на ступеньках, сумасшедший этот старик-дед глядит на нее остановившимся взглядом… Знаете, тут нет ничего такого, в этой картине у Диккенса, совершенно ничего, но этого вы в век не забудете, и это осталось во всей Европе – от чего? Вот прекрасное! Тут невинность! Э, я не знаю, что тут, только хорошо. Я все в гимназии романы читал. Знаете, у меня сестра в деревне, только годом старше меня… О, теперь там уже все продано и уже нет деревни! Мы сидели с ней на террасе, под нашими старыми липами, и читали этот роман, и солнце тоже закатывалось, и вдруг мы перестали читать и сказали друг другу, что и мы будем также добрыми, что и мы будем прекрасными и я тогда в университет готовился и… Ах, Долгорукий, знаете, у каждого есть свои воспоминания!..» («Подросток», изд. 82 г., с. 423–424).
В этом же романе есть два места, важные в тоне и в минуте, к которой отнесен тон: сестра «подростка», Лиза, девушка, – только что забеременела от испорченного и несчастного его товарища, которого полюбила, как это часто делают девушки, из сострадания. Умная и энергичная, великодушная как все энергичные, она обвеяла теплом и честностью почти слабоумного и до позора бесчестного юношу. Тайно она приходит к нему на квартиру, и раз почти столкнулась с братом. Взволнованный и не веря себе, он наскоро распрощался с приятелем и вышел на улицу:
«Шел я тихо и, кажется, прошел очень много, шагов пятьсот, как вдруг почувствовал, что меня слегка ударили по плечу. Обернулся и увидел Лизу: она догнала меня и слегка ударила зонтиком. Что-то ужасно веселое, и на капельку и лукавое, было в ее сияющем взгляде.
– Ну, как я рада, что ты в эту сторону пошел, а то бы я так тебя сегодня и не встретила! Она немного задыхалась от скорой ходьбы.
– Как ты задохлась.
– Ужасно бежала, тебя догоняла.
– Лиза, ведь это тебя я сейчас встретил?
– Где это?
– У князя… у князя Сокольского…
– Нет, не меня, нет, меня ты не встретил…
Я замолчал и мы прошли шагов десять. Лиза странно захохоталась:
– Меня, меня, конечно меня! Послушай, ведь ты же меня сам видел, ведь ты же мне глядел в глаза и я тебе глядела в глаза, так как же ты спрашиваешь, меня ли ты встретил? Ну, характер! А знаешь, я ужасно хотела рассмеяться, когда ты там мне в глаза глядел, ты ужасно смешно глядел.
Она хохотала ужасно. Я почувствовал, как вся тоска сразу оставила мое сердце.
……………………………………………………………………
– Ну, знаешь что, Лиза, Бог с ней с квартирой, и с ней самой229229
Хозяйкой квартиры, где занимал несколько комнат князь Сокольский. Отворив одну из них, уединенную, случайно, «подросток» и увидел там свою сестру.
[Закрыть]…
– Нет, она прекрасная…
– И пусть, и книги ей в руки. Мы сами прекрасные! Смотри, какой день, смотри как хорошо! Какая ты сегодня красавица, Лиза. А, впрочем, ты ужасный ребенок.
– Аркадий, скажи, ты девушка-то, вчерашняя-то230230
Самоубийца.
[Закрыть].
– Ах, как жаль, Лиза, ах как жаль!
– Ах, как жаль! Какой жребий! Знаешь, даже грешно, что мы идем такие веселые, а ее душа где-нибудь теперь летит во мраке, в каком-нибудь бездонном мраке, согрешившая, и с своей обидой… Аркадий, кто в ее грехе виноват? Ах, как это страшно! Думаешь ли ты когда об этом мраке? Ах, как я боюсь смерти, и как это грешно! Не люблю я темноты, то ли дело такое солнце! Мама говорит, что грешно бояться… Аркадий, знаешь ли ты хорошо маму?
– Еще мало, Лиза, мало знаю.
– Ах, какое это существо; ты ее должен, должен узнать! Ее нужно особенно понимать… Это – какой-то разлив сочувственного понимания на окружающее; между тем собственное более чем грустное, собственно даже безвыходное положение.
Лиза не обманывалась в качествах князя и не рассчитывала, да кажется и не хотела, быть его женою – должно бы сузить ее, озлобить, противопоставить всему окружающему. Но новая жизнь ширится и растет в ней… Мы указываем – растет как любовь, как понимание, как молитва.
– Да ведь вот же и тебя не знал, а ведь знаю же теперь всю. Всю в одну минуту узнал. Ты, Лиза, хоть и боишься смерти, а, должно быть, гордая, смелая, мужественная. Лучше меня, гораздо лучше меня! Я тебя ужасно люблю, Лиза. Ах, Лиза! Пусть приходит, когда надо, смерть, а пока жить, жить! О той несчастной пожалеем, а жизнь все-таки благословим, так ли? Так ли? У меня есть “идея”, Лиза. Лиза, ты ведь знаешь, что Версилов отказался от наследства? Ты не знаешь души моей, Лиза; ты не знаешь, что значит для меня человек этот!..
– Ну, вот не знать, все знаю…
– Все знаешь? Ну, да еще бы нет! Ты умна; ты умнее Васина. Ты и мама – у вас глаза проницающие, гуманные, т.е. взгляд, а не глаза, я вру… Я дурень во многом, Лиза.
– Тебя нужно в руки взять, вот и кончено!
– Возьми, Лиза. Как хорошо на тебя смотреть сегодня. Да знаешь ли, что ты прехорошенькая? Никогда еще я не видал твоих глаз… Только теперь в первый раз увидел… Где ты их взяла сегодня, Лиза? Где купила? Что заплатила?..».
Это какой-то дифирамб любви; т.е. его к ней, к какому-то новому ее виду, новому чувству, в ней разлитому, новому значению, которое из нее изливаясь пронизывает его и покоряет себе.
«– Лиза, у меня не было друга, да и смотрю я на эту идею231231
Удивительно привлекательный «подросток» вечно носится с «идеями» и «садится с ними в лужу»; самый роман, несмотря на ужасную запутанность и так сказать ненужность хода, даже его непонятность – вечно свеж при всяком новом чтении.
[Закрыть], как на вздор; но с тобой не вздор… Хочешь, станем друзьями? Ты понимаешь, что я хочу сказать?..
– Очень понимаю.
– И знаешь, без уговору, без контракту, – просто будем друзьями.
– Да, просто, просто, но только один уговор: если когда-нибудь мы обвиним друг друга, если будем в чем недовольны, если сделаемся сами злы, дурны, если даже забудем все это, – то не забудем никогда этого дня и вот этого самого часа. Дадим слово такое себе. Дадим слово, что всегда припомним этот день, когда мы вот шли с тобой оба рука в руку, и так смеялись, и так нам весело было… Да? Ведь, да?».
Для него – она важна; для нее – только день этот, и он – не в себе самом, но по соображению с этим днем, как памятный знак на нем. Мы вспоминаем сомнамбулизм Лотовых дочерей; и всякая истинно и в истине понесшая232232
Серьезная, чистая, не развращенная; т.е. многовнимательная к понесению, многодумная.
[Закрыть] тотчас, как бы свернувшись вниманием внутрь, становится сомнамбулой ко всему окружающему.
«– Да, Лиза, да, и клянусь; но, Лиза, я как будто тебя в первый раз слушаю… Лиза, ты много читала?
– До сих пор еще не спросил? Только вчера в первый раз, как я в слове оговорилась, удостоили обратить внимание, милостивый государь, господин мудрец.
– А что же ты сама со мной не заговаривала, коли я был такой дурак?
– А я все ждала, что поумнеешь. Я выглядела вас всего с самого начала, Аркадий Макарович, и как выглядела, то и стала так думать: “Ведь он придет же, ведь уж наверно кончит тем, что придет”, – ну, и положила вам лучше эту честь самому предоставить, чтобы вы первый-то сделали шаг: “Нет, думаю, походи-ка теперь за мной?”.
– Ах ты, кокетка! Ну, Лиза, признавайся прямо: смеялась ты надо мной в этот месяц, или нет?
– Ох, ты очень смешной, ты ужасно смешной, Аркадий! И знаешь, я, может быть, за то тебя всего больше любила в этот месяц, что ты вот этакий чудак. Но ты во многом и дурной чудак – это чтобы ты не возгордился. Да знаешь ли, кто еще над тобой смеялся? Мама смеялась, мама со мной вместе: “Экий, шепчем, чудак, ведь этакий чудак!”».









































