Текст книги "Литературоведческий журнал №38 / 2015"
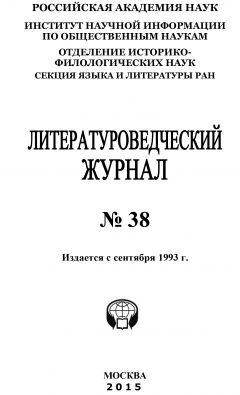
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)
С. 283. И непонятною тоскою уже загорелась земля – Н.В. Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями. XXXII. Светлое Воскресенье.
С. 284. Их кратким приветом… – Вариант стихотворения М.Ю. Лермонтова «Есть речи – значенье…» (1840), помещенный в сборнике «Вчера и сегодня» (1845).
С. 287. Не скучны ли тебе непрошенные ласки? – М.Ю. Лермонтов. Ребенку (1840).
С. 289. О поле, поле, кто тебя… – А.С. Пушкин. Руслан и Людмила. III (1820).
С. 292. Слеза моих ланит – твоих ланит не обожгла ли? – неточная цитата из стихотворения Лермонтова «Ребенку».
Послесловие
Когда-то его называли «порнографом», что неверно как по имени, так и субстанциально. Читатель сразу заметит (как, впрочем, и поймет, почему такой вопрос вообще мог возникнуть – тогда): по глубине, напряжению, фундаментальности и предельности мысли, Розанов – философ. По точности, тонкости, выразительности, богатству и пластичности языка – писатель. Аналитичности исследований, демонстративности, объективности и строгости мышления, приверженности истине, какой бы невероятной, «ужасной» и «срамной» она ни казалась, эрудиции – ученый. Способностью соощущать и сочувствовать переживаниям людей, видеть скрытые и часто неосознаваемые мотивы их поступков – психолог и психоаналитик. Благодаря знанию литературы, ее тонкому пониманию, умению увидеть параллели сюжетов и топики мотивов в произведениях различных авторов, времен и эпох, восторженной любви к ней – филолог и литературовед. И, конечно, он сам – мистик, возможно, один из самых великих в русской культуре, мистик от Бога, видящий трансцендентные, метафизические корни и причины даже, казалось бы, обычных, повседневных событий и происшествий, чувствующий неполноту и неправоту, недостаточность, но и фатальную опасность только физического объяснения наблюдаемых явлений, какими бы они ни были. И постоянно отмечающий в текстах нечто особенно странное, таинственно-мистическое, чего иначе настроенный критик не оценит, а обычный читатель даже не заметит, как, возможно, в данном пассаже: «И здесь, как решительно всюду, еще от времен Свидригайлова, упоминание о заходящем солнце; у Достоевского было какое-то мистическое чувство солнца, в своем роде “живой путь” общения с ним. Закат, конечно, единственный момент, когда без боли и долго мы можем смотреть на тело светила. Египтяне, как потом и пифагорейцы, как-то особенно чувствовали солнце, и едва ли с одной геометрической стороны, из любопытства к его движениям». Розанов прямо пишет: «Всюду здесь мы исследуем натуральную, земную сторону религиозных явлений, потому что лишь гораздо позднее с достаточной убедительностью можем высказаться о метафизической их стороне, небесной; т.е. настоящей и главной».
Однако этот лейтмотив, лежащий сразу за формально основной темой «Тайны», далеко не исчерпывает всего концептуального богатства книги, которая абсорбировала не только многое из других работ нашего автора, но и включает в себя ряд таких идей, которые еще только будут более детально развиты в других произведениях Розанова.
У него все имеет высоту и глубину, уходит в бесконечность. Каждое слово на русском языке воспринимается им с корнем, прорастающим в вечность. Добродетель он часто видит в окружении демонов, которые хотят ее улучшить. Всегда отмечает истины, не имеющие логического обоснования, но становящиеся от этого еще более глубокими, логосами «мудрости». Эта книга о самых существенных моментах и о предельно важном в жизни человека, найденном в шедеврах литературы лучших писателей, зафиксировавших их в глубинах своих «Я»: «великая тайна четырех мистиков», перенесших увиденное затем в свои тексты, чтобы задуматься и постараться понять странные загадки и тайны существования.
«Тайна», возможно, как раз и является примером такого произведения, в котором все перечисленные черты синтетического дарования В.В. Розанова проявились хотя и в разной степени, но в полной мере, включая, в первую очередь, один из самых редких даров: талант философа Эроса или, может быть, лучше сказать по-русски, пола. В данной работе это – основная тема исследования, в котором личный опыт и наблюдения автора органично включены не только в широкий литературно-философский контекст (от Античности до Л.Н. Толстого), но и обосновываются естественнонаучными данными, также далеко не всем известными, как полагает В.В. Розанов, хотя и взятыми из доступных источников.
Предмет его анализа – величайшая, как он полагает, и тщательно скрываемая тайна мира, лежащая как в основе всего мироздания, так и фундаментальных побудительных мотивов поведения людей. Ее-то наш автор пытается разрешить и разгадывает на протяжении всей книги, хотя и не дописанной формально, но содержательно законченной внутренне, когда в сердцевине самой тайны (ею оказываются сексуальное, «чресленное влечение», коитус и деторождение) раскрывает еще одну, глубинную и высшую Тайну тайн. Ее на текстах Платона Розанов интерпретирует как гомосексуальное и «с философией» влечение к юношам, т.е. без интимной близости, без секса, сублимированная энергия (как, наверное, сейчас бы сказали) которого используется для мышления о наиболее сложных, глубоких и трансцендентных проблемах мироустройства: «Через чресла, обратно, обретается и “вертикальная энергия”, возносящая затем к небу». Как иллюстрацию к этому тезису Розанов приводит, в том числе, фрагменты текстов «Федра». Тех, в которых Сократ, упоминая эротические обстоятельства их беседы с Федром и прямо называя соблазнительно-интимные детали, обычно сопровождающие физическую близость, может быть, не столько генерирует сам, сколько провоцирует соответствующие эманации со стороны своего молодого спутника.
Название произведения («Тайна») не случайно, а выражает, по-видимому, глубокую уверенность автора в многократной скрытости важнейших и фундаментальнейших истин бытия даже не как «колесо в колесе», а гораздо дальше, так что, может быть, потребуется «квадрильон лет», чтобы к ней прийти и ее постигнуть.
Розанов чувствует и знает, что людей со всех сторон окружает не просто непознанное, еще не узнанное, а нечто гораздо более странное: принципиально недоказуемые истины, лежащие в основе всего, скрываемые как бы намеренно секреты, неоднократно огороженные и надежно спрятанные тайны и знания об очень важных для людей вещах. И так, по его мнению, везде, стоит только сколько-нибудь заглянуть за поверхностную оболочку вещей. И он стремится если не раскрыть для своих читателей хотя бы некоторые из них, то просто назвать, упомянуть их, обозначить направление, где искать, угадать: какие они, где могут быть. Подслушать, подсмотреть у заповеданной Завесы. Он показывает, что даже во всякой философской системе есть нечто недоказуемое: у Канта – «ноумены», Лейбница – «предустановленная гармония», у Шопенгауэра – «святая резигнация»; у Платона – его «идеи», у Аристотеля – «формы», у Пифагора – «центральный огонь Весты» и «музыка» окружающих этот огонь «сфер». Именно ради этого и были созданы, по его мнению, их философии. Почему так? Непонятно, нелогично, необъяснимо. Более, чем странно. Поэтому, вероятно, Розанов так тщательно и подробно рассматривает и эту осевую тему, начиная с Библии, с оград, внутренних стен, завес Храма и одежд Аарона. Для обоснования этого тезиса намеренной таинственности приводятся и тексты Библии, и примеры не только из литературы, но и прямых наблюдений над природой: «Мiр тайны – мiр многозначительности. Почему это – нам необъяснимо. Но вот величайшая в самом мiре Тайна – и она ищет себе покровов».
Итак, обнаруженная в бумагах писателя и до сих пор не издававшаяся книга В.В. Розанова «Тайна» посвящена последним, предельным секретам человеческой жизни и мироздания, которые философ черпает из материала как мировой литературы, так и наших наиболее философски глубоких и мистических писателей и поэтов: Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, тематизируя вопросы пола, эстетики в общем, прекрасного и безобразного в частности; конечно, этики, проблем добра и зла. Их взаимоотношений на разных уровнях бытия, каждый раз показывая, что все они сводятся к одному: «То космическое, пронизывающее понимание, и эта космическая, пронизывающая любовь, как, наконец, и космический свергающий гнев (собственно – рвущийся к любви, рвущий других на любовь, всегда) есть sexual’ной природы и “отчество” к мiру есть вывод и последствие sexual’ной как бы развернутости мiра, как бы себя перед мiром sexual’ной же разверженности…». Розанов не устает повторять, что «Все четыре мистика суть coit’альные писатели», показывая это на множестве примеров творчества каждого из них. При этом сама мистика понимается им различно: применительно к этим четырем гениям – как принципиальная невозможность разгадать себя ни для них самих, ни для любого внешнего исследователя. Находятся и понимаются только «факты», т.е. что не нужно, – замечает Розанов, а вот что нужно и что люди даже не умеют назвать, хотя и ищут, то никогда не будет понято – и совсем не потому, что не находимо, а из-за особой затаенности и скрытости: «Имя “мистика” и относится к этой космической затаенности, пятном которой стоят эти четыре писателя; как и в самой природе, на некоторых ее точках, есть эти “пятна”, от которых не отходят люди, за которыми, они чувствуют, природа как бы проваливается в какую-то дыру, начинаются неисследимые бездны, а пятно стоит таким же простым и обыкновенным, уже тысячелетия видимым…»
Как к этой, так и другим осевым темам своего произведения Розанов подходит не одиножды. Это один из элементов писательской техники Розанова-мыслителя и критика: прием возвращения к одному и тому же вопросу в различных местах книги с все большим углублением в предмет. Каждый раз – как бы с различных направлений, других точек зрения, чтобы в результате получить многоаспектное, синтетическое видение предмета, дать возможность коснуться и ощутить его сложность и глубину, узнать о нем нечто новое и стимулирующее мысль, раскрыть неожиданные и потаенные горизонты бытия, скрывающего в себе еще столь многое. Так, например, затрагивая тему «касания» иных миров и раскрытия «таинств бытия», он разъясняет, какое это имеет значение не только для народов и мира в целом, но и для отдельных личностей. Читаем: «В “Переписке с друзьями” Гоголь, Достоевский в ряде дико-странных, для романа, глав: “Из жития в Бозе преставившегося иеросхимонаха старца Зосимы” – явно учат, хотят учить, требуют внимания. У них есть именно власть “вязать и решить”, присутствие которой у себя они знают в своем роде через какое-то достигнутое “касание мiрам иным”; через таинства бытия, им одним вскрывшиеся…»
Коснувшись высших миров, постигнув, благодаря этому, вскрывшиеся тайны бытия, т.е. испытав нечто вроде «просветления», или «сатори», и получив сакральные знания, которые гораздо больше, чем просто сведения и информация, сподобившиеся всего этого лица обретают сверхчеловеческие способности «вязать и решить» (очевидно, грехи и, может быть, еще вмешиваться в естественный ход событий), могут и призываются учить и наставлять других людей, не имеющих подобного опыта.
Цитаты – «изюм из пирога литературы» – составляют в этом произведении книгу в книге, едва ли даже не большую, чем сам текст Розанова. Однако без них, наверное, он был бы не так убедителен, не так бы органично вписывался в великую Традицию русской культуры, не так бы рос и вырастал из нее. И, главное, не так был убедителен и понятен. А ведь ее критический пафос направлен против пороков, которые тогда, быв исключением, сейчас стали на Западе почти общераспространенной практикой: «Семя жизни, окруженное демонами; семя жизни – среди демонов, рвущихся его пожрать. Как жадны эти порывы, как мучительны; мы – в центре греха, и уже назвали формы его, самое наименование которых составляет предмет ужаса для человека: кровосмешение, растление детства, содомия…». Борьба, очевидно, ведется против «духов злобы поднебесной», которые, вероятно, хочет сказать Розанов, стоят за видимыми формами растления, поражающего мир:
То был ли сам великий сатана…
……………………………………………
Мой юный ум, бывало, возмущал
Могучий образ. Меж иных видений
Как царь, немой и гордый он сиял
Такой волшебно сладкой красотою,
Что было страшно…
«Еще далек наш путь, – пишет философ, – но он так направлен, что возможен удар по кольцам Змия, от которых он разовьется и отдаст Святое, вокруг чего облег телом. Природа греха – понятнее нам становится; грех – это вокруг Святого; Святое – на чтó устремлены преисподние бури; т.е. около чего мощные сгибы зла непосредственно облегли; и от этого-то человеку так трудно узнать истину, так трудно коснуться истины…»
Как бороться? В поисках ответа Розанов приводит и слова Л. Толстого, призывающего не забывать молитвы, и когда только можешь – твердить про себя: Господи, помилуй всех днесь пред тобою представших! Призывы Достоевского любить людей «и в грехе их», любить животных, «деток особенно», весь мир. Все четыре великих мистика России настолько близки в своих высших порывах, что можно, – пишет автор «Тайны», – «взяв у которого-нибудь сюжет, продолжать его словами другого, брать, далее, из третьего, и оканчивая словами четвертого – вновь продолжать речь первого, без разрыва в настроении, без перерождения того тайного, что в каждом произведении образует его “дыхание жизни”. То есть “дыхание жизни” у них четырех – одно, и только у них четырех в нашей литературе…». Он приводит слова Л. Толстого, который признается, что «всеми силами» старается сказать то же, что сказано Гоголем. Розанов отмечает «вертикальные созерцания» – в том числе и на предметы – этих писателей, говорит, что и слова их падают на сердце читателя под углом 90°, вызывая «понуждение»; и «камень – в ответ». Немного дальше он добавит, что этот «вертикальный луч ведения ли, любви ли, или, наконец, даже негодования… ясно выпадает из “чресл”».
Философ фиксирует у всех них не только дар провидения, а еще, – что, наверное, много больше, – дар любви и способность к таинственному мистическому чувству, ощущению чего-то трансцендентного, божественного. Называя их «мистическими четырьмя коровами с неиссякаемым обилием капающего из сосцов молока», Розанов утверждает, что на своих «чреслах» «они волокут, вот уже поволокли наше общество», и даже тронули серьезностью «легкомысленные берега Сены». Он находит в каждом из этих четырех отношения «кровности» со своими героями, утверждает: «Эти фигуры – зачаты и рождены; от этого еще они так живы; на Сереже Каренине есть запах родов», на них есть и «запах чресел». Им, этим великим творцам, по мнению критика, удается выразить общемировое чувство, пронзить мир насквозь, приподнять «“край одежды” не на себе, не у ближнего, но “край одежды” у всех, и, в последнем анализе, “край одежды” мiра».
И этот тезис – также о «чресленной» природе творчества.
Среди интересующих его тем, в том числе: сближение и даже слияние и идентификация добра и зла в глубинах бытия, когда кажущееся злом в своих следствиях, иногда достаточно отдаленных, становится благом, что приводит на ум знаменитую максиму рабби Акибы: «Га-коль ле-тов», – «все к добру (благу)», которая, скорее всего, во время написания этой книги, была или еще только будет известной Розанову. Ведь он глубоко интересовался, изучал и имеет много любопытных публикаций по «еврейскому вопросу».
Кровосмешение (инцест) как проявление биологических и первозданно хтонических влечений и энергий человеческой природы, феномен которого философ интерпретирует, в том числе, на текстах «Страшном мести» Н. Гоголя, фиксируя, между другими, момент, когда «коитальное влечение» пробуждается в отце Катерины, – ее превращение в женщину после замужества: «У Гоголя есть также одно место, аналогичное ужасным текстам, которые мы привели у Достоевского: это – “Страшная месть”. Идея ее – coit’альное тяготение отца к дочери: второй трансцендентный грех, столь же древний в человечестве как и растление несовершеннолетних, бродящий и “уязвляюший его в пяту” с тех пор как человек бродит по оплакиваемой и уливаемой его кровью земле». Анализируя природу греховности, философ приходит к предсказуемому для его читателя выводу: «То трансцендентное и космическое, что мы соединяем с понятием “грех” есть исключительно и только в sexual’ном». Более того, Розанов раскрывает природу тех сил, которые стоят за ними (грехами) – и, чаще всего, косвенно, через цитаты и литературные реминисценции: «Софокл не все рассказал… не разгадав, как разгадал наш Гоголь, глубже копавшийся в душе человеческой, черных видений, “опустившегося носа, раздавшегося рта, выбежавшего клыка” – уже ранее, до рассказа».
Таким образом, побудительные силы греха названы здесь через Гоголя своими именами: это «нечистые духи», нечисть, демоны и бесы, – в противоположность высшим, ангелическим и божественным сущностям. А между ними – человеческая экзистенция, за и в сердце (и уме тоже) которой идет борьба этих сверхчеловеческих Сил и существ. Продолжая анализ, Розанов делает парадоксальное заключение: «Только genitalia имеют в нас какое-то таинственное “касание мiрам иным”; отрицательное; но, значит и положительное, коего “совлекаются” в случаях падения…» Не будем забывать, что само это «касание» Розанов понимает также, по-видимому, на одном уровне с платоновским «μετέχει» («участие»). «Схождение и хождение по кругам греха до самых последних, адских порывов, которым человек все-таки следует, ведет к тому, что после любого прегрешения как трансцендентного повреждения люди ищут исправления и именно, – по мнению Розанова, – в этом же «мистическом и реальном значении, через это таинственное: “да оставит отца и мать и да прилепится”…» И там же, рядом, указывается божественное присутствие.
Таинство покаяния, таким образом, выявляется около трансцендентного греха genital’ий; однако и «правильная жизнь» народов, – полагает философ, – ставится под молитвы, окружается религиозным сочувствием. Он приводит свидетельство Библии в обоснование, что молитва должна предшествовать любому сексуальному акту («плотскому соединению в браке»). Многие ли из читателей знают об этом факте? Читали об этом или, может быть, где-нибудь слышали? Пусть даже в храмах?.. Едва ли.
Как и других великих мыслителей и философов, Розанова мало читать – надо перечитывать и постоянно вдумываться в его текст, следя за всеми изгибами и ветвлениями рефлексий автора, его отступлениями, только обогащающими и расширяющими восприятие основных осевых сюжетных линий книги, которая, без сомнения, заслуживает специального монографического изучения.
В аналитике героев Толстого Розанов тоже видит и отмечает прежде всего плоть, похоть, сладострастие, замечая об авторе «Войны и мира»: «Он слушает, он внимает – только “чреслам”: здесь проходят все муки героев; отсюда ясно растет их судьба. Здесь он открывает мудрость, над которою уже не смеется…»
И тема рождения тоже прослеживается и подчеркивается, как и его связь с «мудростью»: «Еще удивительнее: у Толстого и в самом деле все немножко “мудрецы”, насколько они не рассуждают или, по крайней мере, рассуждениям своим не верят: Кознышев, Катавасов – вот люди, то профессора, то публицисты, к которым одним он решительно ничего не чувствует, и, может быть, на которых в самом деле накинута пленка глупости – насколько они не рождают и не умеют рождать. Удивительная точка зрения: но, в сущности, это – точка зрения той “детской колясочки”, от которой “не отходил” Достоевский… Вот это рождение, всякое и при всех условиях, и во всех условиях благословляемое, и есть новая точка зрения, на которую неожиданно стали оба великие мистика и с нее начали понимать и обсуждать, а наконец даже и судить мiр.. Анна так глядит на сильные бедра Вронского… даже Долли, “замученной непрестанными родами”, что-то такое снится после игры в крокет, в которую мущины играли после обеда, сняв сюртуки, и, конечно, извинясь перед дамами. Это – вездесущие coit’альных тяготений, под битвами, земством, охотой, интригами…»
Общая схема аргументации (привожу ее в обобщенном виде), применяемая Розановым на протяжении всей книги, такова: от текстов Библии – к текстам великих писателей (из них на первом месте – Достоевский), от них – к примерам, взятым из жизни, из биографий самих гениев, от этих – опять к сакральным текстам религий и наиболее глубоких, религиозно одаренных философов (Платон – как выразитель высших истин).
Вокруг рождения есть какая-то глубокая тайна, которую Розанов ощущает, чувствует, и в которую стремится до конца проникнуть, приводя тексты, в которых детально фиксируются не столько внешняя, физическая сторона феномена и / или его духовный, а также интеллектуальный аспект, но и результат их взаимодействия, упоминается его вечное и приближающееся к Божественности содержание, состоящее как в постоянном и векторно-бесконечном продолжении рода, так и в странной, собственно, мистической части акта, где также происходит касание «мiрам иным», узел связанности, где соединены Бог и человек, и одна нить клубка восходит на небо, а другая нить падает на землю и стелется по ней «60, 70, даже может быть 80 лет», «и никто этой нити не смеет – потому что она Божия: не смеет – оборвать…»
И это рождение, и это «прорастание» ставится Розановым безмерно выше Декартова: «cogito ergo…», потому что первое обладает скрытым в нем «небесным семенем», «небесною природою», потому «и оправдание бытия моего, отсюда открывающееся, не есть ли столь же бесспорное, как и Декартовское, но в небесных пределах и для небесных целей? “В тысяче мук – я sum”, “в корче мучусь – но sum” (“Бр. Кар.”); и не только “sum”, но лобызаю и “козу” в миг и точке, где и когда она “изгибаясь в мучении” “выбрасывает плод”».
И Розанов, безусловно, прав: осознание важности деторождения, его заповеданность Библией в полной мере становятся понятными только сейчас, когда угроза тотальной депопуляции уже не нависла, а реально и беспощадно истребляет некогда великие европейские нации. Розанов, вероятно, предчувствует и понимает эту проблему уже тогда и находит подтверждение своей интуиции у величайших писателей-провидцев исторической России. И это тоже делает его книгу актуальной и нужной сейчас всем нам.
В поэзии М.Ю. Лермонтова Розанов также постоянно видит те же лейтмотивы страсти, «бесстыдного порока», сладострастных криков, сближая их с темами Достоевского. Отмечается близость и Лермонтова с Пушкиным – интересное и ценное замечание само по себе: «Эта строка о мысленных пиках, уходящих в небо, и в отражении вод – уходящих в преисподнюю, удивительно выражает обоих поэтов и т.д.». Сравнения этих двух величайших поэтов России, где больше, где меньше, рассыпаны по книге и почти всегда – в пользу первого. Для Розанова, например, очевидно: «Sexual’ный характер поэзии Лермонтова, особенно если мы станем сравнивать ее с поэзиею Пушкина, или с чьей-нибудь из пушкинской школы, – ясен. Взамен не рождающей у них любви, любви как цветка жизни, как украшения минуты, у него – всегда рождающая любовь…»
Тема мучающего Лермонтова демона, по-видимому, раскрывает следующий, почти предельно доступный людям уровень существования. Духовное связано с материальным, горнее с дольным, инфернальное с земным: смотрите – и увидите, как бы все время повторяет, призывает, увещевает Розанов. Смотрят, не видят, не слышат, не внимают, мучаются, вырождаются, гибнут. Сюжеты Гоголя, Достоевского, Лермонтова, Толстого приводятся вперемежку, переплетаются, звучат, многоголосят. Фантастическое сливается с реальным, правдивое – с вымыслом. И ничто не ускользает от внимания критика, который разъясняет, доказывает, показывает, дает возможность додумать, догадаться, понять. Распинаясь в страстном желании донести все это богатство, красоту, распахнуть Тайну и читателю, кем бы он ни был.
Розанов всегда стремится отметить не только удачные мысли и идеи, выражения, просто точные или сочные слова, языковые и духовно-интеллектуальные «находки» у писателей, их прозрения. Он откровенно любуется ими, влюбленно и обильно цитирует их, стремится привести возможно полнее, как бы приглашая и других читателей разделить его, Розанова, интеллектуальный восторг и радость по поводу увиденного и понятого, подсмотренного и замеченного там, где многие до него ходили, но вот, как-то не заметили, пропустили главное: «Всем комментаторам трудно было догадаться, что эта фраза, почти простое упоминание о матросах, есть центр всего диалога “Федр”, точка, откуда должно начинаться его объяснение. Платон различает το παίδιον у матросов: функцию и притом вынужденную долгим плаванием и след. разобщением от женщин, от παίδιον совершенно другого, по другим мотивам и иной природы, которое составляет предмет его рассуждения, льющейся “дифирамбической” речи и, очевидно, глубоко и непосредственно, жизненно волнует его. Таинственный “миф” природы человеческой, “буря, больше бури”, “чудовище наподобие древних химер, слитое однако с чем-то явно и ощутимо божественным”. “Горит, воистину горит сердце” сюда… и, в ощутимой связи с этим, к Богу».
Благодаря этому данная книга стала еще и любовно подобранной коллекцией, паноптикумом многих лучших фрагментов и страниц философской и художественной прозы и мысли отечественной и мировой литературы, восхищение которыми нельзя не разделить с гениальным автором. В то же время эстетический момент, очевидно, далеко не самый главный или важный для Розанова (хотя и не последний): тщательно разъясняя скрытые смыслы, восстанавливая линии, обращенные в прошлое и продолжая их в будущее, он учит своих читателей прочитывать страницы классики не быстро, а с полным осознанием читаемого. Показывая мысль, ее рождение и развитие, он учит не только мыслить, но и замечать странные метафизические тайны, появляющиеся при попытке постигнуть непостижимое, познать непознаваемое (чаще всего, божественное; но и на Земле – очень многое).
Розанов умеет быть настолько убедительным и доказательным в своих интуитивных рассуждениях и демонстрациях, что даже закоренелые скептики или материалисты задумаются, вероятно, не раз и не два, прочитав, например, теистические и атеистические цитаты и его комментарии к ним: «С.Т. Аксаков, в обширных своих “Воспоминаниях” (см. “Сочинения”), не раз говорит, что никто из самых близких людей, долгие годы знавших Гоголя, не имел ключа к разгадке его души; что Гоголь был совершенно и для всех непонятен. Письмо его, от 15 сентября 1857 г., к А.С. Стурдзе: “…Россия все мне становится ближе и ближе. Кроме свойства родины, есть еще в ней что-то ближе родины, точно как бы это та земля, откуда ближе к родине небесной. Но, на беду, пребывание в ней зимою вредоносно для моего здоровья…”. Те – до известной степени – мистические сосцы (комментирует Розанов), от которых напояет великий человек народы, и народы, чуя под ними духовное молоко, ищут их, припадают к ним… мы находим у Гоголя».
Или вот еще одна розановская цитата – аргументация этого же тезиса, однако теперь от противного:
«(…) И он с лихорадочным восторгом указал на образ Спасителя, пред которым горела лампада. Петр Степанович совсем озлился.
– В Него-то, стало быть, все еще веруете и лампаду зажгли; уж не на “всякий ли случай”?
Тот промолчал.
– Знаете чтó? По-моему, вы веруете, пожалуй, еще больше попа.
– В кого? В Него? Слушай, – остановился Кирилов, – неподвижным, исступленным взглядом смотря перед собой. – Слушай большую идею: был на земле один день, и в средине земли стояли три креста. Один на кресте до того веровал, что сказал другому: “Будешь сегодня со мною в раю”. Кончился день, оба померли, пошли и не нашли ни рая, ни воскресения. Не оправдалось сказанное. Слушай: этот человек был высший на всей земле, составлял то, для чего ей быть. Вся планета, со всем что на ней, без этого человека – одно сумасшествие. Не было ни прежде, ни после Его такого же, и никогда, даже до чуда. В том и чудо, что не было и не будет такого же никогда. А если так, если законы природы не пожалели и Этого, даже чудо свое же не пожалели, а заставили и Его жить среди лжи и умереть за ложь, то, стало быть, вся планета есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке. Стало быть, самые законы планеты ложь и диаволова водевиль. Для чего же жить, отвечай, если ты человек?» (с. 553).
«Никогда, – пишет Розанов, – в целой всемiрной литературе никогда – не отрицание, но разлившееся в человеке и проникшее до последних его фибр чувство отрицания – не доходило до такой глубины и почти религиозного же экстаза».
«Перед зажженной лампадой, коленопреклоненный перед Ликом, в своем роде “один человек”, так много и безумно плакавший перед “Чудом земных законов”, как бы прощается с Ним, – за человечество, за всю землю прощается с своею фикциею, которая, однако, только одна и давала силы жить; чтобы встать наутре хоть и плюгавеньким, но уже подлинным и не фиктивным (для себя, но, впрочем, и для природы) богом. Кстати, если того Бога нет, то высшее, т.е. опять же Бог есть, конечно, человек, и тогда совесть, как упрек себе, как себя поправка – умирает. “Все позволено” – как индивидуумом себе: отсюда образы Раскольникова и Ивана Карамазова, убийцы и отцеубийцы; так “все позволено” и обществу над индивидуумом: отсюда идея “шигалевщины” (“Бесы”), “Легенды об инквизиторе”, в обоих случаях со страшным и насильственным погашением личности в человеке, задушением человека ради “коллективного” вечного и окончательного покоя».
Нет сомнения, что философ осязательно чувствует и полностью согласен с видением такого будущего, которое относительно скоро и воплотилось прежде всего в кошмарах германского тоталитаризма.
Розанов далеко не все и не всегда прямо сразу говорит и досказывает. Для каждого читателя этого с намерением выбранного автором фрагмента очевидно еще одно: такое «все позволено» индивидуума возможно лишь при наличии фундаментальной свободы в основании человеческого бытия, в поле которой только и возможна подобная самоопределяемость мышления и действия. Не будучи сразу осознанной, эта идея все равно суггестируется в подсознание читающего, остается еще недодуманной интенцией текста, чтобы, вероятно, рано или поздно оформиться и внезапно «осенить» уже подготовленный и расположенный к подобным умозаключениям ум как собственное «открытие». Можно, по-видимому, дискутировать, намеренно или «полуосознанно» (и в какой мере) Розанов собирал и располагал в своем произведении эти локусы, несомненно только, что они в нем есть и читателю предстоит не одно приятное переживание встречи с ними.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































