Текст книги "Литературоведческий журнал №38 / 2015"
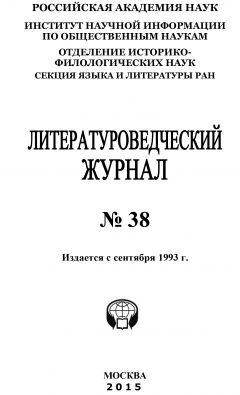
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
– Подлец! – прошептала Дуня в негодовании.
– Как хотите, но заметьте, я говорил еще только в виде предположения. По моему же личному убеждению вы совершенно правы: насилие – мерзость. Я говорил только к тому, что на совести вашей ровно ничего не останется, если бы даже… если даже вы и захотели спасти вашего брата добровольно, так, как я вам предлагаю. Вы просто, значит, подчинились обстоятельствам, ну силе, наконец, если уже без этого слова нельзя. Подумайте об этом; судьба вашего брата и вашей матери в ваших руках. Я же буду ваш раб… всю жизнь… я вот здесь буду ждать…
Свидригайлов сел на диван, шагах в восьми от Дуни. Для нее уже не было ни малейшего сомнения в его непоколебимой решимости. К тому же она его знала…
Вдруг она вынула из кармана револьвер, взвела курок и опустила руку с револьвером на столик. Свидригайлов вскочил с места.
– Ага! Так вот как? – вскричал он в удивлении, но злобно усмехаясь; – ну, это совершенно изменяет ход дела! Вы мне чрезвычайно облегчаете дело сами, Авдотья Романовна! Да где это вы револьвер достали? Уж не господин ли Разумихин? Ба! Да револьвер-то мой! Старый знакомый! А я-то его тогда как искал!.. Наши деревенские уроки стрельбы, которые я имел честь вам давать, не пропали-таки даром.
– Не твой револьвер, а Марфы Петровны, которую ты убил, злодей! У тебя ничего не было своего в ее доме. Я взяла его как стала подозревать на что ты способен. Смей шагнуть хоть один шаг и клянусь – я убью тебя».
Замечательно «ты», на которое она перешла, и на которое позднее, перед самым концом, и он переходит. В сущности – они ужасно сближены; сближены чрезмерностью его тяготения, и «ты» есть отзвук, что она уже обвеяна им, дышет в его дыхании, и удерживает собственно только последнюю минуту. Кстати, чтобы не возвращаться ниже: она не может его coit’ально любить, он для нее есть риторическая фигура, набор занимательных разговоров (см. весь роман) по чрезмерному несоответствию его уже растленных недр с ее целомудренными: она выходит за простого и целомудренного же Разумихина, без соответствия умов и характера, но с полною любовью. Он рвется к ней как именно к целомудренной, как в ту же ночь еще – к «пятилетней».
«Дуня была в исступлении. Револьвер она держала наготове.
– Ну, а брат? Из любопытства спрашиваю? – спросил Свидригайлов, все еще стоя на месте.
– Доноси, если хочешь! Ни с места! Не сходи! Я выстрелю! Ты жену отравил, я знаю, ты сам убийца!..
– А вы твердо уверены, что я Марфу Петровну отравил?
– Ты! Ты мне сам намекал; ты мне говорил об яде… Я знаю, ты за ним ездил… у тебя было готово… Это непременно ты… подлец!
– Если бы даже это была и правда, так из-за тебя же… все-таки ты же была причиной…
– Лжешь! Я тебя ненавидела всегда, всегда…
– Эге, Авдотья Романовна! Видно забыли, как в жару пропаганды уже склонялись и млели… Я по глазкам видел; помните вечером-то, при луне-то, соловей-то еще свистал?
– Лжешь! (бешенство засверкало в глазах Дуни) лжешь, клеветник!
– Лгу? Ну, пожалуй, и лгу. Солгал. Женщинам про эти вещицы поминать не следует. Он усмехнулся. Знаю, что выстрелишь, зверок хорошенький. Ну, и стреляй.
Дуня подняла револьвер, и мертво-бледная, с побелевшею, дрожавшею нижнею губкой, с сверкающими, как огонь, большими черными глазами, смотрела на него, решившись, измеряя и выжидая первого движения с его стороны. Никогда еще он не видал ее столь прекрасною. Огонь, сверкнувший из глаз ее в ту минуту, когда она поднимала револьвер, точно обжег его, и сердце его с болью сжалось. Он ступил шаг и выстрел раздался. Пуля скользнула по его волосам и ударилась сзади в стену. Он остановился и тихо засмеялся».
Механически звук выстрела, прикосновение пули, вернули его к реальным и разрозненным фактам, вывели его из атмосферы, которая гнетет его и связывает поступки, обрывает слова.
«– Укусила оса! Прямо в голову метит… Что это? Кровь! Он вынул платок, чтобы обтереть кровь, тоненькою струйкою стекавшую по его правому виску; вероятно, пуля чуть-чуть задела по коже черепа. Дуня опустила револьвер и смотрела на Свидригайлова не то что в страхе, а в каком-то диком недоумении. Она как-то сама уже не понимала, что такое она сделала и что это делается.
– Ну, что ж, промах! Стреляйте еще, я жду, – тихо проговорил Свидригайлов, все еще усмехаясь, но как-то мрачно; – этак я вас схватить успею, прежде чем вы взведете курок!
Дунечка вздрогнула, быстро взвела курок и опять подняла револьвер.
– Оставьте меня! – проговорила она в отчаянии: – клянусь, я опять выстрелю… Я… убью!..
– Ну, что ж… в трех шагах и нельзя не убить. Ну, а не убьете… тогда… Глаза его засверкали, и он ступил еще два шага.
Дунечка выстрелила, осечка.
– Зарядили неаккуратно. Ничего! У вас там еще есть капсуль. Поправьте, я подожду.
Он стоял перед нею в двух шагах, ждал и смотрел на нее с дикою решимостью, воспаленно-страстным, тяжелым взглядом. Дуня поняла, что он скорее умрет, чем отпустит ее. “И… и уже, конечно, она убьет его теперь, в двух шагах!..”».
Поразительна наступающая минута:
«Вдруг она отбросила револьвер». То есть, в сущности, внутри себя – она отдается ему, почти уже не надеясь ни на что, и не хотя ему причинить страдания. В ней пробуждается к нему нежность и почти любовь, насколько могло быть нежности и насколько могло быть любви, но coit’альной. Тотчас и в нем coit’альное же тяготение обливается нежностью. Насилие, в прежнем внешнем характере, стало невозможно; и если б оно совершилось – совершилось бы без сопротивления и с любовью с ее стороны.
«– Бросила! – с удивлением проговорил Свидригайлов и глубоко перевел дух. Что-то как бы разом отошло у него от сердца и, может быть, не одна тягость смертного страха: да вряд ли он и ощущал его в эту минуту. Это было избавление от другого, более скорбного и мрачного, чувства, которого бы он и сам не мог во всей силе определить».
Не чувство ли это, что он для нее – не гадина? Что она его подняла до своей чистоты? не теряя этой чистоты – ниспустилась к нему долу? «Ты человек, и я – женщина».
«Он подошел к Дуне и тихо обнял ее рукой за талию. Она не сопротивлялась…
Конечно, она любит его всею мерою любви, какую умела поднять в себе навстречу его безмерной любви; хоть на минуту, на миг…»
«…Но вся трепеща как лист, смотрела на него умоляющими глазами».
Это – тот обыкновенный стыд, о котором Митя Карамазов и насмешливо, и любя произнес:
Было робкое смущенье
Были нежные слова
и который в девушке сохраняется до последнего мига и после каждого мига. То есть то трансцендентное отталкивание, какое до этой минуты вздымало ее всю, поднимало ее руку – опало.
«Он было хотел что-то сказать, но только губы его кривились, и выговорить он не мог.
– Отпусти меня! – умоляя, сказала Дуня.
Свидригайлов вздрогнул: это ты было уже как-то не так проговорено, как давешнее».
Уже он для нее – не убийца жены; ни за что, ни за что она не повторила бы этого упрека; и никакого упрека – теперь и никогда.
«– Так не любишь? – тихо спросил он.
Дуня отрицательно повела головой».
Даже не сказала «нет»; не вырвалось «нет», т.е. этого «нет» сейчас и для этой минуты она не почувствовала в себе. Но и в нем поднялось все человеческое, вековое, помимо минуты:
«– И… не можешь?.. Никогда?» – с отчаянием прошептал он.
То есть – как Разумихин, для новой жизни, с полетом в новую жизнь.
«– Никогда!» – прошептала Дуня.
«Прошло мгновение ужасной, немой борьбы в душе Свидригайлова. Невыразимым взглядом глядел он на нее. Вдруг он отнял руку, отвернулся, быстро отошел к окну и стал пред ним.
Прошло еще мгновенье.
– Вот ключ! (Он вынул его из левого кармана пальто и положил сзади себя на стол, не глядя и не оборачиваясь к Дуне). – Берите; уходите скорей!..
Он упорно смотрел в окно.
Дуня подошла к столу взять ключ.
– Скорей! Скорей! – повторил Свидригайлов, все еще не двигаясь и не оборачиваясь. Но в этом “скорей” видно прозвучала какая-то страшная нотка.
Дуня поняла ее, схватила ключ, бросилась к дверям, быстро отомкнула их и вырвалась из комнаты. Через минуту, как безумная, не помня себя, выбежала она на канаву и побежала по направлению ему мосту.
Свидригайлов простоял еще у окна минуты три; наконец медленно обернулся, осмотрелся кругом и тихо провел ладонью по лбу. Странная улыбка искривила его лицо, жалкая, печальная, слабая улыбка, улыбка отчаяния» («Преступление и наказание», с. 447–456).
И он совершил свою молитву, как Marie Болконская – свою; и никто не взвесил на весах, которая была труднее. Но на одних весах, весах испуганной и выбежавшей девушки – она тяжелее весила и она была ценнее, а следовательно, собственно, и на всяких весах – даже Божиих. «Лишний человек», в том единственном отношении «лишний», для которого он – впрочем и Marie – жил и которое понимал, кончил с собой на утре, за ночь рванувшись только к «пятилетней», но и в ней почувствовал – растление. То есть, так как это был сон – почувствовав отражение растления своих недр до последних их глубин.
ХХХIIIДаже нельзя сказать, перечтя сцены, чтобы у него и у некрасивой девушки были усиленная и ослабленная, степени одного чувства. Ее «лучистость» полнее; она – цельнее; и, уж конечно, «капающей мирры» в этой «лучистости» более, чем в его порывах. Женственная и мужская форма выражения, то, что выражается и то, к чему выражено – там и здесь одни.
Мы перейдем к терминам, более правильным у Толстого, как у более искуссного: как солнце не устало в мириадах веков «излучиваться» на землю необъяснимым своим светом, так и земля, а на земле все земное – «излучивается» тем тяготением, которое Marie Болконскую поднимает на молитву и в ней поднимает мечты, Свидригайлова останавливает в нужную минуту и бросает к этой минуте, и Дуню заставляет затаиваться, беречься, поднимать руки, вздымать револьвер – для того чтобы потом, когда-нибудь, не вызвать скорбь на лице того, кто ей «уготован» и о котором она умеет молиться, хотя не в тех же словах, но не хуже, чем добрая и милая княжна. Тяготение – превращающее камень нашего тела в живую пыль; «красную глину» в нас обвевающее «дыханием Божиим». Люди «лучатся» еще; «мирра» – все «капает», необъяснимо, через тысячелетия, и не уставая как не устает свет солнца… «Лучи» их сплетаются; и из точек пересечения капают новые капли «мирры» – этот играющий безгрешный младенец: «папа, папочка, милый папочка, как он оскорбил тебя!» (восклицание Илюши, в «Бр. Кар.», отцу, которого «Митя» тащил за «мочалку»-бороду). Почему эта любовь и, главное, на чьих весах взвешенная любовь эта вывесила менее «любви» филантропической женщины, которая спешит на заседание комитета, раздающего пособия бедным: о, эти «бедные» давно наложили бы на себя руку и имея даже пропитание из «комитетов», если бы их, даже до последнего, не согревало это «папа, папочка!» и иногда шепот, ничуть не худший, чем у Джульеты и Ромео: «Думаю – помирать заодно», так одна прачка (случай, мне известный) бросилась на бешеного волка, уже искусавшего ее мужа. «Помирать – заодно»: вот еще чем мiр жив; и это «заодно» вовсе не на благотворительных базарах, где, как в улице Гужон, в Париже, вдруг обнаружились качества лунной, реторической, бессемянной любви; но это «заодно» – всюду, где капает «мирра», от Marie и до Свидригайлова, т.е. в орбиту свою охватывая весь мiр. Как легко бегут здесь ночи; какие усилия, какой героизм, какая сложность путей, по которым пятнадцатилетняя Джульета прибежала умереть под саваном своего Ромео. Я говорю – камень человеческого тела уже не камень, но «цветочная пыль»: в ней есть неуловимые для глаза «придатки»-крылышки; но ветер «обстоятельств» уловляет эти придатки-крылышки и на них несет человека к его таинственной, то печальной, то радостной судьбе. И вот века истории промелькнули, вот протянулись тысячелетия; и все еще с неопавшими «крылышками» несется эта цветень; все еще весна на земле; мутны воды, ароматен воздух; и, по молитвам нашим, по молитве, которою мы не устанем «лучиться» к Богу – еще долго и, может быть, никогда не наступит для земли этой более душистая и вовсе никому не нужная осень.
Необозримым вниманием своим Толстой примкнул к этой несущейся людской «цветени»; прилег ухом к «матери-земле» и слушал ее таинственные тяготения. Человеческая плоть, «черные солдатские спины», которые до Бородина грязнили грязный уже пруд и из которых после Бородина вырезывали пули; запах тела – от благоуханной спальни Кити, которая поразила Вронского и заставила его отложить предположенную ночную поездку, в холостой компании, и до пота ног Платона Каратаева; пот недостаточный и неясный у Сони, чрезмерный и отчетливый у Наташи. И всюду плоть, всегда и впереди всего плоть, все обусловливающая собою плоть – вот что он непрестанно втягивает в себя на протяжении XIV томов; изучает, различает; и отсюда усиливается вырвать элевзинские таинства природы и человеческой судьбы. Его первое произведение, т.е. первая и вдумчивая мысль, то, о чем он торопливо захотел сказать – Детство и отрочество: т.е. рожденное дитя, этот безгрешный Коля, над кроваткой которого «жестокий» Карл Иванович возится с хлопушкою; он, и параллельно ему – Володя; дети, в которых грех зарождается и существует в столь неодинаковых видах. И везде потом – рожденные дети разбегаются веселою толпой: помнится, в «Анне Карениной» дети пекут малину на свечке, пускают фонтаны молока, уже во всяком случае кормят куском утаенного пирога – брата, который за шалость был оставлен «без пирога». «Папа, милый папочка!»… у него не страдают дети, как всюду у Достоевского, но, как и у того: дети, всюду решительно дети. Мы сказали: «рожденные» дети – не без мысли и намерения; если внимательно сличить их с мальчиками на «Бежином лугу», мы уловим, что эти последние суть бытовые фигурки, скорее взрослые в летах своего малолетства, чем малолетки с запахом рождения, еще на них оставшимся, еще с них не сошедшим. В Сереже («Ан. Кар.»), в не названном мальчике, которого отец-хозяин провозит по двору («Хоз. и раб.»), в сыне-гимназисте, которого «жалеет» умирающий Иван Ильич, мы чувствуем именно рожденную и бьющуюся рождением плоть: фигурка ясно отнесена не к последующему, не к «чтó из нее выйдет», а к предыдущему, к «как она была зачата». «Больничная вонь»… но у Толстого – «вонь» родовспомогательного заведения, и, может быть, она еще менее понравилась бы Тургеневу: в «Анне Карениной», марая кружева его поэзии, мешая всем изящным выгибам его щеголеватого построения – двое родов, с муками, криками и только без выписки лекарств, которые стояли на столике рожениц. Наташа, в «Войне и мире», помнится одиннадцати лет выбегая в первый раз с большою куклою, – через несколько страниц, уединившись с Борисом, настойчиво шепчет ему, чтобы он ни на кого не заглядывался и оставался ей верным «женихом»: только пять лет осталось ждать. Наташа… как этот тип запомнился всем; как поразил всех после бледно-зеленых наяд, никогда не умеющих рождать, которых начиная от Татьяны («Евг. Он.») и всегда и до конца однех видела и знала наша литература: почти одиннадцати лет – она полна рождением; вот семя, которое хочет расти; или, точней и глубже, – «трава, сеющая семя по роду ее» (Бытие, 2), «чрево», которое «волнуется» от каждого мужского приближения (Песн. песн.). Она бежит с Анатолем Курагиным, нисколько не разлюбив Андрея Болконского, но потому, что этот был далеко, а тот подошел близко, на расстояние, где «тяготение» становится нестерпимо. Каким смыслом, какой поэзией облито это лицо у гр. Толстого: основное, от которого Долли, Анна, Кити побегут как его вариации: все – беременеющие, эти хвостатые кометы, осыпающуюся светоносную пыль которых так любит наблюдать Толстой и даже только ее он любит вдыхать в себя. Мы, искусно приноровив глаз, замечаем, что это – только переодетая в чистые панталончики «Грушенька», т.е. это – та же Сидонская Ашера, прорывающаяся сквозь две тысячи лет иной и чуждой культуры и ставящая «столп своего утверждения» в розрез и противоречие всем окружающим. И как она плачет; как умеет она омыть слезами неудежанный порыв:
«– А, что? Москва горит? Ну, где?
Соня ей указывала зарево пожара; Наташа передвинулась около окна, но так, что Соне очевидно было, что она ничего не видит, не может видеть.
– Да, да, вижу, – чтобы не огорчать подругу, ответила она. И ее мать, и Соня, и все почувствовали, что ей нет решительно никакого дела до пожара Москвы: она узнала, только за час узнала, что в обозе, с которым ехали они, везли и раненого князя Андрея» («Вой. и м.»).
Невообразимое одушевление разлито по всей ее фигуре: собственно, это – самое одушевленное лицо в нашей литературе; вся ее жизнь так мучительная в скорби, однако нисколько ее не убивающей, – вне граней этого эпизода слагается в непрерывающуюся, не утомляющуюся резвость. Она не устает, и мы не можем ее представить уставшею – вот ее отличительная черта. Поездка ее к дяде, и там пляска, помнится зимою – сцена характерная для всего творчества Толстого; конечно, у холостого пожилого дяди, как никогда бы у Тургенева, как непременно бы у Достоевского, из-за дверей конфузливо выглядывает красивая и полногрудая женщина. Что-то ласковое проходит между нею и Наташею, – ничего не понимающею; но, конечно – оне родные, «единоутробные», почти как Сара и Агарь, одна в 80 лет собравшаяся родить и другая – родившая ей «в помощь».
«– Агарь, вот ты беременна: вернись к госпоже твоей Саре» (Бытие).
Строка эта, в истине и смирении своем, как бы падает откуда-то с надзвездной высоты на всю сцену, обдавая теплом и лаской и обрадованного дядю, который не знает, куда посадить «графинюшку», и его застыдившуюся «хозяйку», и Наташу, которая, помнится – берет ее за руку и выводит в «светлицу». В утренней свежести, для которой, кажется, никогда не настанет вечера, Наташа также прекрасна, хотя и в совершенно другом роде, как таинственная и нежная княжна Марья. Две благодатные людские цветени, одна с прозрачными и длинными, как у ангела, «придатками»-крылышками, и другая – с короткими и навостренными, как нос птички: конечно, оне забеременели в конце романа.
«– Как я некрасива, как ты можешь меня любить такую», – указывая на живот, говорит Марья мужу…
Николай Ростов задумался и высказал вековечное слово: «такую… Но какая бы ты ни была, всегда есть или может быть лучше, т.е. красивее тебя». Смысл слов был тот, что она дорога ему не за красивость, которая меркнет в человеке и которою никогда человек не может превосходить всех, но по иным основаниям, которых он не знает и не хочет отыскивать, но которых нисколько не колеблет висящий ее живот. Наташа, острая и изящная до замужества с Пьером, – после замужества, кажется пачкаясь в «зеленом» и «желтом» ребенка, распустилась, раздобрела, но уже ни о чем его не спрашивала, а только требовала и распоряжалась.
Одна из поразительных особенностей кн. Марьи, если мы ее сравним с Наташею, состоит в ее способности к жестокости: до конца она не любит Соню, которая когда-то нравилась Николаю, и не находит в себе ничего к этой девушке-сироте, которая, однако, великодушием своим составила ее счастье. Наташа не может быть жестока: она может только рассердиться, вспылить; в ней есть эмбрион гнева, и нет эмбриона ненависти, как длительного, постоянного состояния души, который есть у кн. Марьи; с тем вместе в Наташе нет и тени той пронизывающей любви, досягающей недр любимого человека, как у Марьи – к отцу ли, к брату ли, даже к крестьянам (сцены после смерти отца-Болконского). Наташа – похотлива, Марья – сладострастна; ее задумчивость, может ли она теперь, беременная, нравиться мужу, заключал и другой смысл, на который не ответил Николай и о котором он не догадался, вообще более жены ограниченный, менее «лучащийся»; ее «тяготение», еще до замужества, не порывающееся, не ускоряющееся от внешних толчков, созрело внутреннею зрелостью; оно давно обняло все ее существо, «пролилось» на мысль, «капнуло» в сердце, и через всю ее как скрытый фосфор «лучится». То есть оно не мистно и духовно; глубже и страшнее. Она, достигнув – затаивается; утаивает от мiра сокровище свое, о котором так умела молиться; и даже мысль, что чей-то взгляд мог бы проникнуть сюда, что-нибудь отсюда похитить, даже – что некогда от этих сокровищ один луч пал на хорошенькую русую головку «вымазавшейся углем, наподобие гусара» Сони – приводит ее, серьезную, в ярость. Чувство собственности, о котором мы в самом начале говорили – в высшей степени ей присуще. Это тело – ее, по слову:
«Муж – не господин своего тела, но жена; равно и жена не госпожа своего тела, но – муж» (Ап. Павел).
И она не только ничего из него теперь не отдаст, но и отыщет всякого, кто из него черпнул, и возместит. Это – полнота любви:
«Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой – мне; он пасет между лилиями» (П. песн., VI, 3).
«Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною – любовь» (ib., II, 4).
Все это, весь круг этих таящихся чувств и затаенных отношений составляет центр внимания Толстого; здесь он нашел созвездия, по которым составляет всемiрный гороскоп. Параллелизм в больших его романах, этих аналитических эпопеях, есть параллелизм судьбы неодинаковых задатков, но неодинаковых в этом именно, нами указываемом, отношении: Marie и Наташа, Андрей и Пьер – в «Войне и мире»; Анна и Долли, даже Анна, Долли и Кити – с Вронским, Стивою и Левиным – в «Карениной»; с эмбрионами «романа» у Вари и Кознышева: но этим помешал так запомнившийся и насмешивший всю Россию «гриб». Публицист, ученый и деятель, начав таять, решил объясниться с великодушной и спокойной девушкой, которая ему чрезвычайно нравилась. Они искали грибы и могли, не вызывая вопроса, «бродить» около друг друга: минуту, даже минуты они шли рядом и у него уже срывалось признание с губ, которого она счастливо, но спокойно ожидала, когда неожиданно в самом деле попался большой и здоровый гриб; его нужно было сорвать – просто нельзя было, смешно было пройти и не взять. Он взял гриб, тут же превосходно описанный: с корешком, напоминавшим щеку, уже два дня не бритую: но это перебило ему слова и рассеяло настроение. Когда они пошли дальше, то Варя уже поняла, но впрочем без волнения поняла, что объяснения не будет.
«Карамазовской» силы не хватило; вот где мы понимаем мистику Свидригайлова, т.е. мистику его создания художником, и, наконец, положения его в мiроздании, «без чего ничто же быть, яже бысть…». Он – мы говорим о Кознышеве – понял удобства своего холостого положения, так благоприятного занятиям, и она осталась, впрочем тоже без горечи, возить больную ногами женщину. «Папа, папа, милый папочка!» – ни этих звуков в мiре, ни тех не менее прекрасных фонтанов из молока, которые пускали ребятишки неувядаемо прекрасной Долли.
Параллелизм выдвигаемых фигур, как пары выбрасываемых в гадании карт, дает высокому пытателю судеб человеческих удобство видеть, как разное семя, около которого свита каждая фигура, выростает в неодинаковую траекторию жизненной судьбы. Удивительно: ни об одной из героинь и даже собственно ни об одном из героев, у Толстого – в противоположность Тургеневу – не сказано, где они «окончили» курс, чтó знают и знают ли что-нибудь. Еще удивительнее, что, необъятный ум, он не дал ни одной фигуры необъятного и даже выдающегося, замечательного ума. Ни одного рассуждения, напоминающего идеи Раскольникова или Ивана Карамазова; и вообще – никакого головного мучения; что-то напоминающее гениальное (в уме, в способностях) есть только в Анне, самом грустном из созданных им образов. Он слушает, он внимает – только «чреслам»: здесь проходят все муки героев; отсюда ясно растет их судьба. Здесь он открывает мудрость, над которою уже не смеется, как подсмеивается постоянно над политико-экономическими идеями Левина и над складыванием имени Наполеона в число «666», чем занят Пьер Безухий:
«– Я думаю, вам следует, барин, жениться»,
неожиданно отвечает старая нянька Левину, спросившему у ней что-то по политической экономии или о деревенском быте. И, как это ни странно представить себе – отсюда выпячивается огромная панорама событий, на которую мы любуемся в живописи Толстого: эти битвы, эта охота, эти скачки, это
«– Тит, а Тит – иди молотить»
отступающих из-под Аустерлица русских солдат, и
«– О, о-о-о! о-о-о!»,
которое кричит Курагин, держа отрезанную свою ногу. Что же может быть одушевленнее беременного живота, напряженных «чресл», и с этой точки зрения рассматриваемые «траектории» жизни, в этой точке слушаемые судьбы человека не выникнут ли перед взглядом удивленного зрителя великолепною игрой красок, дивными перекрещивающимися линиями – от Бородина до прорванной кофточки, которой стыдится Долли в дворце Вронского, от мечтаний Сережи Каренина об «Александре Невском», которого получит его отец, и до действительного утешения, которое Бетси Тверская получает от лакея. Все отсюда; и мiр вообще одушевлен – насколько он там «лучится». От этой точки зрения – необъятная одушевленность созданий Толстого, и, может быть, одушевленность его как человека.
И времени полет его не сокрушит.
Он вечно юн, вечно играет; «Хозяин и работник» еще исполнен свежести; точает лапти, кладет печи – в старости; ему вечно нужно что-то выдумывать, что-нибудь начинать. Именно – начинать, почти – «зачинать», как зачинает женщина – предмет его непрестанного внимания и слушания. Пишет предисловие к Мопассану, не опасаясь смутить своих воздержанных последователей; составляет (после «Крейцеров. сонаты») коротенькое, но внимательное предисловие к «Токологии» г-жи Стокгэм; коротко предисловие, но значительны слова: «есть много всеми читаемых и никому ни для чего не нужных книг: но вот книга истинно и всякому нужная»259259
Токология – гигиена беременности; г-жа Стокгэм – американская женщина-врач; книга посвящена ею своей замужней дочери; все эти подробности любопытны в отношении к Толстому, который предисловием как бы посвящает книгу обществу, или, пожалуй, как бы подводит к книге общество.
[Закрыть]. Он никогда не боится в себе противоречий, прекрасно и правдиво не хочет260260
То есть он знает, он один из немногих знает, насколько жизнь глубже, прекраснее и живее логической, да и всякой вообще, не исключая нравственной, последовательности. Пьер, в начале «Войны и мира» дает зарок чего-то не делать; и сейчас, в тот же вечер, его нарушает. Это характерно для всего творчества Толстого, для его воззрения на жизнь.
[Закрыть] их бояться: как Наташа любя, истинно любя Болконского, истинно же вспыхивает влюбленностью к Анатолю:
«– То-то мудрец едет»
проговорил о нем Пьер, увидя его подбоченившегося в санях и завивающего ус, после того как Наташу у него все-таки захватили и отняли, или не пустили к нему. Еще удивительнее: у Толстого и в самом деле все немножко «мудрецы», насколько они не рассуждают или, по крайней мере, рассуждениям своим не верят: Кознышев, Катавасов – вот люди, то профессора, то публицисты, к которым одним он решительно ничего не чувствует, и, может быть, на которых в самом деле накинута пленка глупости – насколько они не рождают и не умеют рождать. Удивительная точка зрения: но, в сущности, это – точка зрения той «детской колясочки», от которой «не отходил» Достоевский, и с точки зрения которой он также, и столь же смело, судил мiр:
«О, да, все это будет без благоговения, без радости – брезгливо, с бранью, с богохульством при такой великой тайне, появлении нового существа!.. Но – она лучше всех» («Бесы», с. 520).
Это Шатов, к которому после двух лет разлуки приехала жена и тут же начинает родить, говорит Кирилову, прося у него горячего чаю для больной и собираясь бежать к акушерке Виргинской, из «наших» т.е. из «общества» Верховенского-сына; Виргинская, Арина Прохоровна, и правда была «лучше всех»; в критическую комнату его выслали из комнаты:
«Он приник лицом к стене, в углу, точь-в-точь как накануне, когда входил Эркель. Дрожжа как лист, он боялся думать, но ум его цеплялся мыслию за все представлявшееся, как бывает во сне. Мечты безпрерывно увлекали его и безпрерывно обрывались как гнилые нитки. Из комнаты раздались наконец уже не стоны, а ужасные, чисто животные крики, невыносимые, невозможные. Он хотел было заткнуть уши, но не мог, и упал на колена, бессознательно повторяя: ‟Marie! Marie!” (имя жены). И вот наконец раздался крик, новый крик, от которого Шатов вздрогнул и вскочил с колен, крик младенца, слабый, надтреснутый. Он перекрестился и бросился в комнату. В руках у Арины Прохоровны кричалось и копошилось крошечными ручками и ножками маленькое, красное, сморщенное существо, беспомощное до ужаса и зависящее как пылинка от первого дуновения ветра, но кричавшее и заявлявшее о себе как будто тоже имело какое-то самое полное право на жизнь… Marie лежала как без чувств, но через минуту открыла глаза и странно, странно поглядела на Шатова…»
Мы не должны забывать о двух годах, до этого вечера, разлуки супругов: она все странствовала, где-то за границей, по революционным курортам, и, вообще, подобно как ее муж за год, сама до этого дня была из «наших»:
«Совсем какой-то новый был этот взгляд, какой именно – он еще понять был не в силах, но никогда прежде он не знал и не помнил у ней такого взгляда».
«– Мальчик? Мальчик? – болезненным голосом спросила она Арину Прохоровну.
– Мальчишка! – крикнула та в ответ, увертывая ребенка.
На мгновение, когда она уже увертела его и собиралась положить поперек кровати, между двумя подушками, она передала его подержать Шатову. Marie, как-то исподтишка и как будто боясь Арины Прохоровны, кивнула ему. Тот сейчас понял и поднес показать ей младенца.
– Какой… хорошенький… – слабо прошептала та с улыбкой.
– Фу, как он смотрит! – весело рассмеялась торжествующая Арина Прохоровна, заглянув в лицо Шатову: – экое ведь у него лицо!»261261
Мы обращаем внимание читателя на веселый тембр всех речей; при чтении сцены, нужно держать в уме описание родов Кити («Ан. Каренина»).
[Закрыть].
Во всяком случае – это лицо не могло быть похоже на Шатовское.
«– Веселитесь, Арина Прохоровна… Это великая радость… – с идиотски-блаженным видом пролепетал Шатов, просиявший после двух слов Marie о ребенке.
– Какая такая у вас там великая радость? – веселилась Арина Прохоровна, суетясь, прибираясь и работая как каторжная».
Это какой-то пасхальный тон; победный; тот до известной степени («бе яко туман вод») «вопль восторга серафимов, потрясших землю и мiроздание осанною», к которому чуть было не «присоединился» небесный Приживальщик, но удержался, вспомнив вовремя о необходимом минусе в бытии («Бр. Карамазовы», II, 354). Здесь, в этой суете рождения, нет минуса. Виргинская, «из наших» – также примирена, и, что главное – с нею примирены Шатовы, примирен (в тоне рассказа) даже автор, хотя в тот же вечер, в наступающую ночь, «наши» укокошат Шатова, а его жена и ребенок погибнут в отчаянии, в поисках, на утро после родов – отца и мужа.
«– Тайна появления нового существа, великая тайна и необъяснимая, Арина Прохоровна, и как жаль, что вы этого не понимаете!
Шатов бормотал бессвязно, чадно и восторженно. Как будто что-то шаталось в его голове и само собою без воли его выливалось из души.
– Было двое, и вдруг третий человек, новый дух, цельный, законченный, как не бывает от рук человеческих; новая мысль и новая любовь, даже страшно… И нет ничего выше на свете!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































