Текст книги "Литературоведческий журнал №38 / 2015"
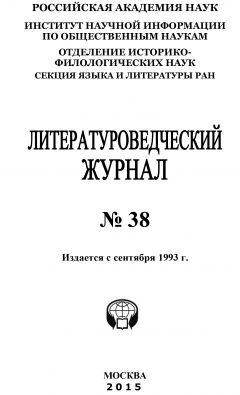
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
– Эк напорол! Просто дальнейшее развитие организма, и ничего тут нет, никакой тайны, искренно и весело хохотала Арина Прохоровна. – Этак всякая муха тайна. Но вот что: лишним людям не надо бы родиться. Сначала перекуйте так все, чтоб они не были лишние, а потом и родите их. А то вот его в приют послезавтра тащить… Впрочем это так и надо.
– Никогда он не пойдет от меня в приют! – уставившись в пол твердо произнес Шатов.
– Усыновляете?
– Он и есть мой сын»262262
Позднее, через несколько строк, без великолепия как у Толстого (примирение во время родов Анны и Каренина, «держащего на руках чужого ребенка» – с мыслью: trop ridicule <слишком смешно (фр.)>), но в необыкновенно трогательных и нежных словам Marie сознается Шатову, что ребенок – от Ставрогина. «Губы ее дрожжали, она крепилась, но вдруг приподнялась, и, засверкав глазами, проговорила:
– Николай Ставрогин – подлец.
И бессильно, как подрезанная, упала лицом на подушку, истерически зарыдав и крепко сжимая в своей руке руку Шатова» (с. 531). Вся эта сцена очень важна, и собственно в ней наряду с чтением Степана Трофимовича с книгоношею Евангелия лежит заключительный взгляд автора на «наших» (бесы, вселившиеся в свиней).
[Закрыть] («Бесы», с. 529–530).
Вот это рождение, всякое и при всех условиях, и во всех условиях благословляемое, и есть новая точка зрения, на которую неожиданно стали оба великие мистика и с нее начали понимать и обсуждать, а наконец даже и судить мiр. Вспомним еще мимолетное, в «Преступлении и наказании», афористически брошенное замечание о Лизавете, глухой сестре (девице) процентщицы: «каждый год ухитрялась она забеременеть, и хоть сестра каждый раз била ее за это, она на следующий год опять бывала беременна». – «Лизавета, добрая», говорит Раскольников о ней, уже после убийства. Каренин и Анна примиряются во время родов; рождает милая Кити, «комната которой имела такой необъяснимо привлекательный запах» для Левина: это – еще в девичестве ее; но вот – она в замужестве, и как жадно, «с чувством собственности» смотрит теперь на крепкий затылок мужа. Дочь Ивана Ильича, не глядя почти на умирающего отца, смотрит с этим же чувством или, скорей, с неясным любопытством на жилистую, сильную, немного лошадиную шею заниха, который за ней и ее матерью заехал перед театром. Анна так глядит на сильные бедра Вронского, и решительно не может переносить ушей своего мужа; даже Долли, «замученной непрестанными родами», что-то такое снится после игры в крокет, в которую мущины играли после обеда, сняв сюртуки, и, конечно, извинясь перед дамами. Это – вездесущие coit’альных тяготений, под битвами, земством, охотой, интригами; тот «oceanus», та «ύδορ», то «влажное начало», о котором между Фалесом и Анаксимандром греческие физики гадали, что «оттуда – все». Мы вспоминаем о «мандрогорах» (яблоки чадородия), найденных сыном Лии, и за которые, уступив их сестре, она потребовала ночи с мужем:
«– Ты завладела моим мужем и хочешь еще мандрагоров сына моего.
– Пусть он ляжет с тобой в эту ночь за мандрагоры сына твоего» (Бытие, 30, ст. 16).
Так, завистливо оглядываясь на «чресла» одна другой – проходят сестры-девицы, одна – «больная глазами», другая – «красивая станом и (потом, меньше, ниже) лицом». Вот древняя, но еще сильнейшая буря тех же тяготений; буря рождения, но еще неудержимее благословляемого, и также всегда, и всякого, во всех условиях, даже не обегая тех, при которых как бы в сомнамбулическом сне прошли одна за другою обе дочери Лота, и не утаились перед мiром:
«И нарекла имя ему Моав, говоря: он от отца моего. До сих пор он отец моавитян. И младшая также родила сына и нарекла ему имя Бен-Амми, говоря: он сын рода моего. Доныне он отец аммонитян». (Бытие, 19, ст. 37–38).
И написатель книги не утаил факта, не убоялся всемiрного неудержимого смешка в ответ – «c’est ridicule263263
это смешно (фр.).
[Закрыть]»; как не боялся, но полубоялся его и Каренин; не убоялся вовсе Шатов, т.е. Достоевский, улыбки Арины Прохоровны, которою она засмеялась, выйдя от роженицы: «по всему видно – в отцы собирается» («Бесы», 530). Семидесятилетняя Сарра засмеялась, но Таинственный Посетитель под дубом мамврийским сказал: «Чего смеется Сарра – разве есть чтó трудное для Господа? В назначенный срок буду Я у тебя в следующем году и будет у Сарры сын» (Бытие, 18, ст. 14). – «Нет тайны выше, святее»; «о, я знаю, у них все это без благоговения, с богохульством». Небесное видение, разорванное четырьмя тысячелетиями, снова сращивает края свои. Вот полнота исторического явления. Точка зрения Сима вдруг выникает среди «идей» и «головных» болей быстроногого Иафета, темная восточная голова вырезалась из светло-русого арийского ложа к ужасу повитух-историков, повитух-критиков, повитух-публицистов, хватающихся за голову и кричащих: «c’est ridicule». Но из ложа вырезалась не одна голова; их ряд, с одним в сущности словом на устах, одним заветом, одинаковым указанием:
Посыпал пеплом я главу
Из городов бежал я, нищий…
И, что всего замечательнее, с равною почти настойчивостью проповеди и даже какой-то долгожизненности. «Чти отца и мать – и долговечен будешь». – «Не правда ли, живуч как кошка?» – «Они пойдут и не устанут, полетят и не утомятся» (Исаия), «иду, иду – и хотя бы на тысячу лет» («Сон смешного человека»).
XXXIV«Во всяком сердце, во всякой жизни пробежало чувство, промелькнуло событие, которых никто никому не откроет, а они-то самые важные и есть; они-то обыкновенно дают тайное направление чувствам и поступкам»; как похоже, до буквальности похоже это признание необыкновенно индивидуального характера, страшных глубин субъективности, написанное в 1841 г., на другое воспоминание, записанное в 1879 г., но относившееся к 1849 г.: «В эти последние минуты некоторые из нас (я знаю положительно) инстинктивно углубляясь в себя и повторяя мгновенно всю свою, столь юную еще жизнь, – может быть и раскаивались в иных тяжелых делах своих – (из тех, которые у каждого человека всю жизнь лежат в тайне на совести); но то дело, за которое нас судили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом – представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим, мученичеством, за которое многое нам простится».
Тонкая паутинка, необыкновенно характеризующая человека, ясно извлеченная из великих глубин души, необыкновенно личная, и, наконец, сказавшаяся невольною обмолвкой – записана в «Отрывке начатой повести» у Лермонтова, и в «Дневнике писателя» Достоевского, в воспоминании о минуте на эшафоте: 1841–1849 год – время записи и момента, к которому отнесено воспоминание. Одно и то же десятилетие, т.е. та же, еще тянущаяся минута в развитии исторического сознания общества. Так иногда встречая двух человек, ни в чем не похожих с лица, и провожая глазами их вслед мы открываем какую-нибудь деталь, что-то родное в походке, в манере одинаково размахивать руками, что, в сущности, это – один, но только раздвоившийся в судьбе своей человек, с одними «корнями» бытия «в небесах», с тем же «касанием мiрам иным» и только с различною верхушкою, опрокинувшеюся на землю:
Когда ты спишь…
И шибко бьется девственною кровью
Младая грудь под грезою ночной,
Знай – это я, склонившись к изголовью
Тобой любуюся…
(«Сказка для детей»).
Несколько похоже – о, конечно, в великолепных красках, и к тому же в стихах – но похоже на грезу Свидригайлова, не о пятилетней, но о другой:
«Букеты белых и нежных нарцисов… Полы усыпаны свежею, покошенною травой… Цветы, решительно везде цветы… Вся в цветах лежала девочка, в белом тюлевом платье, со сложенными и прижатыми к груди, точно выточенными руками. Ей было только четырнадцать лет» («Прест. и наказ.», 465). И Нины («Сказка для детей») – только позднее, гораздо позднее исполнилось семнадцать лет:
То был великий день – семнадцать лет
но это гораздо позднее, до этого –
…годы шли безмолвной чередой
И вот настал тот возраст, о котором…
И проч.; и в минуту рассказа, за «чреду годов» до совершеннолетия, она была четырнадцати, «даже может быть тринадцати, даже двенадцати может быть» лет
Перенестись прошу…
За мною в спальню: розовые шторы
Опущены; с трудом лишь может глаз
Следит ковра восточные узоры;
Приятный трепет вдруг объемлет вас
И, девственным дыханьем напоенный,
Огнем в лицо вам пышет воздух сонный.
Вот ручка, вот плечо, и возле них
На кисее подушек кружевных
Рисуется младой, но строгий профиль…
И на него взирает…
Имя Мефистофеля названо, и сейчас же отброшено, как и «опаленные крылья» в «Кошмаре Ивана Федоровича» («Бр. Кар.»). Оно заменено – еще у двадцатисемилетнего поэта заменено – более действительным мазком, раннею гримасой на позднее вызревшего «Приживальщика»
То был ли…
…мелкий бес из самых нечиновных
Почти хочется прервать восклицанием Ставрогина, вслед уходящей Даше: «Какой мой демон: так, маленький, гаденький, золотушный бесенок с насморком, из неудавшихся» («Бесы», 266).
Которых дружба людям так нужна
Для тайных дел, семейных и любовных –
Не знаю. Если б им была дана
Земная форма, по рогам и платью
Я мог бы сволочь различить со знатью.
Но дух – известно, что такое дух:
Жизнь, сила, чувство, зренье, голос, слух,
И мысль без тела – часто в видах разных…
Бесов вобще рисуют безобразных.
Опять это представление, сейчас переходящее в ребяческий лепет об «опаленных крылах» (см. следующие строки «Сказки для детей»), очень напоминает «Приживальщика», «испаряющегося» от «мокрого полотенца», т.е. какое-то дрожание нашей собственной природы, ее тень, но брошенную в небеса, или, пожалуй, небесный прообраз («двойник»), павший лучем сюда.
Я стал ловить блуждающие звуки,
Веселый смех и крик последней муки:
То ликовал иль мучился порок!
В молитве я подслушивал упрек,
В бреду любви – бесстыдное желанье,
…безумство иль страданье.
Не это ли темы Достоевского, почти полный очерк его тем, в гениальной миньятюре, включая даже такие подробности, как: «Николай Всеволодович если верит – то он не верит, что верит; а если не верит, то он не верит, что не верит» («Бесы»), «Надрыв в избе» и «На улице» («Бр. Карамазовы»), и показание, что, «вскрыв тело Николая Всеволодовича, доктора настойчиво и твердо отвергли помешательство» («Бесы», последняя строка). Но как туманные нити, живые связи протягиваются между всеми писателями, которых мы теперь исследуем:
«Горы те – не горы: подошвы у них нет, внизу их, как и вверху, острая вершина, и под ними и над ними высокое небо. Те леса, что стоят на холмах, не леса: то волосы, поросшие на косматой гриве лесного деда. Под нею в воде моется борода, и под бородою, и над волосами высокое небо. Те луга – не луга: то зеленый пояс, препоясавший посередине круглое небо, и в верхней половине, и в нижней половине прогуливается месяц».
Не правда ли, это один метод рисовки, т.е. это один закон рисующей руки, здесь и в следующем описании:
Задумчиво столбы дворцов немых
По берегам теснилися, как тени,
И в пене вод – гранитных крылец их
Купалися широкие ступни;
Минувших лет событий роковых
Волна следы смывала роковые…
И еще:
Украшен был он (дом) княжеским гербом
Из мрамора волнистого колонны
Кругом теснились чинно, и балконы
Чугунные, воздушною семьей,
Меж них гордились дивною резьбой
И окон ряд, всегда прозрачно темных
Манил, пугая…
Вы думаете – здесь описана Венеция, что-то около дворца дожей, около Ponto di Rialto, как там – альпийская страна, с потухшими кратерами, подымающимися пиками («острые вершины»). Но это – Петербург около Николаевского моста и Глуховский уезд, Черниговской или какой губернии. Первое описание начинается строками:
«Любо глянуть с середины Днепра на высокие горы, на широкие луга, на зеленые леса. Горы те – не горы», и пр. («Страшная месть», гл. 2); второе:
…Нева
Меж кораблей, сверкая на просторе,
Журча, с волной их уносила в море
Задумчиво столбы… и проч.
Оба поэта, оба таинственных посетителей нашей земли так мало любят ее, точнее – так слабо с нею связаны, что не заметили: один – что никакой «пены вод» на «матушке Неве – реке» не водится, а другой – что ночью (глава начинается словами: «Тихо светит по всему мiру: то месяц показался из-за горы…») луга кажутся черными, при совершенной близости – синими, но никогда – «зелеными». Но отличительная черта обоих поэтов, или, пожалуй, таинственных посетителей, и состоит в том, что они никогда не смотрят на землю, не замечают, что у них под ногами, но каким-то таинственным устремлением отброшены вдаль, один – долу, другой – в высь:
«Внизу их, как и вверху – острая вершина…».
Эта строка о мысленных пиках, уходящих в небо, и в отражении вод – уходящих в преисподнюю, удивительно выражает обоих поэтов. Ни одного взгляда – горизонтального, в уровень с собою, на действительность; оба глядят – один в высь, в разросшийся до гигантских очертаний идеал, другой – вниз, до сморщенной каррикатуры. Закон раздвижения в необъятное, закон суживания до миньятюры, но в обоих случаях закон одного вертикального созерцания, не в уровень с собою, не действительности, но под углом восторга или смеха, в одном случае – небесного восторга, в другом – преисподнего хохота:
…меж иных видений
…он сиял
…волшебно-сладкой красотою
Что было страшно. И душа тоскою
Сжималася – и этот дикий бред
Преследовал мой разум много лет
(«Сказ. для детей»).
Вот – всегда таков, и обо всем – так; мы говорим о Лермонтове.
«Кто он таков – никто не знал. Но уж он протанцовал на славу казачка и уже успел насмешить обступившую его толпу. Когда же осаул поднял иконы, [вдруг все лицо казака переменилось…]» («Страшная месть», гл. I).
И это он – «никто не знает, кто таков», даже проживя 20 лет на «ты», как старик Аксаков; «уже протанцовал казачка» в веселых «Вечерах на хуторе близ Диканьки»; «насмешив» до измору в «Мертвых душах» и «Ревизоре» «обступившую толпу», когда в «Авторской исповеди» и «Переписке с друзьями» «вдруг лицо казака переменилось», так что «все попятились и все показывали со страхом на стоявшего посреди их казака», спрашивая: «Он ли это?».
Верно всякий имеет своего «демона»; «корни», растущие «в мiрах иных». Но «демоны» обоих поэтов здесь сходятся:
«Скучно на этом свете, господа…».
Вот в этой заключительной строке «Ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем», строке невольно капнувшей с пера – полный очерк духовной физиономии Лермонтова, т.е. «демона», его мучившего, и равно, конечно, демона, мучившего того, с чьего пера капнула строка. Отсюда эти стеклянные панорамы, эти переплетающиеся, противоречивые, наконец чудовищные, и всегда неверные образы, лезущие из их души в пустой перед ними, опустелый в созерцании их мiр: закон всякого тела, поднявшегося в безвоздушную высь, где из ноздрей, ушей и глаз начинает сочиться кровь, или, пожалуй, – закон тела, вытащенного из глубин океана, из-под двуверстного водяного давления, на его поверхность, при чем, как это бывает у рыб, глаза, рот и все сосуды выпячиваются и выходят из орбит от нестерпимого внутреннего давления:
«Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит264264
Мы будем курсивом отмечать противоречия с тут же, чуть-чуть далее стоящими словами; разрядкой будем отмечать неестественности, неверность природе.
[Закрыть] сквозь леса и горы полные воды свои. Ни зашелохнет, ни прогремит: глядишь и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина, и чудится, будто весь вылит он из стекла, и будто голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по зеленому мiру. Любо тогда…»
Этим «любо», глубоко субъективным «любо» начинается одушевление по существу мертвой, по крайней мере не взятой из действительности, панорамы:
…Я плачу и люблю
Люблю мечты моей созданье
………………………………..
Так царства дивного всесильный господин
………………………………………………
Когда ж, опомнившись, обман я узнаю
(«Первое января»).
«Любо и жаркому солнцу оглядеться с вышины и погрузить лучи в холод стеклянных вод, и прибрежным лесам ярко отразиться в водах. Зеленокудрые! они толпятся вместе с полевыми цветами к водам, и, наклонившись, глядят в них и не наглядятся, и не налюбуются светлым своим зраком, и усмехаются ему, и приветствуют его, кивая ветвями; в середину же Днепра они не смеют глянуть: никто, кроме солнца и голубого неба, не глядит в него…».
Так – царства дивного всесильный господин…
Сущность «оживления» состоит не в том, что эта природа, тот «изображенный» или, скорей, окончательно забытый (на эти минуты) Днепр «живет», но живет, движется, трепещет поэт в своем созданьи:
Люблю мечты моей созданье
С слезами, полными лазурного огня,
С улыбкой…
Но, как в видении Лермонтова, не замечена неестественность «слез, полных лазурного огня», так Гоголь не замечает чудовищных слов о ширине Днепра:
«…Никто не глядит в него; редкая птица долетит до середины Днепра. Пышный! Ему нет равной реки в мiре. Чуден Днепр и при теплой летней ночи, когда все засыпает – и человек, и зверь, а Бог один величаво озирает небо и землю и величаво сотрясает ризу…»
Это космическое чувство, новый мотив в панораме – удивительно; гораздо ниже, гораздо позже мы объясним, как оно многозначительно:
«От ризы сыплются звезды; звезды горят и светят над мiром…»
Неестественным движением автор возвращается к начатому рисунку:
«…и все разом отдаются в Днепре. Всех их – держит Днепр в темном лоне своем; ни одна не убежит от него – разве погаснет на небе; черный лес, унизанный спящими вόронами, и древле разломанные горы, свесясь, силятся закрыть его хотя длинною тенью своею; – напрасно! нет ничего в мiре, чтó бы могло прикрыть Днепр. Синий, синий, ходит он плавным разливом и середь ночи, как середь дня, виден за столько вдаль, за сколько видеть может человечье око. Нежась и прижимаясь…»
Мы вспоминаем «сладострастно согнувшийся над землею купол, сжимающий прекрасную в объятиях своих» («Сорочин. ярм.», 1).
«Нежась и прижимаясь к берегам от ночного холода, дает он по себе серебряную струю, и она вспыхивает, будто полоса дамасской сабли, а он, синий, снова заснул. Чуден и тогда Днепр, и нет реки равной ему в мiре! Когда же пойдут горами по небу синие тучи, черный лес шатается до корня, дубы трешат…»
Если не ошибаемся – прибрежье Днепра, как и вся вообще Украйна, – безлесна: «Степи, степи – как вы хороши у Гоголя» (восклицание Белинского).
«Дубы трещат, и молния, изламываясь между туч, разом освещает целый мiр, – страшен тогда Днепр! Водяные холмы гремят, ударяясь о горы, и с блеском и стоном отбегают назад, и плачут, и заливаются вдали. Так убивается старая мать казака, выпровожая своего сына в войско: разгульный и бодрый, едет он на вороном коне, подбоченившись и молодецки заломив шапку; а она, рыдая, бежит за ним, хватает его за стремя, ловит удила и ломает над ним руки и заливается горючими слезами» («Страшн. месть», гл. 10).
Так царства дивного всесильный господин
Я долгие часы просиживал один…
………………………………………
Когда ж, опомнившись, обман я узнаю,
И шум толпы людской спугнет мечту мою –
На праздник незваную гостью:
О, как мне хочется смутить веселье их,
И дерзко бросить им в глаза железный смех
Облитый горечью и злостью.
Вот чтό почувствовал о себе Лермонтов; чтό мы бесспорно угадываем в Гоголе; кстати, с этим описанием Днепра, во всей полноте его особенностей, т.е. особенностей закона его создания, сливаются эти, также молодые строки (и описание Днепра дано в ранней молодости Гоголем):
…Казбек, как грань алмаза
Снегами вечными сиял.
И глубоко внизу, чернея
Как трещина, жилище змея
Вился излучистый Дарьял.
Это – те же сравнения, тот же закон сравнивания; а вот и то же одушевление:
И Терек, прыгая как львица
С косматой гривой на хребте,
Ревел; и горный зверь, и птица,
Кружась в лазурной высоте
Глаголу вод его внимали…
Это – те «птицы, которые не осмеливались долетать до середины Днепра».
И золотые облака
«Горы облаков по небу», но здесь они не «черные», как у Гоголя, но золотистые, сообразно с «золотящим», позлащающим законом лермонтовского воображения:
Из южных стран, издалека
Его на север провожали.
И скалы тесною толпой,
Таинственной дремоты полны,
Над ним склонялись головой,
Следя мелькающие волны;
И башни замков на скалах
Смотрели грозно…
Опять как в Малороссии вовсе нет лесов, нет вовсе замков с башнями на Кавказе… И, для полноты аналогии, вот «риза звезд», вот частная и местная точка описания, вдруг разливающаяся в широту небес, в глубокое космическое чувство:
Толпу духов моих служебных
Я приведу к твоим стопам
Прислужниц легких и волшебных
Тебе, красавица, я дам
И для тебя с звезды восточной
Сорву венец я золотой
Возьму с цветов росы полночной
Его усыплю той росой
Лучем румяного заката
Твой стан как лентой обовью;
Дыханьем чистым аромата
Окрестный воздух напою!
Всечасно дивною игрою
Твой слух лелеять буду я Etc.
(«Демон»).
В самом центре этой картины – нежащийся женский образ; и он обнимается поэтом так же, как другой поэт обнимает этот же женский образ, над ним «склоняющийся» то как «сладострастный небесный купол», то как «нежащаяся и прижимающаяся волна». Разница в страдательном или активном отношении, но к одному предмету: Гоголь – объект усилий, Лермонтов – субъект усиливающийся. В последнем – деятельный мужской характер; в первом – женственный, воспринимающий, покорно следующий. Замечательно, что темы лучших созданий Гоголя («Мертвых душ» и «Ревизора») были даны ему; Лермонтов-юноша не взял ни одной предложенной темы. В самой обработке данной, полученной темы у Гоголя страшная неподвижность: «возьмите человека, ездящего по поместьям»; он взял: Чичиков ездит по поместьям, и ничего еще к этому автор не прибавил в теме; «кажется – заснул, весь потонувши в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих» («Сорóч. ярмарка»).
Чувство ненатуральности, вымученности, наконец – прямо неправды не оставляет нас при чтении приведенных описаний, – по крайней мере все время, пока мы пытаемся отыскать действительные предметы, которые им соответствуют, с которых они были бы срисованы. Но на это же все, о чем мы говорим теперь, возможен и еще взгляд:
И звук его песни в душе…
Остался без слов, но живой.
И долго на свете томилась она
Желанием чудным полна;
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.
Вот другая точка зрения; еще формула, но этого же вековечного чувства:
– «Скучно на этом свете, господа».
Мы назвали их «таинственными посетителями»; они сами говорят о «демоне»; но почем знать, не глубокая ли это скорбь о себе? Черта смирения, самоуничижения, проклятия над своею головою; и без их сознания, вне их сознания – не есть ли это черта космического затаивания, черта позора, отрицания, проклятия, ложащаяся над тем, что этому обратно, но что в истинной природе нужно закрыть надежнее, нежели под чем-либо, затаивается; от мiра, от людей. «Демоны»… Но почему не небожители:
Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред твоим образом, ярким сиянием
………………………………………..
Не за свою молю душу пустынную
………………………………………
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мiра холодного.
Окружи счастием счастья достойную
Дай ей сопутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному – мир упования.
Срок ли приблизится часу прощальному
В утро ли шумное, в ночь ли безсчастную
Ты восприять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную?
Почему это – не благо, не красота, не истина? Неумело выраженная, но в мотиве – непоправимая?
«Помолись иногда и обо мне, Полечка: “и раба Божия – Родиона”; и больше ничего не нужно» («Прест. и наказ.»).
Почему, опять, это не правда?
«– Не так, ох, не так… Чтó за руки!
Шатов поправил еще.
– Нагнитесь ко мне, вдруг дико проговорила она, как можно стараясь не глядеть на него.
Он вздрогнул, но нагнулся.
– Еще… не так, ближе; и вдруг левая рука ее стремительно обхватила его шею, и на лбу своем он почувствовал крепкий, влажный ее поцелуй.
– Marie!
Губы ее дрожжали, она крепилась, но вдруг приподнялась и, засверкав глазами, проговорила:
– Николай Ставрогин подлец! (т.е. – от него ребенок).
И бессильно, как подрезанная, упала лицом в подушку, истерически зарыдав и крепко сжимая в своей руке руку Шатова.
С этой минуты она уже не отпускала его более от себя, она потребовала, чтобы он сел у ее изголовья. Говорить она могла мало, но все смотрела на него и улыбалась как блаженная. Она вдруг точно обратилась в какую-то дурочку. Все как будто переродилось. Шатов то плакал как маленький мальчик, то говорил Бог знает чтó, дико, чадно, вдохновенно; цаловал у ней руки; она слушала с упоением, может быть и не понимая, но ласково перебирала ослабевшею рукой его волосы, приглаживала их, любовалась ими. Он говорил ей о Кирилове, о том, как теперь они жить начнут “вновь и навсегда”, о существовании Бога, о том, что все хороши…»
Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами Райских садов
О Боге великом он пел – и хвала
Его непритворна была
«…В восторге опять вынули ребеночка посмотреть.
– Marie, – вскричал он, держа на руках ребенка, – кончено с старым бредом, с позором и мертвечиной? Давай трудиться и на новую дорогу втроем, да, да!.. Ах да: как же мы его назовем, Marie?
– Его? Как назовем? – переговорила она с удивлением, и вдруг в лице ее изобразилась страшная горесть.
Она сплеснула руками, укоризненно посмотрела на Шатова и бросилась лицом в подушку.
– Marie, что с тобой? – вскричал он с горестным испугом.
– И вы могли, могли… О, неблагодарный!..
– Marie, прости, Marie… Я только спросил как назвать. Я не знаю…
– Иваном, Иваном, подняла она разгоревшееся и омоченное слезами лицо; неужели вы могли предположить, что каким-нибудь другим ужасным (т.е. действительного отца) именем?
– Marie, успокойся, о, как ты расстроена!
– Новая грубость; что вы расстройству приписываете? Бьюсь об заклад, что если б я сказала назвать его… тем ужасным именем, так вы бы тотчас же согласились, даже бы не заметили! О, неблагодарные, низкие, все, все!
Через минуту, разумеется, помирились. Шатов уговорил ее заснуть. Она заснула, но все еще не выпуская его руки из своей, просыпалась часто, взглядывала на него, точно боясь, что он уйдет, и опять засыпала.
Кирилов прислал старуху “поздравить” и, кроме того, горячего чаю, только что зажаренных котлет и бульону с белым хлебом для “Марьи Игнатьевны”. Больная выпила бульон с жадностью, старуха перепеленала ребенка, Marie заставила и Шатова съесть котлет» («Бесы», 531–532).
Почему это, т.е. комплекс этих чувств и отношений и точка зрения на них автора не есть та бесспорная и окончательная правда, о которой сказал Апостол: «ею мы будем судить и Ангелов» (К Кор. I, гл. 6); тот апостол, который так, до силы этого выражения, знал правду в себе, и сознавался о себе:
«Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений – дано мне жало в плоть, ангел сатаны – удручать меня».
И прибавляет:
«Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но услышал: довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя в немощи совершается» (К Коринф., 12, ст. 7–8).
И еще, как бы давая полный очерк себя:
«Не полезно хвалиться мне; ибо я приду к видениям и откровениям…
Знаю человека, который назад тому четырнадцать лет (в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба.
И знаю о таком человеке (только не знаю – в теле или вне тела: Бог знает), что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таковым человеком – могу хвалиться; собою же не похвалюсь, разве только моими немощами» (К Коринф., 12, ст. 1–5).
И звук его песни
Остался без слов – но живой.
«– О, да я и сбиться очень – не могу: ибо я видел Истину, Живой Образ истины, который меня поправит и направит» («Сон смешн. человека»).
«– Войдя, она увидела его (Гоголя) в необыкновенном состоянии. Он держал в руке Чети-Минеи и смотрел сквозь отворенное окно в поле. Глаза его были какие-то восторженные, лицо оживлено чувством высокого удовольствия: он как будто видел перед собой что-то восхитительное. Когда вошедшая с ним заговорила, – он словно изумился, что слышит ее голос, и с каким-то смущением ответил, что читает житие такого-то святого» (Барсуков, XI, 520).
Почему не в этих словах – последняя истина? Почему она – в этом горьком сознании, скорбной удрученности: «нос вырос, согнулся на сторону; губы посинели; подбородок задрожал и заострился, изо рта выбежал клык, из-за головы – горб; и стал казак – не казак, а колдун» («Стр. м.»):
Бесов вообще рисуют безобразных…
(«Сказ. для дет.»).
«Какой мой демон – так, гаденький, маленький, из неудавшихся: с насморком» («Бесы»). Эта оглядка на себя, эта оценка себя, не то ли же, что скорбь об «ангеле сатаны», который не смотря на моление трижды, не хотел оставить Апостола? И Апостол решил сомнения: «Чтобы я – не возгордился», «не возгордился чрезвычайностью откровений», «восхищением до третьего неба». «Есть секунды, их приходит пять или шесть, больше нельзя вынести: чувствуется присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это – не земное; я не про то, что оно – небесное, но о том, что в земных условиях человек перенести не может… Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это – правда. Это – не умиление, а только так… радость. Бог когда мiр создавал, то в конце каждого дня создания, таинственного “бара” говорил: “Да, это правда, это – хорошо”. Вы не то, что любите – о, тут выше любви… Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая радость! Если более пяти секунд – то душа не выдержать и должна исчезнуть» («Бесы»).









































