Текст книги "Литературоведческий журнал №38 / 2015"
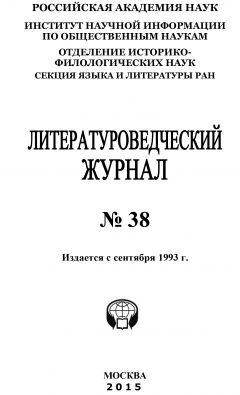
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
Не устанем следовать «долиною смертной тени» (псал. 22).
Мы можем отчетливо указать в Достоевском не только сладострастный образ, почему-то вдруг пронесшийся в воображении на пушкинском празднике, но и родник всех его, мы не ограничимся сказав: «высоких и неслыханных», но – «праведных и святых» страниц, которые в таком обилии уже прочел читатель:
«Судите сами: я до сих пор скрывал, но теперь доскажу и эту правду. Дело в том, что я… развратил их всех» («Дневник писат.», т. XII, с. 130).
Идея растления, но именно как «почувствованная мысль» (см. выше) лежит общим фундаментом под всеми его созданиями. Он говорит, в приведенном признании Дм. Карамазова, о «красоте», как вещи «страшной», где «Бог» борется с «дьяволом», а «поле борьбы – сердце человеческое». Он же говорит неоднократно и с чудным до странности вниманием об изумительной, неслыханной, неповторяемой ни в чем еще и ни в ком красоте детского лица, этом едином без греха и вины лице, какое мы знаем на земле. Вот красота в величайшем, духовном ее понимании; вот жажда чего в человеке может быть ненасытима, и слияние, умаление до которой может стать в нем пронзительным ощущением: «Как, пятилетняя – у, проклятая» и с этим восклицанием Свидригайлов проснулся в ужасе; раньше, и с разными лицами, в разных положениях, мелькают «четырнадцатилетняя, даже тринадцатилетняя»… Но все это может носить уже зачаток греха, тогда как дивный художник ясно и пронзительно всматривался за грань какого бы то ни было греха. «Дети, пока дети, до семи лет, например, странно отстоят от людей: совсем будто другое существо и с другою природой» («Бр. Кар.», I, 267). Где-то по сю сторону от пятнадцати, «но верите от тринадцати» лет – вот абсолютное, вот еще небо, без грязи нашей земли, без ее крови и ее обмана. Где же способ абсолютного слияния: проникновенный разговор, как Раскольникова с Полей, но уже и в конце его «она крепко обхватила его шею тоненькими ручками»; всякая степень близости, наростая, выростает в ласку и наконец она вырастает в лобзание, шепот обрывающихся речей, где более значит тон слова, чем смысл слова, улыбка около мысли, чем самая мысль, и вообще чувственно-воспринимаемое, нежели воспринимаемое логически; и, наконец, слияние, единство до нерасчленения, со-трепетание душ едиными крылами и в один раз – конечно это coitus. Вот безгрешное, природа чего льется на меня, заступает место моей грешной природы, пусть принимая ее в себя, ею отравляясь, гибня. Я спасен. Рай неба – я узнал. Вот по всему вероятию физиология страстных и вовсе, безусловно необъяснимых, даже иногда физически невозможных и тогда ничем не оканчивающихся попыток, которые покупаются ценою имущества, свободы и вообще удобств остальной всей жизни. Усилия, для которых нет логики, и так глубока психология, так наконец она истинна244244
Если бы в механической стороне акта мы предположили влекущее удовольствие, то то соображение, что растление пожилыми женщинами малолетних отроков очевидно исключает возможность механического удовольствия, и между тем это форма растления, с характером такой же неудержимости, имеет место в действительности, – это соображение должно остановить наше внимание на психологической и, очевидно, единственной основе ужасного греха.
[Закрыть]. Coit’альное чувство к детскому возрасту, как нагнетающий образ, как образ пронизывающий; «почувствованная мысль» sexual’ного к чему-то между четырнадцатью, тринадцатью, семью и даже до пяти лет, дойдя до яркости и многозначительности действительного акта, брызнуло – в одну сторону как невыразимая скорбь, как «слезы, пропитывающие землю до самого ее центра» (есть где-то у Дост. это выражение), в другую – светозарностью детской радости, неизъяснимой свежестью и чистотой суждения, небесностью идеалов, порывов, всех убеждений, наконец всякой критики. Вот Достоевский, в центре бегущих от него противоположных струй, старец и дитя, ангел и демон, автор «Легенды об Инквизиторе» и «Записок из подполья» – с одной стороны, автор Нелли245245
В «Униженных и оскорбленных», девочка лет 11, растлеваемая, т.е. подвергающаяся попыткам растления.
[Закрыть], «Неточки Незвановой», «Маленького героя»246246
«Маленький герой» был написан в остроге, перед приговором и присуждением к расстрелянию; и это показывает, до какой степени, в самых тягостных условиях, он возвращает себе спокойствие, сосредотачиваясь на детской фигуре.
[Закрыть], «Елки и свадьбы», «Золотой век в кармане»247247
Том XI, с. 13 («Дневн. пис.»). Это вообще одно из важных для идейного понимания Достоевского мест.
[Закрыть], и, наконец, безгрешных фигур «идиота», «подростка», Алеши Карамазова, да и бездн, целых бездн «нового неба и новой земли» в его созданиях. Вовсе не идейно только, не путем логической диалектики, и даже вовсе не наблюдением, но sexual’но, т.е. истинно и полно, до фибр последнего своего издыхания, он «познал» – правда и в Библии coitus называется «познанием» – самое существо, самое трепетание «ангелов поющих Богу» в младенце; и ценой этого глубочайшего вообразимого на земле греха купил в свою душу свет, «им же победится всякая тьма». Вот отчего не утаил он «зайца»; почему, нарисовав чудную «Легенду», он покрыл ее и отверг детским смехом: «Милый братишко, наконец-то ты догадался», т.е. что тут нет веры. «Братишко» – все поправит; всякого «зайца» достанет248248
Но не «народность», не «общение с землей», не «мужицкий труд», как он ошибочно до конца жизни проповедовал. И знаменитое «смирись, гордый человек» на пушкинском празднике следовало бы произнести, следовало бы с его собственных точек зрения «очистись, порочный человек».
[Закрыть]; всякое неверие он переборет, и, в последнем анализе, переборет их «Полечка», из которой «братишка», т.е. его образ и к нему проникновенное внимание родилось через слова, через «почувствованную мысль», что и она будет растлена, «если бы растлилась». Вот эта «мирра капающая» – еще с ребенка; «взволновавшееся чрево» – у «пятилетней», породило все ужасы его души, еще от Свидригайлова, ужасы снов его, но и небеса ясно и для всякого очевидно разверзтые. Он умер; на эшафоте, за минуту до залпа, он припоминал что-то, «из того, что есть у каждого на душе и в чем он боится даже себе признаться…». Он умер, но как-то в грехе прошлого; скорбь его всегда связала с воспоминанием; впереди – он воскрес, в будущем он не только жив, но и жив жизнью такой особенной цены и особенного преимущества, что напоит ею всех, всех поведет за собою в это будущее. «Мирра» капнула и расплылась благовонием, улетучилась небесным ароматом, который наполнил все уголки вселенной, прогнал всех «пауков» из «маленькой деревенской бани», какою Царство Небесное представлялось растлителю, и еще растлевающему, еще готовящемуся растлить «пятилетнюю» Свидригайлову, – и раздвинулось в необъятную панораму «Сна смешного человека». В этом глубокомысленнейшем из своих созданий он передал всего себя, но – в противоположность «Легенде об Инквизиторе» – с преобладанием светозарности, с достигнутою победой, несущеюся осанной, и тут же, каким-то легким радующимся порывом, с указанием, более ясным, чем где-нибудь, на цену «осанны». Как «Легенда об Инквизиторе» есть «бездна внизу» (его термин, запомнившийся), бездна низвергнутых долу идеалов, всех гаданий и всяких надежд его огромного ума, и, до известной степени, проницательнейшая критика условий земного существования и устроения человека, как «Сон смешного человека», не заключая вовсе никакой в себе мысли, будучи только видением, есть торжество сердца над этою критикой, и, до известной степени, именно здесь, а не в «Легенде», Достоевский сказал «святая святых» своей души и последнее, окончательное слово так трепетно любимой им земле.
Как и везде у него, когда он не рисует бытовых фигур, здесь есть доля признаний: открытость, незатаенность души есть та черта детского и небесного, которою Достоевский превосходит всех остальных наших писателей, и особенно превосходит угрюмого и молчаливого Гоголя, эту пирамиду, не выдающую своих тайн, какою он высится в нашей литературе. Оставим его. В «Сне смешного человека», если присматриваться к его построению, есть ужасно кощунственная мысль, и то, что самая идея его пришла на ум Достоевскому, нельзя не видеть, до чего смех братьев в конце «Легенды» над иллюзиями инквизитора: «Твой инквизитор в Бога не верует», в сущности выразил до конца не побежденный теоретический скепсис великого страдальца. Только этим до конца не изловленным «зайцем» можно объяснить смелость религиозного изобретения и каких-то религиозных догадок, на которые всякому вообще человеку было бы трудно решиться. Еще можно скажем его сблизить – чтобы уже понять полную его литературную генеалогию – с «Кошмаром Ивана Федоровича» («Бр. Карамазовы»), именно – с появляющимся там бесом, «скверным, мелким бесом». Кстати, об этой последней фигуре:
«О, какой мой демон! Это просто маленький, гаденький, золотушный бесенок, с насморком, из неудавшихся. А ведь вы, Даша, опять не смеете говорить чего-то?» («Бесы», с. 266).
Эти слова в романе 71-го года показывают, до чего уже давно во всех подробностях, включительно до «насморка», вырисовалась у Достоевского фигура «приживальщика»: этот неудачный житель «мiров иных» и начинает занимательную беседу свою с Карамазовым жалобою на насморк, полученный им в междузвездных пространствах. Образ Ставрогина, жалующегося на беса, сливается через эти слова непосредственно с образом Ивана Карамазова, как позади он сливается с образом Свидригайлова: все эти, очень мало скульптурные, фигуры, раздвинувшиеся окончательно в фигуру Инквизитора и, наконец, в туманный образ «умного» духа-Искусителя, искушавшего Христа в пустыне («Легенда») суть протянувшаяся во времени одна тень, лица которой мы не различаем и которая пошла от «павшего в землю» зерна художника, его греха, его скорбей, из которых потом брызнул такой особенный свет. «Приживальщик», появляющийся Ивану, хотя ясно есть сон его, «кошмар», однако почему-то более садняет в нашей душе, глубже в нее западает, чем собственно все «демоны», какие в нашей и в иностранных литературах появлялись или пытались появиться. В нем, при внешней иллюзорности, хотя он в самом деле «испаряется» от намоченного полотенца, положенного больным на голову себе, однако есть что-то действительное, чтó и потеряв вид – остается тут же или остается везде. Самая нетвердость его внешних черт, «испаряемость», конечно, выражает глубочайшую правду его природы, какой – нисколько не сумели выразить Гёте или Байрон, духи которых ходят как плотники, или если поют (и тогда естественно не видны), то так же определенно, как и певцы на сцене, исполняющие партитуру. «Приживальщик» – в самом деле туманный «клок иного мiра», показавшийся сюда «во время болезни», как уже предвидел и объяснял, чуть не за двадцать лет ранее, не понимавшему Раскольникову Свидригайлов. «Семя, здесь на земле посаженное», но «корни» которого «остаются в небесах», как казалось старцу Зосиме. «Приживальщик» тот же Иван, но, так сказать, корнями вверх, корнями обнаженными из-под земли, или, в данном случае нужно сказать, вырванными из неба. Он есть небесное основание земной фигуры, между нами ходящей; тот в небесах оставшийся образ, которого фотография дана на землю. Вот отчего Мефистофелем мы любуемся, но при условии, если его поет Баттистини; и «демоном» – если его поет Корсов. Но «приживальщик» не поддается пению, и, мы живо чувствуем, пение показалось бы около него кощунственным, «шуткой не к часу». Там, в тех образах – «игра», «литература», ясный вымысел; тогда как здесь, в этой фигуре, при всем ее «насморке» и «панталонах в клетку» есть что-то реальное, к чему прикоснуться гримом просто неловко, и «партию» его никак нельзя спеть.
Кощунственность «Сна смешного человека» заключается в том, что хоть на минуту и конечно в совершенной иллюзии, но Достоевскому показалось, что он в точности, т.е. сам, написавший так много хороших и дурных произведений, в таинственной и небесной своей сущности есть что-то вроде этого же приживальщика, и что с землею, на которой он живет, у него есть более древние счеты, никому решительно не известные, кроме его одного. Древние, совершенно древние, и потом очень старые, но уже гораздо более к нам близкие, хотя все-таки и отделенные не одною тысячею лет, почти двумя. Но мы приведем удивительную эту фантасмагорию, это безумие сердца, так еще кощунственного в мысли и столь в самом деле небесного в алканиях. Все время мы не должны забывать о «капле мирры», капнувшей в душу художника. Кстати, и перед этим удивительным созданием, как везде в центре глубочайших излияний, у него замешивается девочка: мирре неоткуда взяться, как не из ее оскорбленных чресл:
«Девочка была лет восьми, в платочке и в одном платьишке, вся мокрая, но я запомнил особенно ее мокрые разорванные башмаки и теперь помню. Они мне особенно мелькнули в глаза. Она вдруг стала дергать меня за локоть и звать. Она не плакала, но как-то отрывисто выкрикивала какие-то слова, которые не могла хорошо выговорить, потому что вся дрожала мелкой дрожью в ознобе. Она была отчего-то в ужасе и кричала в отчаянии: “Мамочка! Мамочка!”. Я обернул было к ней лицо, но не сказал ни слова и продолжал идти, но она бежала и дергала меня и в голосе ее прозвучал тот звук, который у очень испуганных детей означает отчаяние. Я знаю этот звук…», etc. (Сочинения, т. XII, изд. 83 г., «Дневник писателя» за 77 г., гл. II. «Сон смешного человека. Фантастический рассказ»; с. 119).
Молодой человек предположил застрелиться. Тяготение к самоубийству есть одно из неудержимых у Достоевского, и собственно все его произведения в некоторой тайной своей тенденции есть оспаривание этого ужасного и острого тяготения. Мы не придадим этому малого значения и не отнесемся к этому насмешливо, если примем во внимание, что именно при остроте этого тяготения, т.е. при крайней тонкости нити, привязывающей лицо человека к бытию, суть этого бытия должна была выделиться перед испытующим взглядом художника именно в святая святых своем, в самом крепком и вековечном своем нерве, закрытом от других людей подробностями жизни, ее обстановкой, которою уже одною они утешены…
«Но этот сон, мой сон третьего ноября! Они дразнят меня тем, что ведь это был только сон. Но неужели не все равно, сон или нет, если сон этот возвестил мне Истину (у Д-го с большою “И”). Ведь если раз узнал Истину и увидел ее, то ведь знаешь, что она Истина и другой нет и не может быть, спите вы или живете. Ну, и пусть сон, и пусть, но эту жизнь, которую вы так превозносите, я хотел погасить самоубийством, а сон мой, сон мой, – о, он возвестил мне новую, великую, обновленную, сильную жизнь!» (ib., 122).
Дело в том, что он заснул с револьвером в руке, и все что он хотел сделать, на чтó решимость его созрела, но и с дальнейшими затем последствиями, ему привиделось во сне. «Наставив револьвер в грудь, я подождал секунду или две, и свечка моя, стол и стена передо мною, воздух задвигались и заколыхались. Я поскорее выстрелил. Боли я не почувствовал, но мне представилось, что с выстрелом моим все во мне сотряслось и все вдруг потухло и стало кругом меня ужасно черно». Однако каким-то внешним ощущением самоубийца чувствует поднявшийся переполох, чувствует всю процедуру собственных похорон, и, наконец, что он опущен в землю. «Я почувствовал, что мне очень холодно, особенно концам пальцев на ногах, но больше ничего не почувствовал».
«Я лежал и, странно, – ничего не ждал, без спору принимая, что мертвому ждать нечего. Но было сыро. Не знаю, сколько прошло времени, – час, или несколько дней, или много дней. Но вот вдруг на левый закрытый глаз мой упала просочившаяся через крышку гроба капля воды, за ней через минуту другая, затем через минуту третья, и так далее и так далее все через минуту. Глубокое негодование вдруг загорелось в сердце моем, и вдруг я почувствовал в нем физическую боль: “Это рана моя”, – подумал я, – “это выстрел, там пуля”… А капля все капала, каждую минуту и прямо на закрытый мой глаз249249
Чуть-чуть тут есть, в этой скудости бытия, открывшегося по ту сторону гроба, аналогичного «паукам» и «бане» Свидригайлова. И там Раскольников в ужасе восклицает: «И неужели, неужели ничего утешительнее вам не представляется?».
[Закрыть]. И я вдруг воззвал, не голосом, ибо был недвижим, но всем существом моим к Властителю всего того, что совершалось со мною:
– Кто бы Ты ни был, но если Ты есть, и если существует что-нибудь разумнее того, что теперь совершается, то дозволь ему быть и здесь. Если же Ты мстишь мне за неразумное самоубийство мое – безобразием и нелепостью дальнейшего бытия, то знай, что никогда и никакому мучению, какое бы ни постигло меня, не сравниться с тем презрением, которое я буду молча ощущать, хотя бы в продолжении миллионов лет мученичества!..
Я воззвал и смолк. Целую почти минуту продолжалось глубокое молчание и даже еще одна капля упала, но я знал, я беспредельно и нерушимо знал и верил, что непременно250250
В собеседовании Федора Павловича Карамазова с сыновьями («За коньячком» и след.) есть слова, что всегда есть на земле, скрываются, один три таких верующих, что «по слову их гора сдвинется с места». С такою именно верою и силою и самоубийца воззвал.
[Закрыть] сейчас все изменится. И вот вдруг разверзлась могила моя. То есть я не знаю, была ли она раскрыта и раскопана, но я был взят каким-то темным и неизвестным мне существом и мы очутились в пространстве. Я вдруг прозрел: Была глубокая ночь, и никогда, никогда еще не было такой темноты! Мы неслись в пространстве уже далеко от земли. Я не спрашивал того, который нес меня, ни о чем, я ждал и был горд. Я уверял себя, что не боюсь и замирал от восхищения при мысли, что не боюсь. Я не помню, сколько времени мы неслись, и не могу представить… Я помню, что вдруг увидал в темноте одну точку. – “Это Сириус?” – спросил я, вдруг не удержавшись, ибо я решил ни о чем не спрашивать. – “Нет, это та самая звезда, которую ты видел между облаками, возвращаясь домой”, – отвечало мне существо, уносившее меня. Я знал, что оно имело как бы лик человеческий. Странное дело, я не любил это существо, даже чувствовал глубокое отвращение. Я ждал совершенного небытия и с тем выстрелил себе в сердце. И вот, я в руках существа, конечно, не человеческого, но которое есть (курс. Д-го), существует: “А, стало быть, есть и загробная жизнь!” – подумал я с странным легкомыслием сна, но сущность сердца моего оставалась со мною во всей глубине: “И если надо быть снова”, – подумал я, “и жить опять по чьей-то неустранимой воле, то не хочу, чтоб меня победили и унизили!” – “Ты знаешь, что я боюсь тебя и зато презираешь меня”, – сказал я вдруг моему спутнику, не удержавшись от унизительного вопроса, в котором заключалось признание, и ощутив, как укол булавки, в сердце моем унижение мое. Он не ответил на второй вопрос мой, но я вдруг почувствовал, что меня не презирают, и надо мной не смеются, и даже не сожалеют меня, и что путь наш имеет цель, неизвестную и таинственную, и касающуюся одного меня. Страх нарастал в моем сердце. Что-то немо, но с мучением сообщалось мне от моего молчащего спутника и как бы проницало меня. Мы неслись в темных и неведомых пространствах. Я давно уже перестал видеть знакомые глазу созвездия. Я знал, что есть такие звезды в небесных пространствах, от которых лучи проходят на землю лишь в тысячи и миллионы лет. Может быть, мы уже пролетали эти пространства. Я ждал чего-то в страшной измучившей мое сердце тоске. И вдруг какое-то знакомое и в высшей степени зовущее чувство сотрясло меня: я увидел вдруг наше солнце! Я знал, что это не могло быть наше солнце, породившее нашу землю, и что от нашего солнца мы на бесконечном расстоянии, но я узнал почему-то, всем существом моим, что это совершенно такое же солнце, как и наше, повторение его и двойник его»…
Идея «двойного» в природе, лицо ли то будет, другое ли чтó, занимала всегда Достоевского. Об одном из самых неудачных своих созданий, «Двойнике», написанном вслед за «Бедными людьми», в одном воспоминании он говорит, что замысел этой неудавшейся ему повести был более глубок, чем всех других его сочинений. «Приживальщик» есть также «двойник» Карамазова; и в приводимом рассказе, наконец, мы имеем «двойник» наших земли и солнца: до известной степени то небесное основание, тот «трансцендентный корень», которым земное бытие держится и даже которого земное бытие есть отражение. В общем это напоминает «идеи» Платона, но только не в диалектической обработке и не в ответ на диалектическое требование, но как-то трансцендентно почувствованные и, может быть, «взалканные» сердцем; платонизм художества и недр…
«Сладкое, зовущее чувство зазвучало восторгом в душе моей: родная сила света, того же, который родил меня, отозвалась в моем сердце и воскресила его, и я ощутил жизнь, прежнюю жизнь, в первый раз после моей могилы.
– Но если это – солнце, если это совершенно такое же солнце, как наше, вскричал я, то где же земля? И мой спутник указал мне на звездочку, сверкавшую в темноте изумрудным блеском. Мы неслись прямо к ней.
– И неужели возможны такие повторения во вселенной, неужели таков природный закон?.. И если это там земля, то неужели та какая же земля, как и наша… совершенно такая же, несчастная, бедная, но дорогая и вечно любимая, и такую же мучительную любовь рождающая к себе в самых неблагодарных даже детях своих, как и наша?.. вскрикивал я, сотрясаясь от неудержимой, восторженной любви к той родной прежней земле, которую я покинул. Образ бедной девочки, которую я обидел, промелькнул передо мною.
– Увидишь все, ответил мне спутник, и какая-то печаль послышалась в его слове. Но мы быстро приближались к планете. Она росла в глазах моих, я уже различал океан, очертания Европы…»
Все это место, т.е. несколько выше и далее, удивительно по чувству какой-то космической любви к земле; и, конечно, это есть одно из благороднейших и возвышенных слов, когда-либо на землю подуманных.
И вдруг странное чувство какой-то великой, святой ревности возгорелось в сердце моем: «Как может быть подобное повторение и для чего? Я люблю, я могу любить ту землю, которую я оставил, на которой остались брызги крови моей, когда я, неблагодарный, выстрелом в сердце мое погасил мою жизнь. Но никогда, никогда не переставал я любить ту землю, и даже в ту ночь, расставаясь с ней, я, может быть, любил ее мучительнее, чем когда-либо. Есть ли мучение на этой новой земле? На нашей земле мы истинно можем любить только с мучением и только через мучение! Мы иначе не умеем любить и не знаем иной любви. Я хочу мучения, чтобы любить. Я хочу, я жажду, в сию минуту, цаловать, обливать слезами, лишь одну ту землю, которую я оставил, и не хочу, не принимаю жизни ни на какой иной!..».
Отсюда начинается главная часть видения. Рассказ так короток, он так, очевидно, вылился разом, к следующему № «Дневника писателя», что было бы напрасно искать в нем выдержанности мысли, и если ранее был очевиден мотив «двойника», то едва ли теперь не заступил его мотив воспоминания, т.е. именно нашей, а не «удвоенной» против нашей земли, какая-то догадка о ней, и о себе в связи с нею:
«Но спутник мой уже оставил меня. Я вдруг, совсем как бы для меня не заметно, стал на этой другой земле в ярком свете солнечного, прелестного как рай дня. Я стоял, кажется, на одном из тех островов, которые составляют на нашей земле Греческий Архипелаг, или где-нибудь на прибрежьи материка, прилегающего к этому Архипелагу. О, все было точно так же, как у нас, но, казалось, всюду сияло каким-то праздником и великим, святым и достигнутым, наконец, торжеством. Ласковое изумрудное море тихо плескало о берега и лобызало их с любовью, явной, видомой, почти сознательной. Высокие, прекрасные деревья стояли во всей роскоши своего цвета, а бесчисленные листочки их, я убежден в том, приветствовали меня тихим, ласковым своим шумом, и как бы выговаривали какие-то слова любви. Мурава горела яркими ароматными цветочками. Птички стадами перелетали в воздухе, и, не боясь меня, садились мне на плечи и на руки и радостно били меня своими милыми, трепетными крылышками. И, наконец, я увидел и узнал людей счастливой земли этой. Они пришли ко мне сами, они окружили меня, они цаловали меня. Дети солнца, дети своего солнца, – о, как они были прекрасны! Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты в человеке. Разве лишь в детях наших, в самые первые годы их возраста, можно бы было найти отдаленный, хотя и слабый отблеск красоты этой. Глаза этих счастливых людей сверкали ясным блеском. Лица их сияли разом и каким-то восполнившимся уже до спокойствия сознанием, но лица эти были веселы; в словах и голосах этих людей звучала детская радость. О, я тотчас же, при первом взгляде на их лица, понял все, все! Это была земля не оскверненная грехопадением, на ней жили люди не согрешившие, жили в таком же раю, в каком жили, по преданиям всего человечества, и наши согрешившие прародители, с тою только разницею, что вся земля здесь была повсюду одним и тем же раем. Эти люди, радостно смеясь, теснились ко мне и ласкали меня; они увели меня к себе и всякому из них хотелось успокоить меня. О, они не распрашивали меня ни о чем, но как бы все уже знали, так мне казалось, и им хотелось согнать поскорее страдание с лица моего».
Это – то состояние, о котором Апостол сказал, а Достоевский подметил его слова и повторил, что «времени больше не будет». Время – мера развития, и где нет развития – нет, т.е. невозможно время, и если бы оно было, оно не было бы ощутимо для индивидуума, притом в наших условиях бытия, время иногда останавливается: именно, в состоянии так называемой созерцательности мы теряем отношение к времени, выходим из времени, переставая внутри развиваться, и внешнее – наблюдать. После созерцательности мы как бы пробуждаемся, хотя оно не есть отнюдь сон, и пробудившись не имеем никакого представления о том, долго ли оно длилось, помня лишь момент, когда в него погрузились. Очень трудно сказать, есть ли норма и закон для человека вневременное спокойствие, или временная тревога и развитие.
«Видите ли чтó, опять-таки: Ну, пусть это был только сон! Но ощущение любви этих невинных и прекрасных людей осталось во мне навеки, и я чувствую, что их любовь изливается на меня и теперь оттуда. Я видел их сам, их познал и убедился, я любил их, я страдал за них потом. О, я тотчас же понял, даже тогда, что во многом не пойму их вовсе; мне, как современному русскому прогрессисту и гнусному петербуржцу, казалось непогрешимым тó, например, что они, зная столь много, не имеют нашей науки. Но я скоро понял, что знание их восполнялось и питалось иными проникновениями, чем у нас на земле, и что стремления их были тоже совсем иные. Они не желали ничего и были спокойны, они не стремились к познанию жизни, так как мы стремимся сознать ее, потому что жизнь их была восполнена. Но знание их было глубже и высшее, чем у нашей науки, ибо наука наша ищет объяснить, что такое жизнь, сама стремится сознать ее, чтоб научить других жить; они же и без науки знали, как им жить, и это я понял, но я не мог понять их знания. Они указывали мне на деревья свои, и я не мог понять той степени любви, с которою они смотрели на них, точно они говорили с себе подобными существами. И знаете, может быть я не ошибусь, если скажу, что они говорили с ними! Да, они нашли их язык и я убежден, что те понимали их. Так смотрели они и на всю природу, – на животных, которые жили с ними мирно, не нападали на них и любили их, побежденные их же любовью. Они указывали мне на звезды и говорили о них со мною о чем-то, чего я не мог понять, но я убежден, что они как бы чем-то соприкасались с небесными звездами, не мыслию только, а каким-то живым путем»…
Это – единственная строчка, где, бессознательно для себя, художник бросил свет на рисуемую картину: ясно, что и все познание в привидевшемся ему мiре есть не рефлективное, а иное, «через живые пути»; как и общение существ в этом мiре не есть собственно через лицо выражения, но через лицо тяготения.
«О, эти люди и не добивались, чтобы я понимал их, они любили меня и без того, но зато я знал, что и они никогда не поймут меня, а потому почти и не говорил им о нашей земле. Я лишь целовал при них ту землю, на которой они жили, и без слов обожал их самих, и они видели это и давали себя обожать, не стыдясь, что я их обожаю потому, что много любили сами. Они не страдали за меня, когда я, в слезах, порою целовал их ноги, радостно зная в сердце своем, какою силой любви они мне ответят. Порою я спрашивал себя в удивлении: как могли они, все время, не оскорбить такого как я, и ни разу не возбудить в таком как я чувства ревности и зависти? Много раз я спрашивал себя, как мог я, хвастун и лжец, не говорить им о моих познаниях, о которых, конечно, они не имели понятия, не желать удивить их ими, или хотя бы только из любви к ним? – Они были резвы и веселы как дети. Они блуждали по своим прекрасным рощам и лесам, они пели свои прекрасные песни, они питались легкою пищею, плодами своих деревьев, медом лесов своих, и молоком их любивших животных. Для пищи и для одежды своей они трудились лишь немного и слегка».
Сейчас – очень замечательное место:
«У них была любовь и рождались дети, но никогда я не замечал в них порывов того жестокого (курс. Д-го) сладострастия…»
Действительно: есть ли жестокость, в общем так часто сопутствующая сладострастию, выражение его собственной природы, или она есть последствие некоторого угла зрения, с которым мы на него смотрим, через призму которого мы чувственны? Не забудем сверкнувшей в глазах Лизы ненависти, когда брат неосторожно упомянул, что у матери вероятно первая теперь мысль, что это – ее грех отразился на дочери. Это до того углубляло тяжесть греха, «бремя» его делало до того «неудобоносимым», что отпор выразился не только порывисто, но страстно и, если бы трат не одумался, конечно «жестоко» бы.
«…Которое постигает почти всех на нашей земле, всех и всякого, и служит единственным источником почти всех грехов нашего человечества. Они радовались являвшимся у них детям как новым участникам в их блаженстве. Между ними не было ссор и не было ревности, и они не понимали даже, что это значит. Их дети были детьми всех, потому что все составляли одну семью. У них почти совсем не было болезней, хоть и была смерть; но старики их умирали тихо, как бы засыпая, окруженные прощавшимися с ними людьми, благословляя их, улыбаясь им и сами напутствуемые их светлыми улыбками. Скорби, слез при этом я не видал, а была лишь умножавшаяся как бы до восторга любовь, но до восторга спокойного, восполнившегося, созерцательного. – Подумать можно было, что они соприкасались еще с умершими своими даже и после их смерти и что земное единение между ними не прерывалось смертию. Они почти не понимали меня, когда я спрашивал их про вечную жизнь, но видимо были в ней до того убеждены безотчетно, что это не составляло для них вопроса».
Дальше очень замечательно, ибо изображение, по существу религиозное, говорит о форме богопоклонения:
«У них не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и беспрерывное единение с Целым вселенной; у них не было веры, зато было твердое знание, что когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих и для умерших, еще большее расширение соприкосновения с Целым вселенной. Они ждали этого мгновения с радостью, но не торопясь, не страдая по нем, а как бы уже имея его в предчувствиях сердца своего, о которых они сообщали друг другу. По вечерам, отходя ко сну, они любили составлять согласные и стройные хоры. В этих песнях они передавали все ощущения, которые доставил им отходящий день, славили его и прощались с ним. Они славили природу, землю, море, леса. Они любили слагать песни друг о друге, и хвалили друг друга как дети; это были самые прозрачные песни, но они выливались из сердца и проницали сердца. Да и не в песнях однех, а казалось и всю жизнь свою они проводили лишь в том, что любовались друг другом. Это была какая-то влюбленность друг в друга, всецелая, всеобщая. Иных же их песен, торжественных и восторженных, я почти не понимал вовсе. Понимая слова, я никогда не мог проникнуть во все их значение. Оно оставалось как бы недоступно моему уму, зато сердце мое как бы проникалось им безотчетно и все более и более. Я часто говорил им, что я все это давно уже прежде предчувствовал, что вся эта радость и слава сказывалась мне еще на нашей земле зовущею тоскою, доходившею подчас до нестерпимой скорби; что я предчувствовал всех их и славу их в снах моего сердца и в мечтах ума моего, что я часто не мог смотреть, на земле нашей, на заходящее солнце без слез…»









































