Текст книги "Литературоведческий журнал №38 / 2015"
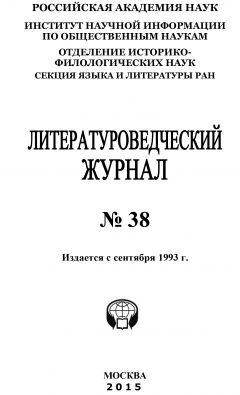
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
Волны мрака, муть преисподней пронизываются святыми лучами; и эта муть – не номинальна; не номинальны – и те лучи. Вот полный очерк раскрывающегося перед нами явления. Чувство теизма, апология, заговорившая в костях и крови, так ясна здесь, что никакого не остается сомнения, что мы не далеки от какого-то источника Бого-ощущения, Бого-несения, Бого-знания, около которого не нужны более бичи, чтобы погнать человека к «Египтянке», но он сам, как бы «восхищенный до третьего неба», ползет к ногам униженной, отвергнутой, чтобы «коснуться края одежды ее», омыть слезами утружденные в тысячелетиях Ее ноги, которые «солнце жгло» и «камни резали»…
«Оставьте меня; мне хорошо!» – «И, конечно, ему было хорошо. Четыре дня, среди образов, он не подымался с колен, и умер – как умирали многие святые, на молитве» (см. выше гл. ХХ).
«Истинно Господь присутствует здесь, а я и не знал». И убоялся Иаков и сказал: «Как страшно место сие; это – не иное что, как Дом Божий, это – врата небесные». И встал, и взял камень, который был у него в изголовьях ночью, и поставил его памятником и возлил елей на верх его. И нарек имя месту тому – Вефиль» (Бытие, 28, ст. 16–19).
Но еще долог и мрачен путь наш; еще долго предстоит нам осматривать «камень» и «основание», «землю и персь» и проходить среди темных теней, устремляющихся на Святое… Семя жизни, окруженное демонами; семя жизни – среди демонов, рвущихся его пожрать. Как жадны эти порывы, как мучительны; мы – в центре греха, и уже назвали формы его, самое наименование которых составляет предмет ужаса для человека: кровосмешение, растление детства, содомия; и еще, который может быть рассмотрим ниже, теперь же упомянем – coitus cum analibus. Четыре космических греха, совершив которые человек как-то не против себя, не против ближнего, не против людей, не против земли, но против небес над землей простертых считает преступным; и поникает ниже головой, глубже падает на лице свое с словами «проклят! проклят!» как если бы он совершил убийство, сжег деревню. И какая жадность к этому греху, неудержимость перед ним, не останавливаемая никаким страхом:
Мутно небо, ночь мутна.
Отчего именно здесь так рвутся демоны? Что, какая сила устремляет их, свивает в вихрь, в ураган, заметающий бедного человека в пыль, в сор, в несомую ураганом щепку?.. «А поле борьбы – сердца людей»…
Вьются тучи, мчатся тучи
Невидимкою луна
Освещает снег летучий
Мутно небо, ночь мутна…
«Папа, папочка; милый папочка, как он обидел тебя»… «Как – пятилетняя! У, проклятая»… «И была ненависть, которою возненавидел Амнон изнасилованную сестру свою, сильнее любви, которую раньше имел к ней»… «И посыпала Фамарь пеплом голову свою, и разорвала разноцветную одежду, которую имела на себе, и положила руки свои на голову себе и так шла и вопила» (Вторая Царств, 13).
То был ли сам великий сатана…
……………………………………
Мой юный ум, бывало, возмущал
Могучий образ. Меж иных видений
Как царь, немой и гордый он сиял
Такой волшебно сладкой красотою
Что было страшно…
Но вот, еще далек наш путь, но он так направлен, что возможен удар по кольцам Змия, от которых он разовьется и отдаст Святое, вокруг чего облег телом. Природа греха – понятнее нам становится; грех – это вокруг Святого; Святое – на чтó устремлены преисподние бури; т.е. около чего мощные сгибы зла непосредственно облегли; и от этого-то человеку так трудно узнать истину, так трудно коснуться истины, что он видит ее в такой смежности, в такой близости к ужасам греха, что мысль его цепенеет и рука, направленная, чтобы коснуться Святого – падает парализованная страхом. И все в общем свертывается в ту запутанность мiроздания, в те «одежды», которыми покрыто Святое: это расположение добра и зла, бросающее такую перспективу пытливой мысли человека, всего вернее удерживает ее от святотатственных посягновений:
«И закрой ковчег завесою…» (Исход, 40).
«И положи крышку на ковчег сверху: там я буду открываться – посреди двух херувимов, о всем, что ни буду заповедывать» (ib., 25).
От лица человека, от похоти зрения его, от любопытства уха, и размышляющего ума – отвращается, затаивается; к этому лицу нет у него внимания. И между тем Он «открывается», «заповедует», но всегда – не этому лицу, не «лжеименному разуму» Отцов, не велеречивым Аароновым устам.
Sexual’ный характер поэзии Лермонтова, особенно если мы станем сравнивать ее с поэзиею Пушкина, или с чьей-нибудь из пушкинской школы, – ясен. Взамен нерождающей у них любви, любви как цветка жизни, как украшения минуты, у него – всегда рождающая любовь:
…с тайным содроганьем
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю…
О, если б знало ты, как я тебя люблю!
Как милы мне твои улыбки молодые
И быстрые глаза, и кудри золотые
И звонкий голосок…
Разве эти стихи, стихи играющего с тигренком отца, который в то же время оглядывается на «подругу дней своих», похожи на эти бессочные, бессеменные, учительные стихи:
Младенца ль милого ласкаю
Уже я думаю: прости,
Тебе я место уступаю
Мне время тлеть, тебе цвести
Здесь, этот младенец – поступит в школу; там с него еще не сошел запах рождения:
…Не правда ль, говорят
Ты на нее похож? – Увы, года летят
Страдания ее до срока изменили,
Но верные мечты тот образ сохранили
В груди моей; тот взор, исполненный огня,
Всегда со мной. А ты, ты любишь ли меня?
Не скучны ли тебе непрошенные ласки?
Не слишком часто ль я твои целую глазки?
Слеза моя ланит твоих не обожгла ль?
Смотри ж, не говори ни про мою печаль
Ни вовсе обо мне. К чему? Ее, быть может,
Ребяческий рассказ рассердит иль встревожит…
Это – звук ревности, почти переходящий в глухое бормотанье: «Судитесь с вашей матерью, судитесь; ибо она – не жена Моя, и Я не муж ее; пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих» (пророка Осии, 2, ст. 2). Тотчас и начинается религиозный мотив, не относительно «Изменившего» Израиля и не у пророка, но у поэта и относительно ребенка, которому говорит он:
Но мне ты все поверь. Когда в вечерний час
Пред образом с тобой заботливо склонясь
Молитву детскую тебе она шептала
И в знаменье креста персты твои сжимала,
И все знакомые, родные имена
Ты повторял за ней – скажи, тебя она
Ни за кого еще молиться не учила?
Бледнея, может быть, она произносила
Название, теперь забытое тобой…
Не вспоминай его… Что имя – звук пустой!
Дай Бог, чтоб для тебя оно осталось тайной.
Но если, как-нибудь, когда-нибудь, случайно
Узнаешь ты его – ребяческие дни
Ты вспомни, и его, дитя, не прокляни («Ребенку»).
Вот стихотворение, которому многочисленные аналогии, т.е. этой же пронизывающей любви, падающей на рожденное дитя, мы встретим у Толстого и Достоевского. Гоголь, который совершенно и никогда не мог изобразить женщины, беря всегда для нее чудовищно-преувеличенный масштаб как для жены, любовницы (Аннунциата, Улинька), нашел, однако, верный масштаб и натуральные краски для возраста и положения матери:
«Так убивается старая мать казака, выпровожая своего сына в войско: разгульный и бодрый, едет он на вороном коне, подбоченившись и молодецки заломив шапку; а она, рыдая, бежит за ним, хватает его за стремя, ловит удила и ломает над ним руки и заливается горючими слезами» («Стр. м.», 10).
Дам тебе я на дорогу
Образок святой…
Мы видим, что два поэта могли бы продолжать друг друга; что их произведения, при всем глубоком различии точек устремления, имеют такой один закон в себе, что волны одной поэзии, замешиваясь в волны другой, – оказываются однотонными:
Богатырь ты будешь с виду
…………………………….
Провожать тебя я выйду
Ты махнешь рукой
…………………………..
Смело вденешь ногу в стремя
И возьмешь ружье
Я седельце боевое
Шолком разошью
Спи дитя мое родное
Баюшки баю…
Что поснилось Лермонтову, то рассказал, проснувшись, Гоголь. Это – как «душа Катерины», «знающая многое, чего не знает ее госпожа». Местами речь, т.е. «Екатерины» и «души ее», Гоголя и Лермонтова, но, впрочем и всех четырех писателей, здесь исследуемых, повторяет не так часто, но и буквальные слова:
Дам тебе я на дорогу
Образок святой…
«…Обняла их, вынула две небольшие иконы, надела им, рыдая на шею: – Пусть хранит вас… Божия матерь… не забывайте, сынки, мать вашу… пришлите хоть весточку о себе» («Тарас Бульба», I).
Струи coit’ального чувства, то как воспоминания, неудачи, поправки, но в большинстве случаев – как ожидания, пронизывают все лучшие стихотворения Лермонтова, – те, по крайней мере, чтó пронизали внимание общества, запомнившись каждым и до строки. Самые вековечные его создания – только огромные картины, в которые выпучилось это чувство; замечательно, что для некоторых из них мы находим тему у Гоголя, или, пожалуй, Гоголь нашел себе тему у Лермонтова (так как, бесспорно, они мало читали друг друга и мало знали):
«Молодость без наслаждения мелькнула перед нею, и ее прекрасные свежие щеки и перси без лобзаний отцвели и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, все чувства, все, чтó есть нежного и страстного в женщине, все у нее обратилось…» («Тарас Бульба», I):
И многие годы неслышно прошли
Но странник усталый, из чуждой земли,
Пылающей грудью ко влаге студеной
Еще не склонялся под кущей зеленой.
И стали уж сохнуть от знойных лучей
Роскошные листья и звучный ручей.
«Она миг только жила любовью, только в первую горячку страсти, в первую горячку юности» (ib.).
Кувшины, звуча, налилися водою
И, гордо кивая махровой главою,
Приветствуют пальмы нежданных гостей
И щедро поит их студеный ручей.
«И уже суровый обольститель покидал ее для сабли, для товарищей, для бражничества… Да и чтó видела она от него? Оскорбления, даже побои…» (ib.).
Но только что сумрак на землю упал
По корням упругим топор застучал
И пали без жизни питомцы столетий…
Одежду их сорвали малые дети
…………………………………
И ныне все дико и пусто кругом.
Вот то, что можно назвать космичностью sexual’ного тяготения; глубокая аналогия тому, как у другого брата-поэта знойный полдень отражается в картине знойного сладострастия неба, дышащего на обнимаемую землю. Так уголок природы раздвинулся в картину coit’ального тяготения; здесь coit’альное тяготение «излучивается» дивною картиной жаждущего оазиса:
И стали… на Бога роптать:
На то ль мы родились, чтоб здесь увядать?
Без пользы в пустыне росли и цвели мы
……………………………………………
Ничей благосклонный не радуя взор
Не прав твой, о небо, святой приговор…
Вот источник одушевления природы у Лермонтова; она вся, все ее образы бьются особенною жизнью в его слове, жизнью, очевидно, не своего закона, ибо его гений умерщвляет всякую жизнь, которая ему, его целям не служит, – но они бьются бурей колоссальных тяготений, подымающих его грудь, как простое средство, как символ. Не менее знаменит, чем приведенное стихотворение, – «Спор». Как в изваянии, в каждом четверостишии встает страна:
Дальше – вечно чуждый тени
Моет желтый Нил
Раскаленные ступени
Царственных могил
Опять, как и в соответственных местах у Гоголя, мы вспоминаем, что ни «ступеней» нет у пирамиды, что – не по берегу оне тянутся; что это песок в близлежащей пустыне желт, а Нил мутен и земля берегов его черна, «мицраим» = «черная земля»… Но, чтó за дело: «чорт вас возьми, степи, как вы хороши у Гоголя», гораздо лучше действительных; так и Египет, в «железном стихе» Лермонтова, дан не в минуте бытия своего, не в географии, даже не в истории, но в вечной идее своей, в небесном своем характере, в окончательной и полной своей истине, по которой должны быть написаны всякая география и история.
И поет, считая звезды
Про дела отцов…
Местами не только эта неверность, но некоторый non sens:
И склонясь в дыму кальяна
На цветной диван
У жемчужного фонтана
Дремлет Тегеран
Кто это? о ком речь? город ли – курит? и его улицы спят на «цветном диване»? Но чтó за дело: «о, степи, степи, как вы хороши у Гоголя». И ты, Восток, не так хорош, может быть, в дикости и запустении своем, как в этих дивных словах о твоем запустении и дикости:
Вот у ног Ерусалима
Богом сожжена
Безглагольна, недвижима
Мертвая страна.
Но что за мотив, что за порыв воображения, так напрягший слово:
И железная лопата
В каменную грудь
Добывая медь и злато
Врежет страшный путь…
Произнесите во втором стихе вместо «каменную» – «девственную» и вы, как в «Трех пальмах», получите затаенный мотив стихотворения, его скрытую мелодию, родник кипящей в нем поэзии. Эпизод родной истории, эпизод вторжения в девственную, пробуждаемую вторжением страну; и главное – чудная панорама самого сна, вытянувшаяся в цепь стран и народов спящих, есть аналогия иных грез, другого пробуждения, другого вторжения:
шторы
Опушены; с трудом лишь может глаз
Следить ковра восточного узоры;
Приятный трепет вдруг объемлет вас,
И, девственным дыханьем напоенный
Огнем в лицо вам дышет воздух сонный.
Вот ручка, вот плечо, и возле них
На кисее подушек кружевных
Рисуется младой, но строгий профиль…
И на него взирает Мефистофель…
(«Сказ. для дет.»).
Еще немного, и картина, т.е. картина «Спора» в его тайном мотиве, – дорисуется:
И он слегка
Коснулся жаркими устами
К ее трепещущим губам;
Соблазна полными речами
Он отвечал ее мольбам.
Могучий взор смотрел ей в очи
Он жег ее. Во мраке ночи
Пред нею прямо он сверкал
………………………………
Смертельный яд его лобзанья
Мгновенно в грудь ее проник…
Мучительный, ужасный крик
Ночное возмутил молчанье…
В нем было все: любовь, страданье,
Упрек с последнею мольбой,
И безнадежное прощанье
Прощанье – с жизнью молодой («Демон»).
После чего… Кавказ ли, Тамара ли, Нина ли («Что в имени тебе моем?»).
Шапку на брови надвинул
И навек затих.
И где бы мы Лермонтова ни открыли, sexual’ное чувство «лучится» из жемчужных строк:
Синие очи любовью горят
Брызги на шее, как жемчуг, дрожжат:
Слышит царевич: «Я – царская дочь;
Хочешь провесть ты с царевною ночь?»
…………………………………………
Пена струями сбегает с чела
Очи одела смертельная мгла
Бледные руки хватают песок
Шепчут уста непонятный упрек
(«Морская царевна»).
Какая жизнь, какая игра: ничего подобного, для цепкости памяти – у Пушкина; его стих играет по вашей поверхности, около уха, не падая на недра, не западая в какие-то недра:
…И над ним, как снег, бела
Голова с косой размытой
Колыхаяся всплыла
И старик во блеске власти
Встал, могучий, как гроза,
И оделись влагой страсти
Темно-синие глаза
Он взыграл, веселья полный
И в объятия свои
Набегающие волны
Принял с ропотом любви.
Вот во чтó географический термин: «устье Терека», «Каспийское море при впадении Терека» разверзся у истинного, истинно великого поэта.
И странник прижался у корня чинары высокой
Приюта на время он молит с тоскою глубокой.
И так говорит он: «Я, бледный листочек дубовый
До срока созрел я и вырос в отчизне суровой
Один и без цели по свету ношуся давно я
Засох я без тени, увял я – без сна и покоя.
Прими же пришельца меж листьев своих изумрудных –
Немало я знаю рассказов мудреных и чудных».
– На что мне тебя, – отвечает младая чинара –
Ты пылен и желт, и сынам моим свежим не пара.
Ты много видал, да к чему мне твои небылицы
Мне слух утомили давно уже райские птицы
Иди себе дальше, о странник! – тебя я не знаю
Я солнцем любима, цвету для него и блистаю
По небу я ветви раскинула здесь на просторе
И корни мои умывает холодное море.
Это – дева, отвергающая мольбы; и вся природа, в воображении, в чувстве, в мысли «лучащегося» поэта – дева, вершина которой ушла в небеса, волоса раскинулись в созвездия, и солнце, луна – только ее же части; ее сон, ее пробуждения; дремота, восторги; она как лобзаемая, или как лобзающая; какое-то мучительное разделение в лобзаниях:
Но к страстным лобзаньям не знаю зачем
Остается он хладен и нем
Он спит – и склонившись на перси ко мне
Он не дышет, не шепчет во сне
Так пела… над синей рекой
Полна непонятной тоской
И шумно, катясь, колебала река
Отраженные в ней облака (1836).
Бури гнева и желчь, второй мотив поэзии Лермонтова, всегда имеет в основе эту «непонятную тоску», безусловно coit’ального характера: мы непременно найдем в каждом подобном стихотворении что-нибудь вроде этих строк:
И тьмой и холодом объята
Душа усталая моя
Как ранний плод, лишенный сока
Она увяла в бурях рока
Под знойным солнцем бытия (1837).
Так они входят в знаменитую «Думу»; и как в «Трех пальмах» было бы ошибочно искать географического пейзажа, в «Думе» ошибочно искать публицистики; это все – вариант мысли:
Ты – пылен и желт, и сынам моим свежим не пара
…………………………………………………..
До срока созрел я и вырос…
Разделяется ли поэт с обществом, соединяется ли с природой, – ни с природой, ни с обществом он не соединяется и не разделяется: все это только средства, метод иносказания, краски на палитре великого художника, которыми он пользуется свободно и не любя их, как в «Споре», в «Трех пальмах» он пользуется историей и географией для выражения того, что не имеет к ним даже приблизительного отношения.
И солнце жгло их желтые вершины
И жгло меня – но спал я мертвым сном.
И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне
Меж юных жен, увенчанных цветами
Шел разговор веселый обо мне
Но, в разговор веселый не вступая
Сидела там задумчиво одна
И в грустный сон душа ее младая
Бог знает чем была погружена.
И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той
В его груди, дымясь, чернела рана
И кровь лилась хладеющей струей.
Чувство поэта, все эти же coit’альные вибрации, разлившись на целую природу, подчинив целую природу себе как просто средство, – истончаясь переходят в туман видений, более не связываемый границами места и времени, даже не связываемый границею жизни – смертью. Еще немного – и мы получаем мистицизм:
Когда волнуется желтеющая нива
……………………………………
Тогда смиряется души моей тревога
Тогда расходятся морщины на челе
И счастье я могу постигнуть на земле
И в небесах я вижу Бога.
Как спокойно! Но это – тема «Сна смешного человека»; т.е. «Сон смешного человека» есть бесконечная по глубине и разнообразию картина, выросшая, однако, из этого мотива:
И в небесах я вижу Бога…
«– Вы говорите, что я отравил мысль Кирилова: но ведь он же говорит, что – счастлив»; «бывают две-три секунды, больше нельзя вынести – когда ощущаешь целое Вселенной»; «Бог в конце каждого дня творения говорил – это правда, это хорошо. Это – не любовь; это – радость», т.е.
XXXVI
И счастье я могу постигнуть на земле.
Поразительно, что заключительная идея глубочайшего из четырех мистиков, Достоевского, выразившаяся в этих словах:
«Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с мiром иным, с мiром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мiрах иных. Вот почему и говорят философы, что сущности вещей нельзя постичь на земле. Бог взял семена из мiров иных и посеял на сей земле и возростил сад свой, и взошло все, что могло взойти, но взрощенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мiрам иным» («Бр. Кар.», I, 357).
Это слово, которое как бы объемлет жизнь, судьбу и деятельность, в их специфических особенностях, четырех мистиков, выразилось просто и изящно, но совершенно твердо, у самого раннего из них, и даже в первом стихотворении:
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой
Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов
О Боге великом он пел – и хвала
Его непритворна была
Он душу младую в объятиях нес
Для мiра печали и слез
И звук его песни в душе молодой
Остался без слов – но живой.
И долго на свете томилась она
Желанием чудным полна
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.
И ничего еще, кроме этого, не сумеют они сделать в жизни; ничего больше не хотят делать. В жизни всех четырех есть явное томление; «скучные песни земли» – они отвергают; «проходит лик мiра сего» – замечает, т.е. торопится заметить, не без тайного сочувствия отмечает Достоевский в «Дневн. писателя»; Толстой сам, не немóщною рукою, спроваживает «лик мiра сего»; и Гоголь, по крайней мере «лик» времени своего, минуты своей, погреб «видимым смехом» и улил «незримыми слезами». Они, безусловно, не развлекаемы, не отвлекаемы от какой-то «без слов, но живой» песни, которая наполняет их душу и, собственно, которую они принесли с рождением на землю; ибо все четыре они ясно не сделаны, не приготовлены, не сформированы, но скорей всегда боролись и до могилы борются с условиями роста, воспитания, среды, положения. Мысль о divinatio265265
Дар прорицания (лат.).
[Закрыть] – невольна при мысли о них; мы повторяем: они говорят о «демоне» и мы поправляем в «небожителя»; прислушаемся к словам этим:
«Не забывай молитвы. Каждый раз в молитве твоей, если искренна, мелькнет новое чувство, а в нем и новая мысль, которую ты прежде не знал и которая вновь ободрит тебя; и поймешь, что молитва есть воспитание. Запомни еще: на каждый день и когда лишь можешь – тверди про себя: “Господи, помилуй всех днесь пред тобою представших!”. Ибо в каждый час и каждое мгновение тысячи людей покидают жизнь свою на сей земле и души их становятся пред Господом, – и сколь многие из них расстались с землею отъединенно, никому не ведомо, в грусти и тоске, что никто-то не пожалеет о них и даже не знает о них вовсе: жили ль они или нет. И вот, может быть, с другого конца земли вознесется ко Господу за упокой его и твоя молитва, хотя бы ты и не знал его вовсе, а он тебя. Сколь умилительно душе его, ставшей в страхе пред Господом, почувствовать в тот миг, что есть и за него молельщик, что осталось на земле человеческое существо, и его любящее. Да и Бог милостивее воззрит на обоих вас, ибо если уже ты столь пожалел его, то кольми паче пожалеет Он, бесконечно более милосердый и любовный, чем ты. И простит его тебя ради».
«Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уже подобие Божеской любви и есть верх любви на земле. Любите все создание Божие, и целое и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч Божий любите. Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну Божию постигнешь в вещах. Постигнешь однажды и уже неустанно начнешь ее познавать все далее и более, на всякий день. И полюбишь наконец весь мiр, уже всецелою, всемiрною любовью. Животных любите: им Бог дал начало мысли и радость безмятежную. Не возмущайте же ее, не мучьте их, не отнимайте у них радости, не противьтесь мысли Божией. Человек, не возносись над животными: они безгрешны, а ты со своим величием гноишь землю своим появлением на ней и след свой гнойный оставляешь после себя, – увы, почти всяк из нас! Деток любите особенно, ибо они тоже безгрешны, яко ангелы, и живут для умиления нашего, для очищения сердец наших и как некое указание нам. Горе оскорбившему младенца. А меня отец Анфим учил деток любить: он милый и молчащий в странствиях наших, на подаянные грошики им пряничков и леденцу бывало купит и раздает; проходить не мог мимо деток без сотрясения душевного: таков человек» («Бр. Кар.», I, с. 354–355).
В словах этих – живое осуществление полуожидания, полупорыва Гоголя («Переписка с друзьями») «кротостью и скорбью Ангела загорится некогда литература русская». И все четыре – они связаны единством ожиданий, порыва, надежд: это – как бы действительно «Катерина» и «душа ее», один дух и четыре телесные образа, его выражающие:
«Бедная Катерина! Она много не знает из того, что знает душа ее» («Стр. месть», IV).
При подробном чтении, при большом внимании, можно бы, взяв у которого-нибудь сюжет, продолжать его словами другого, брать, далее, из третьего, и оканчивая словами четвертого – вновь продолжать речь первого, без разрыва в настроении, без перерождения того тайного, что в каждом произведении образует его «дыхание жизни». То есть «дыхание жизни» у них четырех – одно, и только у них четырех в нашей литературе: ни одного стиха Пушкина, или его прозаической страницы, невозможно продолжить стихом Лермонтова, прозою Гоголя, Достоевского, Толстого. При единстве сюжета (фабулы – такие совпадения есть) получится разрыв в настроении, и не «оживет» «дыхание» другого, пока не «умерло» дыхание Пушкина. Зима и ее вьюги заметут «осень», раньше чем пробудится «весна». Кстати, в тему нашу входит «Пророк» Лермонтова. Поразительно, что в первом же (обработанном) стихотворении дав указание на небесное семя, которое все четыре они понесут на землю, в последнем самом он дал выражение частностей учения и судьбы их же четырех:
«Перечел я книгу Гоголя (“Переп. с друзьями”) в третий раз. Всякий раз, когда я ее читал, она производила на меня сильное впечатление. Гоголь многое сказал в своих письмах, но пошлость, им обличенная, закричала: он сумасшедший! и Гоголь, наш Паскаль – лежит под спудом! Пошлость господствует, и я всеми силами стараюсь сказать то же, что сказано Гоголем»266266
Из частного письма гр. Л.Н. Толстого. См. «Русские критики» А. Волынского, с. 719.
[Закрыть].
Так пишет, так понимает свою деятельность Толстой; снимите с него богатство, положение, т.е. случайное в нем, и разве вы не получите этого:
Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья.
Мы вспоминаем «Чем люди живы», Ивана Ильича, которому истопник «держит ноги»; всю эту «кротость ангела, загоревшуюся…»
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья…
Все; никто не преминул взять камень.
Из городов бежал я нищий
И вот в пустыне я живу
Как птицы – даром Божьей пищи…
Мы вспоминаем Рим, куда ушел Гоголь, куда ему посылали крохи друзья, «пособия»; мы помним нищенство Достоевского; Ясную Поляну…
Он горд был, не ужился с нами:
Глупец – хотел уверить нас
Что Бог гласит его устами.
Все это – перифраз «Письма» Белинского к Гоголю; упреков, брошенных Достоевскому после Пушкинской речи; упреков, которые посыпались на Толстого…
Вечный Судия
Мне дал всеведенье…
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.
«Гоголь до последнего колоса переносил низменные жатвы нашего общества. Мудрено, как другие не догадались, что после него не осталось ни одного живого зерна»267267
Из «Письма» кн. П. Вяземского, напечатанного в «С.-Петербургских Ведомостях» 25 апреля 1847 г. Приведено в «Русских критиках» А. Волынского, с. 717.
[Закрыть].
Теперь если мы возьмем несравненнейший по красоте и яркости образ пушкинского «Пророка», мы наблюдем, что ни одной строки одного стихотворения невозможно вставить в другое – при полном единстве сюжета; в них есть дисгармония; но есть гораздо большая дисгармония, уже не в пользу Пушкина, в отношении одного и другого автора к своему созданию:
С тех пор как Вечный Судия
Мне дал всеведенье пророка
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.
Это – призывает.
И вынул грешный мой язык
И празднословный и лукавый
И жало мудрыя змеи…
Это – только факт. То есть в Пушкине не было вовсе «пророческого» духа; он взял, он был поражен найденным у Исаии образом, и как
Ревет ли зверь в лесу глухом
Поет ли дева за холмом
На всякий звук…
и, между прочим, на этот – он откликнулся. Это перекликания мiровых голосов, мiровое неумолкающее эхо; но «крови, крови рождения» (Иезекииль) – мы этого запаха, этих мук, этой, пожалуй, «вони» больницы ли, родильного ли дома не чувствуем как в ослепляющем воображение «Пророке», так и вообще нигде у него. «Все разверзающее ложесна – Мне» (Исход, 34, ст. 19) – вот этого – нет; но об этом – ниже.
Характер понуждения, который мы отметили в лермонтовском «Пророке», этот призыв, эту хватающую вас волю и ставящую на новый путь – мы наблюдаем у всех четырех писателей. Мы знаем, как умер Гоголь; «а Евангелье – Феде», так умер Достоевский; мы помним, как во время переписи в Москве, что-то около 1879 года, в толпу студентов-переписчиков замешался Толстой, пошел с ними в последние притоны нищеты и разврата, и затем, явившись в городскую Думу, потребовал внимания и помощи. Они все нудят, требуют; этот характер понуждения так ясен во всех их, что «бешеные каменья» летят потому именно, что нужен ответ, и не давая требуемого – в форме «летящего камня» дают отрицательный. Это – манера разговора, инициаторами которой являются сами писатели. Наступают – бесспорно они, и общество – скорее отступает; в конце концов – оно действительно подается. Их только еще четыре; только четыре десятилетия протекли, и уже взяв «крест», и бремя, и ношу – идут по ним, т.е. некоторые, иногда. Эта идея «бремени»…
«– Я думал, вы сами ищете бремени.
– Я ищу бремени?
– Да.
– Вы… Это видели?
– Да.
– Это так заметно?
– Да.
Помолчали с минуту. Ставрогин имел очень озабоченный вид, был почти поражен.
– Я потому не стрелял, что не хотел убивать, и больше ничего не было, уверяю вас, – сказал он торопливо и тревожно, как бы оправдываясь» («Бесы», с. 262).
Вот еще идея; еще струя религиозности, от берегов Финикии, Карфагена, от киновий Фиваиды, Афона, Соловок, и до наших дней, условий нашего времени. Мы затруднены, собирая эти струи, ибо они рвутся со всех сторон, и, собственно, мы имеем их все; их продолжая, их укорачивая, или несколько их вариируя, нисколько, однако, не касаясь их сущности, «дыхания жизни», мы можем, собственно, получить все и всякие формы религиозного сознания. Мы, очевидно, крутимся около самого его источника…
«Все разверзающее ложесна – Мне» (Исход, 34). – «Вот… а я и не знал: как страшно место это» (Бытие, 28, ст. 16–17).
Мы уже упомянули о вертикальных созерцаниях этих писателей; но мы хотим прибавить, но мы хотим прибавить, что и слово их падает на сердце читателя под углом 90°, ударяя и иногда отскакивая, но ни в каком случае не скользя, не ласкаясь около. Отсюда этот характер понуждения, и «камень – в ответ». Но и более: их взгляд на предметы – также вертикальный. Мы говорили об этом у Гоголя и Лермонтова; но возьмем Толстого, знаменитого «натуралиста»: вот «Война и мир»; разговор Балашова с Наполеоном, в Вильне. Можно предполагать, что у завоевателя полмiра, в момент, когда он восходит на кульминационную и столь опасную точку бытия своего, есть помышления об этой точке, есть сосредоточение на ней, устремление на нее; но у него… «икра дрожжит», левая икра, т.е. икра левой ноги, и Толстой все время смотрит на эту икру…
«…и боролся Некто с ним до появления зари, и увидев, что не одолевает его – коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова» (Бытие, 32, ст. 24–25).
Завоеватель все время говорит, быстро, раздраженно, но художник, сосредоточенный на «икре», не хочет слушать его, не придает вовсе словам его значения, дает им лететь мимо как ветру, как истинно словам «пустых Аароновых уст»; мы скажем: тут антипатия, и к чужеземцу, которого он не хочет понимать; но вот Кутузов отдает Москву, совет в Филях, встревоженный генералитет; но он, седой герой, слушает не сподручников, не донесения, не планы, а как происходит в задней хозяйской комнате какая-то тревога, слышен женский шопот; и он, оглядываясь на дверь, видит выходящую, молодую еще и миловидную, попадью, которая несет ему на блюде пирог. Снова устремление автора, встречаясь с устремлением полководца – бесспорно же существующим и имеющим свою точку, как и свой родник тревог – сбивает его, увлекает по своему закону, закону вертикального направления: небо и – под землей. Князь Болконский, уже начав увлекаться проэктами Сперанского, идя куда-то слышит свежий девичий смех в саду: это так на него действует, что он вдруг понял всю пустоту затей Сперанского, всю ограниченность его ума, искусственность и фальшивость его исторического положения. Критика «чресл», ибо никакой еще тут нет. Мы озираем всю панораму художества Толстого, – и все человеческие его фигуры вырезываются перед нами как до некоторой степени египетский пантеон: фигуры от пят до шеи – не только человеческие, но и бесподобно истинные, живые, одушевленные; но голова – отвергнута; это – какие-то «кинокефалы», если их рассматривать с темени: с головой копчика, шакала, кошки, но большею частью, как у Аммона – с головой барана. Он понимает голову как дополнение туловища; подробность около него; орган восприятия второстепенного и решения о второстепенном; но как «главу», вершину, откуда распят человек, к чему туловище привешено – он ее отрицает, не видит, не хочет: вопреки истории, действительности. Это есть именно в нем то усилие, на которое вы можете ответить «камнем» и все-таки не выбьете художника из этой точки зрения…









































