Текст книги "Литературоведческий журнал №38 / 2015"
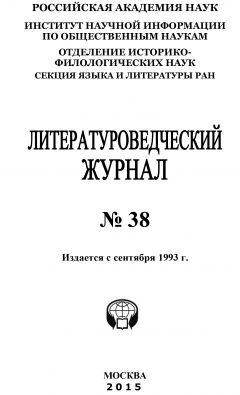
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
Но поразительно: при этом скользящем по предметам внимании (Гоголь только «проехался по России») или капризном переиначивании человека (Толстой, Достоевский – то же) вертикальное созерцание не только падает до глубины, до «чресл» читателя, но оно и предмет изображения пронизывает до «чресл», до глубины, и со всеми его «чреслами» выворачивает наружу перед читателем. Вот то, что зовут их «психологиею». Это не без причины Толстой всех людей поделал «кинокефалами». Он не непонимает их мысль; он ее не слушает; он «смотрит на икру», пока говорит Наполеон, ищет «повредить бедро ему», и, воспринимая его речи, также безучастно их передает, как автоматический самопишущий прибор. Но ведь он понял, что не только речи его перед Балашовым, в Вильне, но и вся его траектория, между Мадритом и Москвой, Неманом и пирамидами, течет из «икры», обусловлено «бедром»… То, что возмущает нас в его «психологии», это глухое и почти глупое невнимание к точкам головного устремления, которое поздней перейдет в «тае – тае» Акима («Власть тьмы»), есть одновременно – и не у одного его, но у всех четырех писателей – такая новизна точки зрения, с которой судьбы не века только нашего, но и нашей двутысячелетней цивилизации окидываются легко, легко даже передвигаются; и здесь вся траектория Наполеона – подробность, частность, которой нечего внимать, она сдвигается, как «блеющие» сдвигались при всяком передвижении ковчега, в котором их заперли на сорок дней… Но оставим это; пока нам ясно, что он нашел, т.е. все они нашли точку воззрения на человека, с которой он раскрывается в таких глубинах своих, о которых, в общем, он даже сам не подозревал у себя:
«Много знает душа Катерины такого, чего сама Катерина не знает».
Дар провидения – он не один; еще – дар любви. Если мы вспомним фигуру Долохова («Война и мир») и непрерывное страдальчество, льющееся у Достоевского на протяжении XIV томов; если вспомним, как Гоголь «перекосил все живое» (определение Вяземского) своим смехом – мы не будем увлечены всецелою и как бы гладкою любовью, которая лишь при первом взгляде нам представляется обволакивающею создания этих трех писателей; и также не будем очень обмануты жесткостью печоринских манер у четвертого. Углы тех трех мы должны заострить; они очень остры местами; и угол четвертого должны сгладить, сшлифовать, принимая во внимание его двадцать семь лет; старость есть великая умягчительница сердца, а здесь кроме старости возраста есть и зрелость исторического возраста у позднейших трех писателей; сверх этого, смягчение сердца, дивные черты смягчения проступили и у самого Лермонтова:
Дай ей сопутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость спокойную
Сердцу незлобному – мир упования.
Припомним его жгучий взгляд на ребенка («К ребенку»), строфы «Казачьей колыбельной песни», – и мы поймем, что пронизывающая любовь была и у него, а они все не лишены его отчуждающейся гримасы к мiру. «Легенда о Великом инквизиторе» – ведь это космическая ирония, это – тон «Героя нашего времени», о, конечно, колоссально вызревший во времени, за четыре десятилетия, но все же этот именно тон, перекинувшийся на историю, вмешавшийся в обсуждение догматов. Они все, и Гоголь, и Достоевский, и Толстой – тоже, что и общий их эмбрион, но «опрощенные»: опустив «опаленные крылья», надели «клетчатый пиджак» «приживальщика». Но мы оставляем эту сторону; мы уже указали, что это в них – жест неопознанности себя, как и «ангел сатаны, уязвляющий в плоть»; может быть – жест космического затаивания. Чувство гнева – обильно у них всех; у всех есть «железный стих», будет ли то «смех сквозь незримые слезы», поэтому именно и разрушительный, ирония «Плодов просвещения», упрек «Власти тьмы», «Смерти Ивана Ильича»; сокрушительное, действительно сокрушительное, по отношению к целой цивилизации, «тае – тае» Акима. О, это великие демоны-разрушители; мы хотели сказать – «небожители», входящие в дом Лота, в великий канун; не забудем критики «Записок из подполья», «Легенды об Инквизиторе». Но сквозь наволакивающиеся тучи гнева, их прорезывая, их пронизывая, пронизывая и касаясь «чресл» читателя – молнии любви. Мы говорим о небесном семени, которое растет во все стороны, клубится упреками, но и прожигает любовью:
«Пусть безумие у птичек прощения просит, но ведь и птичкам было бы легче, и ребенку, и всякому животному около тебя, если бы ты сам был благолепнее, чем ты есть теперь, хоть на одну каплю да было бы. Все как океан, говорю вам. Тогда и птичкам стал бы молиться, всецелою любовию мучимый, как бы в восторге каком, и молить, чтоб и оне грех твой отпустили тебе. Восторгом же сим дорожи, как бы ни казался он людям бессмысленным» («Бр. Кар.», I, 356).
XXXVIIНо мы вступили, этими самыми строками вступаем в главное у них. Любовь ли их, понимание ли, гнев ли их – не к человеку, но, собственно, к мiру:
«И непонятною тоскою уже загорелась земля. Все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила всюду. Боже! Пусто и страшно становится в Твоем мiре» (Гоголь).
Центр их созерцаний, найденная точка в человеке имеет ту удивительную особенность в себе, что внимающий – уже не точку эту видит, но мiр чувствует, «касается мiрам иным», и его любовь, с этой точки соскальзывая, переходя в видения, расплывается любовью, которою охвачены земля и небо:
«И всякая тоска земная и всякая слеза земная – радость нам есть; и как напоить слезами своими под собой землю на поларшина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься» («Бесы», 133)… «С тех пор, становясь на молитву, творя земной поклон – каждый раз землю целую, целую и плачу» (ib.).
Вот главное: эта потеря географических и исторических терминов, выход из условий времени и места, отклонение от всяких предметов непосредственного созерцания, забывчивость мiра; в тайне – это и есть мотив угловатости Печорина, не разобранный автором, и тем менее – критиками; поэт, и все они, слушают «мiры иные», «без звуков, но живые» голоса; как это нежно выразил Лермонтов в черновом наброске известного стихотворения:
Есть речи – значенье.
Он говорит об этих таинственных голосах:
Их кратким приветом
Едва он домчится
Как Божиим светом
Душа озарится
Средь шума мiрского
И где я ни буду
Я сердцем то слово
Узнаю повсюду
Надежды в них дышут
И жизнь в них играет
Их многие слышут
Один понимает
Лишь сердца родного
Коснутся в дни муки
Волшебного слова
Целебные звуки
Душа их с моленьем
Как ангела встретит
И долгим биеньем
Им сердце ответит
(Соч., изд. 80 г., I, с. 556, примечания).
Это – в музыке выраженные, но те же видения, что у Достоевского: «две – три секунды; больше пережить нельзя; можно отдать всю жизнь» («Бесы», 528), или:
Не кончив молитвы
На звук тот отвечу
И брошусь из битвы
Ему я навстречу…
«Бог, когда творил мiр, бара, говорил – это правда, это хорошо. Это не любовь, а так… радость». Припомним мысли о любви и Боге умирающего Болконского, и его же – на Аустерлицком поле, раненого; чувство света, хлынувшего на Ивана Ильича, когда он «просунулся в мешок». Может быть, самое удивительное, что для этого таинственного чувства, при котором «надо перемениться физически или умереть» («Бесы», 528) даже отрицается «детская колясочка» и «а Евангелие – Феде», т.е. то, что вообще никогда не отрицается, чем все проверяется как «столпом и утверждением»:
«…Я думаю, человек должен перестать родить. К чему дети, к чему развитие, коли цель достигнута? В Евангелии сказано, что в воскресении не будут родить, а будут как Ангелы Божии. Намек. Ваша жена родит?
– Кирилов, это часто приходит?
– В три дня раз, в неделю раз.
– У вас нет падучей?
– Нет.
– Значит будет. Берегитесь, Кирилов, я слышал, что именно так падучая начинается…» (ib.).
Но мы уже знаем, что «так начиналось» у Лермонтова, Толстого и по крайней мере у Гоголя в тот миг, когда он стоял у растворенного окна, с «Четь-Минеями», и был внезапно застигнут Смирновою; пожалуй и в тот миг еще, когда говорил: «Оставьте, мне хорошо» – перед смертью. «Это – не любовь, а так… радость». Мысли Болконского о любви и Боге перешли в личную проповедь любви и Бога у Толстого, начиная с «Чем люди живы», и до этих минут, т.е. вот уже много лет, неустанно; «и пойду, и пойду – хоть бы на тысячу лет». Эти туманы, эти видения, «есть звуки – значенье…», они у всех четырех и есть родник не только литературных созданий, но и личного труда; это от них подымаются к горлу рыдания, судорога перерывает дотоле мерный голос («Переписка с друзьями», «Пушк. речь», последний фазис Толстого – что-то исковерканное и одновременно самое важное у всех); рыдания эти – уже не скорби, но света, превозмогающего всякую скорбь. «Это так… радость»; и из этой небесной радости каплют слезы любви, опять прожигающие мiр, до «прощения перед птичками», «не возгордись перед животным»; «полюбить в грехе человека есть образ Божий на земле любви»; «любите животных, ибо они безгрешны».
Человек исчез; мы говорим об авторе; это – хрупкое существо, с «поврежденным бедром», который отныне будет «постоянно хромать», возбуждая смех у правильно идущей мимо и ничего вовсе не понимающей в нем толпы. Но он «будет побеждать человеков»…
«И боролся Некто с ним до появления зари; и увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. И сказал: “Отпусти Меня, ибо взошла заря”. Иаков же сказал: “Не отпущу тебя, пока не благословишь меня”. И сказал: Как имя твое? Он сказал Иаков. И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь. Спросил и Иаков, говоря: Скажи мне имя Твое? И Он сказал: На чтó же ты спрашиваешь о имени Моем? Оно – чудно». (Бытие, 32, ст. 24–29).
Личная мощь этих «хромцов», этих мистических четырех коров, с неиссякаемым обилием капающего из сосцов молока, так велика, что на «чреслах» своих они волокут, вот уже поволокли наше общество, и сила их «тяготений» такова, что, пересягнув Европу, тронула серьезностью даже легкомысленные берега Сены. Юродивый, что «кладет печи», над чем хихикает вся страна, – он же от грудей своих поит всех «здоровых»; смотрит в «икру», – все смеются и, оставляя домы, совлекая «ветхого человека», складывают – умело ли, неумело ли, новую жизнь (vitam nuovam). «Стараюсь делать то же, что Гоголь». И все они что-то одно делают около человека; что делают?
«Открывают край одежды его…» (Исход, Второзаконие).
Если мы глубже всмотримся в манеру созидания всех этих людей, в созданные ими образы, и будем для сравнения держать в уме образы Тургенева или хоть Пушкина, и всякого вообще кроме только этих четырех, мы увидим, что все те срисовывают, предмет изображения ясно лежит вне рисующего; чувство напр. Тургенева ко всей веренице героев, от Колосова до Нежданова, есть чувство товарищества, знакомства, соседства в истории и стране, без чего-либо более внутреннего. Развернем панораму Толстого или Достоевского: образы срисованные есть и здесь – это третьестепенные, обстановочные лица; те, что играют роль мебели в произведениях (в «Бесах» – мать Ставрогина, Даша, Степан Трофимыч, Кармазинов; но уже «Федька Каторжный» – не обстановочное лицо; в «Идиоте» – генеральша и две из ее дочерей, выключая Аглаю); таким образом, художественная рисовка есть и здесь: это – талант упражняется, данный от Бога, но без всякого устремления художника, без точки, на которой фиксировался бы его глаз. Но вот мы входим в круг фиксации автора; также Толстого; также Лермонтова – в «Герое наш. времени» (Максим Максимыч – срисован). Мы никак не можем сказать, что и здесь продолжаются отношения соседства, товарищества, общности территории и страны, т.е. у автора (художника) и его лиц. Раскольников, Свидригайлов, Болконский, Пьер, и даже Иван Ильич, даже его сын гимназист «с желтыми кругами под глазами»: здесь – отношение кровности; у Пушкина в чертах Онегина, у Тургенева в Рудине есть кое-что, автора; упрек, себе посланный, но он надет на чужую фигуру, на одного из мимо идущих и все-таки срисованных; ни Онегин, ни Рудин, с их «чреслами», «бедром» не вышли из художника; между тем именно таинственные-то «чресла» Свидригайлова, голова Раскольникова, вся фигура Болконского разверзла некогда «ложесна» художника; Печорин… да это ему в детстве шептал поэт:
Не скучны ли тебе непрошенные ласки?
Не слишком часто ль я твои целую глазки?
Слеза моих ланит – твоих не обожгла ль?
Таинственное «бара»: вот источник пронизывающего «ведения», этой всех изумляющей «психологии», вывернутых чресл в веренице ослепительно ярких, блещущих умом, движениями фигур. Эти фигуры – зачаты и рождены; от этого еще они так живы; на Сереже Каренине есть запах родов; влага несшей его утробы еще на нем не обсохла; на Болконском, Пьере, на Свидригайлове – уже обсохло все; но тонкая пленка «рубашечки» осталась, где-то морщится «под мышками»; и по кусочку ее мы открываем выносившую их утробу. Гоголь, «проехавшись» только по России, создал галлерею лиц, «живости и верности» которых Россия изумилась; в «Переп. с друзьями» он затерял слово: «Я свои недостатки осмеял там»; бедная сторона его художества, ошибка против себя, проступок против таланта состоял в том, что он выскульпторил именно пороки, одел их плотью, одарил голосом, и даже поставил в обстановку, которая, если приглядеться, есть продолженье этого же порока; около каждого порока (скупость – Плюшкин, грубость – Собакевич, слащавость – Манилов, непонимание – Коробочка, пройдошество – Чичиков, и даже голод, нужда – Хлестаков, особенно Осип) свернул фигурку, где этот порок вылился и в строение руки, и в манеру держать голову, и в интонацию речи, и в устройство скотного двора, и в характер мебели (особенно – у Собакевича): все скупо у Плюшкина, даже та бумажка, на которой он пишет; как все грубо у Собакевича – мебель, но особенно кушанья, которые подают к столу: «мне чтоб баран – так баран, целого барана подавай на тарелку»; у Осипа: «и веревочку подай». Это единство черты, от человека до мебели, сообщает чудовищную неестественность его портретам, которая не могла быть замечена от чудовищной же верности психологии (заданной теме каждого), ибо душа, «дыхание жизни», данный порок – рождены именно, а не срисованы, и «запах чресл» на них есть, как и на обольстительной фигурке Сережи Каренина.
Слеза моих ланит – твоих ланит не обожгла ль?
Вот эта пронизывающая строка, этот вертикальный луч ведения ли, любви ли, или, наконец, даже негодования (у Гоголя – «незримые слезы») он как в этой строке ясно выпадает из «чресл» («К ребенку»), из «чресл» же выпадает и на протяжении 25–30 томов, нами исследуемых…
XXXVIIIИдея «отчества», если бы это слово было употребительно, «материнства» – вот слово, которое может быть понято. Но это – общее мiровое чувство; это-то и значительно. Отсюда – космичность, «видения», «звуки»; это есть не индивидуальное созданье, выдумка, каприз четырех мистиков; они от того и «хромцы», что приподымают «край одежды» не на себе, не у ближнего, но «край одежды» у всех, и, в последнем анализе, «край одежды» мiра. Они пронизали мiр в его средоточии; в том, где он сосредотачивается, затаивается; от этого: «когда промочишь землю под собою слезами на поларшина в глубину – узнаешь радость и будет тебе легко». От этого – собственно любовь их не имеет лица перед собою; ведение – не имеет предмета; гнев – поступка (раздражающего); они – не на периферии; из того средоточия, где они стоят, всякий гнев, любовь, ведение разливаются радиально на всю периферию, невольно уже – на мiр»…
И звезды, и месяц, и тучи толпой…
«И у птичек – проси прощения»…
Мы говорим с человеком; и отходя – заговариваем с другим; еще прошло время – и третий говорит нам и мы его внимаем. Мысль наша, эта идея, вот напр. о наступающей сдаче Москвы («Война и мир»), – она связывает со мною неопределенное множество людей, и мы все, т.е. в этой идее и вообще во всяком комплексе идей, сливаемся в общество, взаимодействуем; понимаем друг друга и друг на друга действуем… Кто видел «Руслана и Людмилу» на сцене, помнит действие, когда витязь, и чуть ли не Руслан, поет –
О поле, поле, кто тебя
Усеял мертвыми костями.
Вы внимаете арии, глядите – без особенного сосредоточения – на «поле, усеянное мертвыми костями», ничего особенного еще не замечая; минуты летят, ария также хороша, но вдали сцены кроме «мертвых костей» есть еще что-то, чего вы сперва не заметили, да и теперь, собственно, не видите; «так что-то». Но пока ария льется и кости все те же недвижно лежат, «что-то» – отчетливее становится; в «чем-то» две выпуклости сверху, и еще третья, большая – ниже; звуки так хороши, что вы не обращаете внимания, и прошло уже много времени, когда «что-то» гораздо яснее перед вами, не дает вам слушать, мешает, смущает вас. Что-то есть знакомое в очертаниях: это странно, потому что то, что вам знакомо в этих чертах, – вы никогда не видели в этих размерах. Да – это, несомненно, глаза, но чьи же они? Это – рот, «уста», но кому могут они принадлежать? Кто потом спрашивал – знает, что это с потолка сцены спускается тончайшая, как паутина, кисея между поющим и также и также, как вы ничего не видящим витязем, и тем, что теперь занимает все ваше внимание, а наконец начинает тревожить и певца. Я сказал «спускается» – это обмолвка; кисея, некогда спущенная…
«…меч обращающийся, чтобы охранять путь…» (Быт., 3, ст. 24).
навевается на вал, и когда навилась достаточно, вы видите голову, о которой из либретто узнаете, что она и может еще быть жива, что – от живого, и хитростью или по своей неумелости была обрублена…
Теперь эту же сцену – усложним; пусть кисея не сбирается на вал, но, свиваясь с одного, например с этой еще живой, но уже полуживой головы, навивается на рыцаря и певца; также текут минуты; ария слышна, но уже заглушается; черты витязя – все менее ясны; и он и конь уходят куда-то; мы взяли раздельные предметы: для истины – мы возьмем фигуру, еще живую и как бы не «павшую», и волны паутинного тумана, свиваясь с одного его сосредоточения, навиваются на другое. По истечении достаточного времени, ария вовсе перестает быть слышна, конь и всадник – «ввержены в море», и перед вами с вещими словами, с удивительными знаниями новая «голова», к которой все ваши отношения… к «пропавшему всаднику» – сохраняются. Вот источник «кинокефалов», и, собственно, родник четырех мистиков…
Они поют уже не свою песню, и, собственно – песню, незнаемую мiру, перед которой мiр от этого и дичится. Но мы оставим «песню» и сосредоточимся на поступках. Мы начали с бездны живой и многоличной связи, которая сосредотачивается около интереса сдаваемой Москвы и связывает генералитет с полководцем, смоленского мещанина, бьющего жену свою – с тем же седым героем, и, наконец, около героя волнует всю Россию, даже целую Европу, ждущую денег его и внимающую каждому его решению… Но вот «всадник исчез», «вверже в море», и связь, которая остается с вырисовавшеюся головою, сохраняет характер живости и многоличия. Вот тайна «птичек, у которых просить бы прощения», и «животные – безгрешны, им Бог дал начало мысли». «Начало мысли»…
Слеза моих ланит – твоих ланит не обожгла ль?
Это младенец, т.е. это у него «начало мысли» и, странно, оно и у тех, «безгрешных»… Слеза падает и сжет землю; «на два аршина сжет»…
И месяц, и звезды, и тучи толпой…
«стеклянные панорамы», великие подобия мiра, его «двойники» как особенно ясный с «Сне смешного человека»… Великая тайна четырех мистиков, что они стали в отношение «отчества», таинственное «бара», не к героям только, но к мiру, который льется
И месяц, и звезды, и тучи толпой
из их чресл, с тою живостью, утреннею росой на лепестках, не засушенною «рубашечкой», которая никому не дала заметить, что это есть рождаемый вновь и нисколько не срисовываемый мiр. Но мы отвлекаемся к творчеству, когда хотели бы остановиться на человеке; ведь обыкновенно, ведь не странно, что Кутузов и подающая ему пирог попадья – разговаривают, т.е. взаимодействуют идейно, улыбаются, он ей кладет на блюдо червонец, и они вчера не виделись, завтра не увидятся. Но «всадник» «вверже в море»… Мы простираем дерзость мысли дальше: ведь мы умом своим взаимодействуем с голубями, которых маним к крошкам и говорим «гуль-гуль»; ласкаем морду коровы268268
Однажды я видел, как кондуктор конки, в жаркий летний день, на конечной станции (около Адмиралтейства), намочив мокрою тряпкой голову лошади, затем приложил ее морду к своей щеке и по крайней мере 1/2 минуты держал, гладя в то же время эту морду с другой стороны; может даже говорил что-нибудь, и наверно умственно говорил.
[Закрыть] и, суя ей клок зеленой травы, «наименовываем» «буренушка». Но мы повторяем – «всадник вверже в море», тот «всадник» увит паутиною, ария не только замолкла, но и забыта, она навек не восстановится; «свет преставися», т.е. переставился… и в этом новом мiре, на новой земле, те словесные знаки, которые мы там произносили, те идейные отношения, «перемесившись физически», открываются под углом и в законе новой вскрывшейся перед нами головы, поющей незнаемые арии… Вот куда падают лучи, которые мы долго исследовали; родник «потусторонних» порывов к «пятилетней», и, может быть, «к птичкам», у которых захотелось «просить прощения»; в задумчивости остановился над ними Достоевский, ничего еще не понимая, отделив Раскольникова и Свидригайлова, голову и чресла, «всадника» и иное что-то, чтó больше всадника; отделив, и задумавшись, и забормотав о «пауках» и «бане»…
Но то, что испуганно началось этим жестом, пытливый художник не оставил; он трансформировался; создания его трансформировались; он не отрывал глаз от приковавшего его предмета, а «паутина все падала и падала»; были и в личной жизни поступки, «из тех, что всю жизнь лежат на совести и никто их не откроет», разве откроются они Тому, Кто сказал:
«раньше, чем Филипп позвал тебя, когда ты был под смоковницею – видел тебя», –
и каждый из них, как толчек в мысль, пробуждая, встревоживая, заостряя внимание, срывал новые клоки паутины и перемещал… Затуманился «всадник», темным пятном вырисовалось «что-то»; и гораздо ранее, чем он понял, что – его собственная природа, переменясь физически, сказалась слезами и молитвой, которые жгут страницы его последних книг. Но мы все свертываем к звукам, когда нам предстоит говорить о людях и поступках по сю сторону…
Угол нового отношения и воззрения, этот таинственный угол «хромоты» и «поврежденного бедра» есть новый, более не «товарищеский», не по «соседству», не по «идеям» и «мысли», не по предметам обсуждения, как «сдаваемая Москва», но угол «кровности», «отчества», «приподнимаемого края одежды». И как там, в лице, в мысли он обнимал мiр; этот же мiр в новых, пронизывающих, вертикальных лучах – обнимается теперь. «Всадник вверже в море»; не к кому более говорить «мещанину бьющему жену» и метод речей – не тот; но связь между Кутузовым и мещанином есть… теперь пронизывающая, вертикальная:
Слеза моих ланит – твоих ланит не обожгла ль?
И все «ланиты» «жгутся» «слезами» всех:
«И всякая тоска земная и всякая слеза земная – радость нам есть; и как напоишь слезами под собою землю на поларшина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься; и никакой, никакой горести твоей больше не будет» («Бес.» 133).
И, в последнем анализе, «ланиты» жгутся, земля омачивается потому, что
Не правда ль: говорят
Ты на нее похож?
То космическое, пронизывающее понимание и эта космическая, пронизывающая любовь, как, наконец, и космический свергающий гнев (собственно – рвущийся к любви, рвущий других на любовь, всегда) есть sexual’ной природы и «отчество» к мiру есть вывод и последствие sexual’ной как бы развернутости мiра, как бы себя перед мiром sexual’ной же разверженности…
Комментарии
С. 165. А годы идут – все лучшие годы – М.Ю. Лермонтов. «И скучно, и грустно…» (1840) (А годы проходят…). Розанов цитирует, как в «Подростке» Достоевского (ПСС. Л., 1975. Т. 13. С. 352).
Если б я сочинял оперу, то, знаете, я бы взял сюжет из Фауста – Ф.М. Достоевский. Подросток. III, 5. Далее Розанов продолжает цитировать текст романа «Подросток».
День гнева, сей день – начало заупокойного католического гимна (Соф 1, 15).
С. 166. Дори-носима чин-ми – слова из Херувимской песни.
«Моя осанна сквозь горнило испытаний прошла…» – Ф.М. Достоевский. ПСС. Л., 1984. Т. 27. С. 86 («…через большое горнило сомнений моя осанна прошла, как говорит у меня же, в том же романе, черт»).
«Лавка древностей» – роман Ч. Диккенса (1841; рус. пер. 1843).
С. 174. «Милый друг» – роман Г. де Мопассана (1885; рус. пер. 1885). Л.Н. Толстой писал об этом романе в предисловии к собранию сочинений Мопассана (М., 1894).
С. 175. вьель-фильки – старые девы (фр.).
С. 177. И всеми тайнами лобзанья… – А.С. Пушкин. Египетские ночи (1835).
С. 186. «Слезы, пропитывающие землю до самого ее центра» – Ф.М. Достоевский. Братья Карамазовы. Глава «Бунт»: «слезах человеческих, которыми пропитана вся земля от коры до центра» (ПСС. Т. 14. С. 222).
С. 188. «бездна внизу» – О «двух безднах» говорил прокурор в «Братьях Карамазовых» Ф.М. Достоевского (ПСС. Т. 15. С. 129).
С. 196. «времени больше не будет» – Откр 10, 6.
С. 203. Вавилонская башня – легендарное строение древности, которое должно было прославить строителей и бросить вызов Богу (Быт 11, 1–9).
С. 207. Завет Предвечного храня… – М.Ю. Лермонтов. Пророк (1841).
С. 210. Посыпал пеплом я главу… – М.Ю. Лермонтов. Пророк (1841).
С. 213. И гад морских подземный ход… – А.С. Пушкин. Пророк (1826).
C. 223. «Бе… бе… бе…» – Розанов по-своему передает содержание сцены смерти старого князя Болконского в «Войне и мире» (3, 2, VIII).
С. 232. Было робкое смущенье, Были нежные слова – Ф.М. Достоевский. Братья Карамазовы. 3. V. («Было милое смущенье»). В ПСС Достоевского источник этих строк не указан.
С. 239. Муж – не господин своего тела – 1 Кор 7, 4.
С. 241. И времени полет его не сокрушит – Г.Р. Державин. Памятник (1795).
С. 246. …воспоминание, записанное в 1879 году – речь идет о «Дневнике писателя. 1873» Достоевского, глава XVI «Одна из современных фальшей» (ПСС. Т. 21. С. 133).
С. 247. «Отрывок начатой повести» – отрывок М.Ю. Лермонтова «Я хочу рассказать вам…» впервые был напечатан в сборнике «Вчера и сегодня» (СПб., 1845. Кн. 2) под названием «Из бумаг покойного. Два отрывка из начатых повестей». Цитату, с которой начинается глава, см. в книге: Лермонтов М.Ю. Собр. соч.: В 6 т. М., 1957. С. 191.
С. 248. …мелкий бес из самых нечиновных – Здесь и далее Розанов продолжает цитировать «Сказку для детей» (1841) Лермонтова.
С. 249. «Николай Всеволодович если верит – то он не верит, что верит; а если не верит, то он не верит, что не верит» – Кирилов в «Бесах» говорит: «Ставрогин если верует, то не верует, что он верует. Если же не верует, то не верует, что он не верует» (ПСС. Т. 10. С. 469).
«Надрыв в избе» и «На улице» – названия глав романа «Братья Карамазовы»: «Надрыв в избе» и «И на чистом воздухе».
С. 250. Ponto di Rialto (Мост Риальто) – самый известный мост в Венеции и один из символов города. Каменный мост через канал был построен в 1588–1591 гг. Упоминается как торговый центр в пьесе Шекспира «Венецианский купец» (1596).
С. 251. «Скучно на этом свете, господа…» – заключительная фраза повести Н.В. Гоголя «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1834).
С. 254. «Степи, степи – как вы хороши у Гоголя» – В.Г. Белинский. О русской повести и повести г. Гоголя» (1835) («Чорт вас возьми, степи, как вы хороши у г. Гоголя!»).
Так царства дивного всесильный господин – стихотворение М.Ю. Лермонтова «Как часто, пестрою толпою окружен…» (1840) цитируется неточно («бросить им в глаза железный стих»).
…Казбек, как грань алмаза – М.Ю. Лермонтов. Демон. 1, III. То же и далее («львица с косматой гривой»).
С. 256. И звук его песни в душе… – М.Ю. Лермонтов. Ангел (1831).
С. 257. Я, Матерь Божия, ныне с молитвою – М.Ю. Лермонтов. Молитва (1837).
С. 258. Он пел о блаженстве безгрешных духов – М.Ю. Лермонтов. Ангел. (То же далее).
С. 260. Чети-Минеи (Четьи-Минеи) – помесячные чтения жизни православных святых, сложившиеся в Византии в IX в.
Барсуков, XI, 520 – речь идет об одиннадцатом томе книги Н.П. Барсукова «Жизнь и труды М.П. Погодина» (СПб., 1888–1910. Т. 1–22). Розанов неоднократно писал о выходящих томах этого издания. Так, в 1896 г. он писал о вышедшем десятом томе труда Барсукова в статье «Еще добрые люди на Руси» (РО. 1896. № 4).
С. 262. Мутно небо, ночь мутна… – А.С. Пушкин. Бесы (1830). То же далее.
То был ли сам великий сатана… – М.Ю. Лермонтов. Сказка для детей (1841).
С. 263. …с тайным содроганьем… – М.Ю. Лермонтов. Ребенку (1840).
Младенца ль милого ласкаю… – А.С. Пушкин. «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» (1829).
…Не правда ль, говорят… – М.Ю. Лермонтов. Ребенку. То же далее.
С. 265. Дам тебе я на дорогу… – М.Ю. Лермонтов. Казачья колыбельная песня (1840). То же далее.
С. 266. И многие годы неслышно прошли… – М.Ю. Лермонтов. Три пальмы (1839). То же далее.
С. 267. Дальше – вечно чуждый тени… – М.Ю. Лермонтов. Спор (1841). То же далее.
С. 270. И над ним, как снег бела… – М.Ю. Лермонтов. Дары Терека (1839).
И странник прижался у корня чинары высокой… – М.Ю. Лермонтов. Листок (1841).
С. 271. Но к страстным лобзаньям, не зная зачем… – М.Ю. Лермонтов. Русалка (1832).
И тьмой, и холодом объята… – М.Ю. Лермонтов. «Гляжу на будущность с боязнью…» (1838).
С. 272. Ты – пылен и желт, и сынам моим свежим не пара… – М.Ю. Лермонтов. Листок.
И солнце жгло их желтые вершины… – М.Ю. Лермонтов. Сон (1841).
С. 273. Когда волнуется желтеющая нива… – одноименное стихотворение М.Ю. Лермонтова 1837 г.
С. 274. И месяц, и звезды, и тучи толпой… – М.Ю. Лермонтов. Ангел (1831).
С. 276. …наш Паскаль – Осенью 1887 г. Л.Н. Толстой писал П.И. Бирюкову (5 окт.), В.Г. Черткову (10 окт.) и Н.Н. Страхову (16 окт.), что в третий раз в жизни перечитал книгу Гоголя. В письме к П.И. Бирюкову он говорит о критике Белинским «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя: «Пошлые люди не поняли, и 40 лет лежит под спудом наш Паскаль». У Розанова приведен сокращенный вариант письма Толстого к Черткову.
Провозглашать я стал любовь… – М.Ю. Лермонтов. Пророк (1841). То же далее.
С. 278. И вынул грешный мой язык… – А.С. Пушкин. Пророк (1826) («И вырвал грешный мой язык»).
Ревет ли зверь в лесу глухом… – А.С. Пушкин. Эхо (1831).
…во время переписи в Москве, что-то около 1879 года – Л.Н. Толстой участвовал в переписи населения Москвы в январе 1882 г. и выбрал себе один из самых бедных районов около Смоленского рынка (Проточный переулок).
С. 279. Киновия – общежительное монашество.
С. 280. кинокефалы – у греческих историков и писателей (Геродот, Гесиод) люди с собачьими, волчьими, шакальими головами.
С. 282. Дай ей сопутников, полных внимания… – М.Ю. Лермонтов. Молитва («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…») (1837).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































